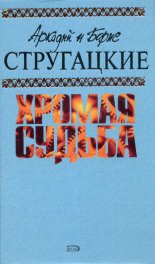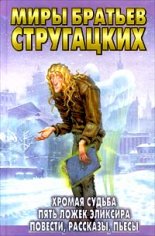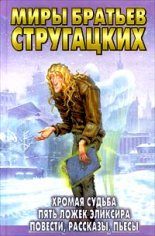Обмен ненавистью Вершинин Лев

1
…неправдоподобно белые кафельные стены. И мертвый неоновый свет, опоясывающий камеру, скрадывает тень.
— Вы готовы?
Никак не привыкну к этому тусклому голосу. И глаза над голосом тоже тусклые, даже и не глаза, а две гладкие свинцовые бляшки, но оторваться от них нет сил; поэтому сегодня я опять не сумею увидеть это лицо, хотя из раза в раз обещаю себе, что заставлю себя его разглядеть.
Кто знает — возможно, удайся это, и я найду наконец силы сказать: «Нет!»…
— Да, — слышу я словно бы со стороны. — Да, готов.
В сизых бляшках — торжество. Впрочем, нет, скорее привычная скука: все известно заранее, все исчислено и подытожено; так чего же ради торжествовать?
— Вот и славно.
И нет тусклого.
Исчез.
А свет все резче, и кафель еще белее, он белый, как первый снег, хотя и банально сравнивать белизну со снегом — а с чем же еще сравнивать, если никто пока что не придумал ничего более белого, чем свежий снег?
И халат на мне хрустит отутюженным крахмалом. И зеркала — громадные, в полстены — многократно отражают меня, бледного и сосредоточенного, а рядом — сияющий эмалью столик с инструментами, а чуть впереди — кресло, словно прикованное к линолеуму фиолетово-белыми лучами юпитеров.
Я не думаю ни о чем; даже если бы мог, я постарался бы не думать. Так легче; слишком хорошо я знаю все, что сейчас будет. А то, что сидит в кресле, пристегнутое зажимами, знает еще лучше — и негромко скулит, даже не пытаясь вырваться. Как вырвешься? Даже голова притянута к спинке узким ремешком, плотно захватившим лоб.
Противно.
Но что поделаешь, если я снова сказал тусклому: «Да»?
— Здравствуй, Аннушка…
Как гадко! — хуже, чем издевательство, здороваться, глядя в вытаращенные предчувствием глаза. Но таков Ритуал. Не мной он придуман, и не от меня зависит, что говорить и говорить ли вообще; сценарий утвержден раз и навсегда, и даже сожми я до хруста зубы, даже прикуси язык, все равно прозвучит это проклятое «Здравствуй…».
Глаза под ремешком замирают, уставившись в одну точку; точка эта где-то посреди моего лба. Я не отражаюсь в зрачках, там нет ничего, кроме ужаса, как обычно, стоит ей лишь увидеть меня. Позже глаза застынут и даже поскуливание прекратится, чтобы смениться воем, когда начнется Ритуал.
Я пытаюсь медлить. Я медлю очень долго, секунды две, а то и четыре; кажется, еще чуть-чуть, и мне удастся сломать в себе нечто, повернуться и выйти — тогда я не приду сюда никогда больше, и не станет тусклого, и кончится этот бесконечный белый кошмар…
Но я не глядя протягиваю руку за спину, к столику, и мне подают первый инструмент. Я не знаю ассистента и никогда не увижу его, он невидим и неслышим, зато расторопен и услужлив. Те, кем придуман Ритуал, вышколили его на совесть…
…и ладонь коротко сводит нежным холодком доясна вычищенного металла.
Это лобзик. А в прошлый раз были иголки. Единственная вариация, допущенная Ритуалом, но даже и она определяется не мной.
Что поделаешь? Лобзик так лобзик.
Я подправляю юпитер, который слева, и нагибаюсь.
И белый вой хлещет по кафелю! — да так, что мгновенно краснеет белоснежная простыня. То, что в кресле, визжит и извивается, глупо и безнадежно пытаясь вырваться из ремней и зажимов.
Хруст.
Лобзик с лязгом падает в эмалированный таз, и мельчайшие багровые брызги рассыпаются по идеальной белизне.
Я обтираю перчатки полотенцем, стараясь не слышать визга. Ну что ж ты, Аннушка, не нужно, побереги лучше силы, кричать-то зачем, тем паче сейчас, мы же сейчас отдыхаем… а силы тебе понадобятся еще, ведь я пока что, считай, даже и не начинал.
Но она не хочет быть логичной, она вопит, да так, что я бы сошел с ума, уже бы сошел… но меня, видимо, готовят перед Ритуалом так, что я всегда довожу его до конца; она кричит! — это не крик разумного, ибо разум ее отключился почти сразу; это вопль живого тела, которому больно и которое знает, что это еще не боль, это пустяки, а боль впереди, потому что я сейчас возьму тонкие щипчики со спиртовки…
А я не могу кричать: в горле комок, но я знаю, что вытолкну его и тоже завою через минуту, потому что без крика нельзя ни делать, ни видеть того, что я сейчас сделаю и увижу…
…нельзя, нельзя…
…вот они, щипчики…
…я поднимаю руку, примериваюсь…
…и…
…руку перехватывают на полпути к воплю.
— Не стоит, Леонид Романович. Право же, не стоит.
Он чуть сильнее сжимает пальцы, и щипчики падают на пол.
Я не могу мыслить трезво, но даже в полубреду вдруг понимаю, что случилось невероятное и Ритуал нарушен. Передо мной — молодой человек, впрочем, нет, скорее — человек моих лет, так что не очень уж и молодой. Он в элегантном сером костюме-тройке, галстук в тон, и ни пятнышка белизны, ни единого! — даже рубашка строгого кремового оттенка.
Он совсем чужой; он непредставим здесь, среди белого кафеля.
И он улыбается.
Сочувственно, немного грустно.
— Вы ведь согласны, что это ненормально, Леонид Романович?
И, выдержав паузу:
— Да знаю я все. Только не нужно это, право же…
Славно звучит это «право же», изумительно мягкое, словно бы даже с легчайшей картавинкой, староинтеллигентской этакой всероссийской картавинкой, от гувернантки во младенчестве впитанной.
И, представив себе эту гувернантку в твердом чепце, я прихожу в себя. Исчезла дрожь, и в глазах не стелется бело-красный туман, и все вокруг плывет и тает, кроме умного, спокойного лица под безукоризненным пробором.
Да кто ж ты такой, человече?
— Об этом мы еще поговорим, Леонид Романович. — Он улыбается, и в уголках глаз собираются нежные морщинки. — Обязательно поговорим. Но не здесь же, в самом-то деле. Не место здесь вам, батенька, право же…
Он слегка дует по сторонам. Совсем не сильно. Но от дуновения этого, почти неощутимого, бело-кафельный ад начинает оседать и пропадает, развеивается медленной пылью, и только Аннушкин визг все не унимается, все прыгает от стены к стене, отскакивая и мерцая в угасающих неоновых бликах.
— Я зайду к вам позже, — мягко говорит незнакомец.
А визг звенит все тоньше и тоньше, он заполняет все, весь мир, он уже не похож на визг, нет, это пронзительная трель зашедшейся в приступе бензопилы — но и это не то: бензопила воет резко, а здесь силы не хватает, это скорее дверной звонок… в кнопку ткнули пальцем и не отпускают — и он, срываясь, хрипя, булькая, все пищит, и пищит, и пищит…
И я просыпаюсь.
2
Я просыпаюсь в холодном поту.
Нельзя привыкнуть к этому сну. Особенно теперь, когда он повторяется из ночи в ночь. Раньше было реже. Зато раньше я постоянно думал об Аннушке наяву; я думал и представлял себе в мельчайших подробностях Ритуал — и наконец пришел этот сон, чтобы стереть грань между собой и явью.
Но к нему нельзя привыкнуть.
Простыни скомканы, сбились набок, я лежу на голом матрасе, а в ушах звенит…
…дверной звонок. Реальный до идиотизма.
Потому что уже — ого! — без четверти одиннадцать, и, значит, тетя Вера, почтальон, стоит перед дверью, и звонит, и злится, потому что вовсе не обязана этого делать. Я просил ее не бросать почту в ящик — его поджигают юные пироманы, — и она согласилась, хотя и ворчит, что, пока меня добудишься, весь участок обойти можно.
Я вскакиваю, стряхивая обрывки кошмара; я пронзительно ору: «Идууууу!»
— и, накрутив на бедра плед, мчусь к двери. Этот плед смешит тетю Веру, и она ругается не то чтобы меньше, но как-то мягче, по-матерински, что ли: мол, тебя бы в хорошие руки, Ленюшка, а то уже совсем непонятно, на кого похож…
Щелкает замок.
Это не тетя Вера.
Это он.
Строгий серый костюм-тройка. Галстук в тон. И прокрахмаленная до ломкого скрипа — даже на взгляд — кремовая рубашка.
И он улыбается.
— Доброе утро, Леонид Романович. Или, скорее, добрый день?
Это доносится уже из комнаты. Когда он успел войти? Я не знаю. Видимо, я на секунду отключился, увидев его. Но упрекать себя за малодушие было бы лицемерно.
— Ну где же вы, друг мой?
Снова эта картавая интеллигентская капризинка. Он сидит в кресле около журнального столика, столик протерт от пыли, на салфетках две чашечки с дымящимся кофе, сахарница, вазочка полна бисквитов. Вчера, кстати, там была только безнадежно одинокая конфета «Чародейка», по старости обреченная на вечную жизнь.
Кто-то не поверит! — но меня не удивляют ни кофе, ни бисквиты, ни вся эта абсолютно булгаковская сцена; более того, я спокойно сажусь напротив него, накинув край пледа на плечо, и если меня что-то и тревожит, то только полное отсутствие удивления.
— А зачем же нам нужны лишние эмоции? — разводит руками гость. — Совсем не нужны. Кстати, можете звать меня Володей.
И, чуть помедлив, добавляет:
— А чтобы между нами не было неясностей, я покажусь вам таким, каков есть.
На долю секунды он мутнеет, а потом превращается в огромного сизо-зеленого жука, точнее — не вполне жука, но в существо, более всего похожее на земных жуков. Вот разве что вместо лапок у него щупальца, а брюхо словно бы выложено из семиугольной смальты.
Вот теперь мне ясно, почему я так спокоен. Видимо, он принял для этого меры, потому что в противном случае ему очень долго пришлось бы ждать разговора со мной.
— Разумеется, принял, — усмехается он, теперь уже опять человеческой и даже очень симпатичной улыбкой. — Мне же с вами поговорить нужно, а не инфаркт провоцировать. Итак, я — Володя.
Как могу, изображаю приветливое лицо и выжидательно смотрю на гостя. Я
— весь внимание.
Володя одобрительно подмигивает… впрочем, нет! — подмигнуть было бы слишком вульгарно для столь лощеного джентльмена; он просто поводит бровью и, отхлебнув кофе, тихо, почти по слогам, выдыхает одно-единственное слово:
— Аннушка.
Готово. Меня передергивает. Ладони леденеют. Это плохо, это ненормально, я знаю, но поделать с собой не могу ничего: резиново прыгают губы, перед глазами мгла, и сквозь мглу проглядывают веселые, немного кошачьи глаза на холеном миловидном личике…
…Аннушка…
…и моя дочка, Аленочка, крепко обнимает меня за шею и шепчет: «Папочка, папа, не уходи» — и никак не хочет оторваться…
…и снова обаятельная улыбка, пухлые руки…
…и Марина, жена моя, нежно гладит эти руки и оловянными от преданности глазами ест свою лучшую подругу, объясняющую ей, как жить и почему без меня вполне можно обойтись…
…"Маришенька, ангел, разве нам плохо с тобой?..»
…и Славкина жалеющая гримаска: «Старик, ну пойми, ну бывает, в Дании их даже регистрируют»…
…в висках чмокающий стук…
…и дом мой, ставший расхристанной берлогой затравленного подранка…
…Аннушка…
…и все это вместе — ненависть, бессильная ненависть, сводящая с ума, трусливая ненависть слабовольного интеллигентишки, который не имеет права позволять себе сильные страсти…
…во всяком случае, наяву.
Щемит сердце, гудят виски, еще немножко, и я…
И я прихожу в себя.
Полное спокойствие. Володя откидывается на спинку кресла, и кресло деликатно всхлипывает. Кажется, он подул мне в лицо.
— Как видите, я позволил себе заглянуть не только в ваши сны, но и в ваши мысли, — мягко говорит Володя. — Но, поверьте, отнюдь не из праздного любопытства. Напротив…
Теперь он говорит, словно не видя меня. Словно знает, что я буду слушать. И не ошибается. Я слушаю. Очень внимательно. Не пропуская ни слова. Как никого в жизни.
— Леонид Романович, — говорит Володя, — мы с вами взрослые люди… то есть я, конечно же, не человек для вас, как и вы для меня, но мы разумны и взрослы и, значит, всегда сможем понять друг друга, а следовательно, назвать нас людьми не столь ошибочно, как может показаться на первый взгляд…
У него странная, непривычная манера говорить. Сейчас так не умеют — обстоятельно, с отступлениями, с разъяснениями, с обволакивающими паузами; такую манеру мы давно и под самый корень извели вместе с уроками закона Божьего, казачьими чубами и правильно расставленными ударениями; нет больше этого искусства, нет и не будет, — и, слушая плавный Володин говорок, я окончательно осознаю, что передо мной — существо не из нашего мира, отнюдь; я понимаю это гораздо ярче и яснее, нежели в тот миг, когда увидел зеленого жука, чопорно сидящего в кресле.
— Итак, Леонид Романович, — продолжает Володя, — я полагаю, вы признаете, что ненависть утоляют не муки недруга, но его физическое исчезновение. Истязать подобного себе не просто недостойно. Это бессмысленно, гадко и даже, простите за прямоту, патологично. Вы на пороге паранойи. И, поверьте, я вас понимаю. Вы согласны со мной?
Он переводит дыхание, глядя мне в глаза. Я медленно киваю. Зачем оспаривать собственный ужас и свою же неспособность преодолеть отчаяние?
— Бессмысленно, Леонид Романович. Это непреодолимо. Нет ничего страшнее бессильной ненависти. Вам вдвоем тесно. Ведь так?
И вдруг голос его срывается в наждачный хрип:
— Но вы не можете сделать этого. Не можете уничтожить подобного себе. А еще вы учитываете последствия. Социальные последствия! Так или нет?
И снова он прав. Не нужно даже показывать это.
— Ну а если так…
Володя выпрямляется. Он неотрывно смотрит глаза в глаза, и я вдруг вижу, что веки его воспалены и в желтизне зрачков застыла мутная непроглядная тоска. Мне страшно; я словно смотрю в зеркало.
— Если так, Леонид Романович, я предлагаю вам обмен ненавистью!
Кончилась выдержка! Он говорит теперь быстро и сбивчиво, путаясь, сам себя перебивая и одергивая, как я сам изредка, когда молчать совсем уже невмоготу и нельзя не сорваться в хрип, и слава Богу, если только в хрип, а не в слезы.
У Володи беда. Такая же, как и у меня. Или не такая. Неважно. Суть обиды мне не понять, как и Володе непонятна суть моего чувства к Аннушке. Но мы связаны. Импульс ненависти, понятно, Леонид Романович? Нет? Ну и не надо. Главное мне ясно. Самое главное, что мы — и больше никто! — способны друг друга спасти.
— Только минута, Леонид Романович! Одна минута объективного времени. И у нас, и у вас. Может, и меньше. Но вы будете лицом к лицу с ним, и вы его узнаете. А я — здесь — узнаю ее. Вам ясно? Минута — это очень, очень много. После — обратный обмен.
Невероятно, но он достает из кармана «беломорину», заламывает мундштук, чиркает спичкой и глубоко-глубоко затягивается. Пальцы у него ярко-желтые от табака, я только сейчас это заметил. А на щеках выступают ярко-красные пятна.
— Вы понимаете? Понимаете? Алиби, полное алиби! Вы сейчас дома, свидетелей десятки. Она в другом городе, не так ли? Очевидцам даже не поверят, когда они станут лепетать про зеленого жука… как не поверят и тем, кто в моем мире увидит чудовище, подобное вам… простите, Леонид Романович…
Третья затяжка — и в ноздри бьет вонь паленой бумаги.
Володя давит окурок в кофейной гуще. Теперь его никак не назовешь лощеным джентльменом.
— И последнее. Запомните хорошенько: вы не убийца. И никогда им не были. Вы раздавите жука. Мерзкого зеленого жука. Существо. Нечто. Больше того, возможно, это будет всего лишь наваждением, как и весь наш разговор. Вы ведь меня понимаете?
Он с силой провел по лицу ладонью — сверху вниз. Помолчал. И закончил фразу почти спокойно:
— Разумеется, эти же доводы действительны и для меня.
Если бы в висках не постукивали крохотные острые молоточки, я решил бы, что тоже почти спокоен. Но они частили. Да еще в груди, чуть ниже солнечного сплетения, ворочался тяжелый сгусток, подталкивая вверх тошноту.
Миловидное, несколько кошачье, совсем немножко подкрашенное лицо мелькнуло перед глазами, заслонив Володю. Аннушка посмотрела словно бы даже жалеючи, с эдаким привычно-презрительным превосходством. И когда трудно, словно сквозь вату, в уши пробился медленный голос, совсем незнакомый, я не сразу понял, что этот голос — мой.
— Гарантии?
— Абсолютные! — откликнулся Володя. — Ненависть размыкается в момент удовлетворения. Вы не сможете вернуться из моего мира, не сделав необходимого. Я соответственно из вашего.
Мы встали одновременно, словно связанные пуповиной. В сущности, так оно и было на самом деле.
— Итак, Леонид Романович, вы окажетесь прямо перед ним…
— Простите, Володя, но я еще не…
— Ошибаетесь, друг мой. Вы уже решили.
Он опять улыбнулся. И эта улыбка была последним, что увидел я перед тем, как полыхнула вспышка, а может быть, вовсе и не вспышка, я не знаю, как это назвать — мгновенный, ясно слышимый вскрик всех оттенков красного, от нежно-розового до темного, почти фиолетового пурпура; она ударила меня вхлест, до боли, и разошлась радужными кругами, а когда круги поблекли и улеглись, я стоял на черной земле почти по колено в мельчайшей сине-зеленой пыли, и вокруг замерли в странных позах зеленые, сизые, темно-серые жуки; ветер свистел в ушах незнакомым свистом, я никогда не слышал такого ветра, и запахи рвали грудь — чужие запахи чужого мира…
…но я почти не видел окружающего, потому что прямо передо мной стоял жук, такой же, как и все, — или не такой?! — он ничем не отличался от прочих, совсем-совсем ничем…
…но, глядя на него, я ощутил, как мгновенно морозные иголки ударили в кончики пальцев, мягко подломились ноги, под ложечкой шевельнулся горячий ком…
И я уже знал, что нам двоим — мне и этому, конкретно этому и никакому иному жуку — тесно на Земле, на его Земле и на моей, и на всех Землях, сколько их там есть, тесно…
…и что один из нас не уйдет с этого места.
А он стоял, замерев в непонимании и страхе передо мной, непонятным и чужим, но спустя миг, видимо, понял что-то и торопливо взмахнул верхним левым щупальцем, целясь мне в лицо; щупальце кончалось когтем, острым, как золингенское лезвие моего деда, и оно летело прямо в цель, но я был готов чуть раньше…
…и я ударил его изо всех сил — по граненым глазам и вниз, ломая усики…
…шею опалило острой болью, но все это было уже бесполезно: жук отжил свое… и я прыгнул на него, упавшего, с хрустом проломил мозаичное хитиновое брюшко, провернулся на месте и еще раз подпрыгнул, разбрызгивая синеватую слизь…
И в этот момент меня ослепило коротким сполохом.
Я зажмурился. А когда огненные переливы стихли, не было вокруг ни черной земли, ни серой пыли, ни жуков.
Ни даже кофе и бисквитов.
Только мокрая от пота постель и я, трясущийся в ознобе. Да еще боль в неловко подвернутой шее. И мелкий, занудливый комариный писк, неумолчное «зззззззз», то подпрыгивающее, то снова монотонно впивающееся в мозг; звенело, привзвизгивало, подзвякивало; все сильнее, и сильнее, и еще сильнее, словно после аттракциона-центрифуги.
Это невозможно было вытерпеть…
3
…и я проснулся.
Меня вообще-то сложно разбудить, именно поэтому я и поставил такой звонок — резкий, как плетка, вматывающийся в нервы. Правда, тогда я еще работал в школе, а в школу опаздывать никак нельзя; на завод тоже, наверное, нельзя, но все же школа — это святое: дети не фрезерные станки, это люди, их следует уважать, если хочешь, чтобы они захотели взять у тебя что-то. А я хотел. И, больше того, видимо, что-то получилось, если они по сей день захаживают ко мне на огонек.
А гонорары пошли уже потом. Я сначала не поверил, потом поверил и удивился, а потом привык, обрел свободу и зажил относительно вольной жизнью литературного шакала. Звонок теперь был анахронизмом, но проклятая привычка ложиться не раньше трех привела к тому, что просыпаюсь около полудня, а это плохо. Поэтому я не стал менять визгливое чудо на что-либо манерно шелестящее. Пускай будят. Тем паче, тетя Вера с почтой долго ждать не любит.
Я сорвался с кровати, словно горный орел, красивым, плавным прыжком вынесся к двери, распахнул ее и озадаченно выглянул на идеально пустую лестничную клетку. Никого и ничего. А в дверь, между прочим, звонили, пока я не щелкнул замком…
Некоторое время я безрадостно размышлял о слуховых галлюцинациях. Потом затворил дверь, опустил собачку, покачал головой…
…и вскрикнул.
Шею больно щипнуло.
Я подошел к зеркалу. Небритое, сильно помятое лицо хмуро поглядело на меня тоскливыми глазами. Привычное, нелюбимое, но единственное. Очень знакомое. Вот только не было вчера этого шрама. Вернее, даже не шрама, а царапины — глубокой, правда, но царапины, тонкой и прямой, словно кто-то исхитрился полоснуть вдоль щеки до самой шеи золингенским лезвием, но не рассчитал, удар вышел слабый и, вместо того чтобы перехватить глотку, всего лишь оцарапал кожу.
Однако же, подумал я. У религиозных фанатиков бывает так: доводят себя до воплощения страстей Господних наяву. А тут у тебя, парень, без всякого фанатизма шрамы возникают. Хотя… как сказать.
Снова кольнуло. Щека дернулась. И я понял, хотя и не сразу, что не могу остановить тик. Отчетливо вспомнился сон. Всего лишь сон! — но с хрусткой ясностью привиделся жук; он стоял передо мною, слабо шевеля щупальцами, и усики его мелко дрожали.
Господи, да ведь ему было страшно, вдруг понял я. Очень страшно и очень больно. Ведь это действительно больно, когда восемьдесят три кило живого веса прыгают на хрупкий хитин, проламывают грудь и утопают в ней почти по колено. И последняя мысль: за что?!
Спокойно, парень. Я сильно ущипнул себя за ухо и обрадовался, почувствовав боль. Не ту, от которой умираешь, а нормальную боль бодрствующего человека. Спокойно. Это — сон. Всего лишь. Бывает. Успокойся. Иначе свихнешься прямо здесь, в собственной прихожей.
Подожди до вечера. Вечером Славка придет с работы, и ты пойдешь к нему. Вообще-то в последнее время мы общаемся чересчур редко, во всяком случае всерьез, чаще просто легкий треп в смешанной компании. Раньше было иначе. Хотя раньше мы были помоложе. И потом, у бизнесменов вечно нет времени. А с другой стороны, время — деньги, а какой же это бизнесмен, если у него нет денег? А еще с одной стороны, откуда у них деньги при таком правительстве, тем более в такой стране?
Лучше всего успокаивают нервы забавные логические цепочки. В конце концов Славка по крайней мере умеет выслушать. Может, в том и штука, что слишком редко удается выговориться…
Тик унялся. Парень в зеркале не стал менее помятым, спутанные волосы липли ко лбу, обнажая совершенно наглую утреннюю лысину, но щека, слава Богу, разгладилась.
— Спасибо! — внятно поблагодарил я нервную систему. Не скажу, что мой голос ангельски музыкален, но это еще одно доказательство, что я наконец проснулся.
А еще можно поглядеть в окно.
Я прошел на кухню, настежь распахнул створки и перегнулся через подоконник. Четвертый этаж уже позволяет хлебнуть синевы, не подпорченной выхлопными газами.
Внизу торопливо, как в старом фильме, суетились люди, выныривая из-под зеленых крон. Листва уже довольно густа; если сейчас прыгнуть вниз, то задержать не задержит, но в морг доставят сильно поцарапанным.
Все сильнее щипала щека; царапина обиженно напоминала о себе. Я прикрыл створки, оставив открытой форточку; открыл аптечку, добыл йод и пластырь. Теперь вата. Я пошарил пальцами внутри аптечки, и что-то мягко шлепнулось на стол, сорвавшись с верхней полки. Вернее, не что-то. Совсем даже не что-то. Пачка, перетянутая черной аптечной резинкой. Толстенькая, сантиметров пять, не меньше. А может, и меньше. Не ручаюсь. Раньше мне как-то не приходилось мерить сантиметрами портреты великого физика Франклина.
— Спокойно, — сказал я вслух, уже не для системы, а для себя. — Спокойно, Ленчик. Это не лобзик. Это деньги.
Действительно, это был совсем не лобзик. А деньги. И даже очень деньги. Зеленые купюры, слегка потрепанные, но именно слегка, а вовсе не замусоленные, во всяком случае те, что сверху; внутри пачки, вполне возможно, были и не такие кондиционные.
Я присвистнул.
— А вот это зря, сынок, — сказали за спиной. — В доме свистишь — удачу выдуваешь. Иди-ка сюда.
Свободно развалившись в кресле, перед журнальным столиком сидел немолодой, но весьма крепкий на вид мулат с благородной, коротко подстриженной сединой и спокойным, незапоминающимся лицом. В одной руке он держал рюмку, а другой медленно вливал в еще одну емкость янтарный напиток из пузатенькой бутылки.
— Ну чего стоишь? Присаживайся! — он и не пытался изображать денди, но грубоватость была незлобивой, почти приятельской. — Давай-давай, сколько ждать можно?
— Одну минуту, — ответил я.
— И штаны надень. Молод еще с дядькой без штанов говорить.
Я торопливо натянул брюки, накинул футболку, пригладил волосы, сел напротив визитера и спросил впрямую:
— Вы сон или не сон?
Тон я сделал то что надо — отрывистый и напористый, под Глебушку Жеглова. Старик, однако, попался матерый и напором моим нисколько не озаботился, а только хмыкнул:
— Ты что, парень? Разве сон коньяк пить будет?
— Значит, вы от Володи?
— Володи? — седые, плохо подстриженные брови недоуменно приподнялись. — А-а, Володя… Ты про этого… — Он произнес нечто невразумительное, поморщился и покачал головой. — Еще чего. С ним другие побеседуют.
Быстрый взгляд на часы.
— Думаю, уже побеседовали. Не мое дело. Мое дело с тобой поболтать, сынок…
Он лезет в карман и кладет на столик пачку баксов. Ту самую, стянутую аптечной резинкой. Как он добыл ее из кухни, даже не поднявшись, остается гадать.
— Держи. Твое! — он перегнулся через столик и хлопнул меня по плечу. — Ежели чего другого нужно, говори. Разменяем. А то с первого раза хрен разберешься.
— Простите?
Едва ли стоило удивляться так ненатурально. Старик пожал плечами и прищурился.
— Не делайся пнем, парень, не надо. Не люблю. Лучше коньяк пей.
По утрам я предпочитаю чай. Но, присмотревшись к прищуру мулата, решил выпить. И не пожалел.
— Ну?
— Ухх! — выдохнул я.
— Правильно, сынок.
Похожие на маслины глаза снова были широко раскрыты и искренне доброжелательны.
— Понимаешь, Леня, под старость с утра ничего лучше нет, чем коньячишко. Не ваш, ясное дело.
Он очень к месту сделал упор на вот это «не ваш». И после короткой паузы добавил:
— Ну что, Ленчик, показываться нужно или как?
Я торопливо качаю головой. Не надо, и так все ясно. Если я сейчас увижу зеленого жука, то могу не выдержать. Слишком ясно помнит тело, как трещит и булькает под ногами. Нет!
Кривую гримаску на синеватых губах можно счесть улыбкой; на миг обнажаются белейшие, один в один, зубы.
— Ясно мыслишь, сынок, — старик хмыкает. — Это я так спрашивал, все равно показываться нельзя, ради тебя же. Я ж не жук какой-нибудь… испарения всякие… а звать меня можешь, мммм, дядя Фил…
Короткая пауза.
— А еще лучше Феликсом Наумовичем.
— Очень приятно.
— Ну, парень, слушай…
Феликс Наумович садится прямо, и под тонкой шерстяной водолазкой медленно вздуваются громоздкие, совершенно не стариковские бугры. Он подкидывает пачку и ловит ее.
— Бумага, сынок, твоя. Забирать не будем.
Информация простая и приятная. Автоматически отмечаю, что с однокомнатностью, кажется, покончено. Но все же…