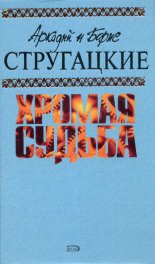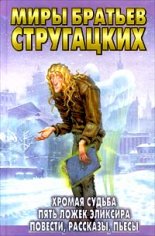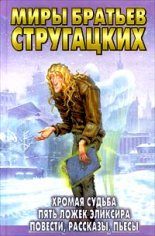Обмен ненавистью Вершинин Лев

— Не суетись, Ленчик! — он так спокоен, что я успеваю позавидовать. — Кто работает, тому платят. А ты хотя пока что не у нас, но уже успел. Так что, считай, аванс.
Я все еще не понимаю. Вернее, стараюсь не понимать. Но под ложечкой вдруг возникает холодок. А в тоне Феликса Наумовича проскальзывает, почти незаметно, уважительная зависть знатока.
— Ты его, сынок, чисто сделал. Без помарок. Давно мы к нему подбирались, ох давно. Но кто ж мокруху сработать может? Полудурка еще туда-сюда, а чтобы разумного…
Глубокий вдох. Выдох. И — бьюще:
— Тебе повезло, парень. Босс предлагает контракт.
У меня неплохая реакция. У Феликса Наумовича она, как и следовало ожидать, еще лучше. Пачка не долетает до его лица, он перехватывает ее, почти не двинувшись, подбрасывает, ловит и осторожно опускает на стол, ближе ко мне.
— А вот это зря. Ну ладно, на первый раз, считай, сошло. Тоже мне, миллионер… бумагой швыряться.
— Вон отсюда!
Но он не обращает внимания.
— Сноровка у тебя, сынок, есть, а вот ума пока маловато. Поэтому слушай, что говорю!
Не хочу слушать его. Но голос словно сел, и нет силы подняться, чтобы выкинуть незваного гостя, да, собственно, это и не выйдет: есть в Феликсе Наумовиче что-то, предостерегающее от попыток схватить за шиворот.
— Слушай, кому сказал!
И я слушаю.
Значит-ца, так. Есть некая организация. Что, как, где — этого мне знать ни к чему, проживу дольше. Работа там сложная, иногда приходится кое-кого и убирать. (Да не дрыгайся ты, — вставляет он, — не каждый же день.) Вот. А ликвидатором пахать высокоразвитое существо неспособно по… мммм… ну, в общем, физиология мешает. Отчего мне и предлагается. На постоянную. За гонорарами не постоят. Ну и технические детали фирма тоже берет на себя; понятно, за безопасность ручаются.
— Ты, Ленчик, молчи и смекай: пропасть не дадут, уж очень нужен. И потом, у тебя здесь, в твоем-то мирке, работы не предвидится еще лет семьсот. Не доросли вы еще до серьезных контактов.
— Но почему я?
Разве это я спросил? Но отвечает Феликс Наумович мне, ласково и очень серьезно:
— Да ты же ненавидишь, сынок! Думаешь, Аннушку свою? Да тьфу с ней, с Аннушкой… это ж такое дело: раз начал, и все, на всю жизнь обеспечен…
От тяжело вздыхает.
— Да ежели б я мог ненавидеть… они бы все у меня вот где сидели! Не бегал бы по мелочам на старости лет.
Я очень сильно сжимаю кулаки. Ногти врезаются в кожу, и боль приносит облегчение.
— Нет! — говорю я. — Вон отсюда!
Желтоватая кожа на щеках Феликса Наумовича слегка сереет; он очень плотно прищуривается, но сохраняет спокойствие. Из папки, лежащей на краю стола, добывает нечто и кидает мне.
— Гляди сюда, парень…
Ярким глянцевым пятном лежит на столике фотобуклет. Великолепно выполненный, на прекрасной плотной бумаге, едва ли не объемный. Минимум текста. И вся гамма синего и зеленого переливается на снимках.
На каждом — я. Я и жук.
Во всех ракурсах: слева, справа, фас, сверху, снизу, вполоборота, в еще какой-то совсем невероятной проекции.
Я! — но и не я. Лицо зверя: побелевшие, почти без зрачков, глаза, зубы оскалены, пальцы скрючены, и в уголках рта закипает белесая пена.
Вот: я бью жука по глазам. А вот: он падает и я прыгаю на него. И еще: я стою по колено в нем и проворачиваюсь вокруг своей оси, а в стороны летят брызги темной слизи; камера засекла момент поворота — все словно расплылось, но лицо видно отчетливо. И наконец: жук, лежащий на черной почве. Он раздавлен, хитин переломан и смят, расплющенный глаз висит на тоненькой ниточке, а над телом склонились несколько внушительных жуков в одинаковых черно-белых накидках.
Глотку сводит. Я пытаюсь встать; мне нужно успеть к раковине, пока коньяк не брызнул наружу. Но ноги словно из ваты. А тошнота медленно успокаивается, подчиняясь хрипловатому властному голосу Феликса Наумовича.
— Вот так, Ленчик. Так оно и бывает. Первый миллион налопатишь, тогда и кричи «вон». А пока что сиди тихо…
Я не заметил, когда он успел пересесть. Теперь он рядом, сидит на подлокотнике моего кресла.
— Думаешь, алиби у тебя, сынок? Пыль это, а не алиби. Ежели полиции ихней эти снимочки подкинуть, считай — кранты. Даже спрашивать у ваших властей не будут, какой смысл с недоразвитыми болтать. Изымут и «здрасьте» не скажут. А тянет работка твоя лет на семь каторги. А тамошняя каторга…
Он умолкает, на миг прижимается ко мне плечом, и в этот миг я узнаю, что такое тамошняя каторга. И одного-единственного мгновения мне хватает, чтобы ужаснуться и понять, что никогда и ни за что не хочу я оказаться в этом ядовито-зеленом, опутанном черными разрядами аду.
— Нет! — кричу я.
На самом деле это вовсе не крик, для крика нет сил после того, что показал мне Феликс Наумович. Но гостю хватает и хриплого шепота. Он встает, одергивает водолазку, небрежно сует в полуоткрытую папку буклет и отечески смотрит на меня.
Мы молчим. Я — потому, что нечего сказать. Он — потому, что знает: я сломан. Я согласен на все.
Уже у двери он останавливается.
— И главное, сынок, не трясись. Ты боссу сильно нужен, так что не пропадешь, если глупостей не наделаешь. Понадобишься — к тебе зайдут. Пока!
Феликс Наумович уже исчез, а слова все висят в воздухе, кружатся надоедливыми мухами. Их следует выгнать, но я не могу встать. Меня знобит. Болит щека, и губы искусаны в кровь: я чувствую соленый привкус во рту.
Очень сильно ноет зуб.
Кроме боли — ничего. Только одна мысль: проснуться, проснуться, проснуться, проснуться…
И я просыпаюсь.
4
Когда тетя Вера в гневе, лучше смириться и переждать.
Я стою, вытянув руки по швам, и старательно отвожу глаза, кошусь на кипу журналов, а с глянцевой обложки «Нового времени» мне подмигивает товарищ Евтушенко Евгений Александрович, снятый вполоборота в позе, изображающей совесть России. «СПИД — НЕ СПИТ!» — информируют алые буквы, вчеканенные в глянец вокруг кепки «больше, чем поэта». Лик Евгения Александровича иконописно гражданственен, словно бы заранее отвергая всякие подозрения в авторстве презренных стишков.
А тетя Вера бушует. Но я, заспанный, несчастный, так неухожен и покорен, что вековой инстинкт женщины из русского селенья постепенно усмиряет стихию.
Она протягивает мне кипу журналов и улыбается.
— Тебя бы в хорошие руки, Ленюшка, — звучит коронная фраза. — А то, пока добудишься, весь участок обойти можно.
Я вымученно ухмыляюсь в ответ.
Бессмысленно объяснять, что почти две минуты я стоял под дверью, не решаясь открыть. Сны кружили у стен, огрызаясь… бугрилась водолазка Феликса Наумовича, плавно превращаясь в удлиненное породистое лицо Володи, и Володя грустно покачал головой и снова стал Феликсом Наумовичем…
…а звонок трезвонил как взбесившийся, и я никак не мог заставить себя открыть…
…и наконец перед глазами мелькнула Аннушка — но, странное дело, в пальцах не кольнуло изморозью, я даже обрадовался ей, я впервые подумал о ней спокойно, не как о воплощенном зле, а просто как о человеке, плохом, правда…
…а почему, собственно, плохом? Или я так уж хорош, чтобы выносить приговоры? И кто вообще хорош?.. В сущности, подумал я, отпусти Аннушка Маринку — и лучше ее для меня на свете не будет, а значит — какой я судья?..
…Аннушка мелькнула и исчезла, и тогда я…
…наконец открыл хрипящую дверь.
И тетя Вера с порога развернула репрессии, но, выкричавшись, поутихла и снизошла до беседы.
— Мама-то когда приедет?
— Не знаю, теть Вера, недели через три.
— Ну ладно, Ленюшка. До свидания.
Она тяжело побрела вниз, держась за перила и приохивая через каждые два-три шага. В общем-то, она права: свинство просить пожилого человека таскать почту на четвертый этаж. Надо будет пойти и поговорить с начальницей отделения. Пусть оставляют. Не любит она этого, но как-нибудь договоримся.
Из-под тумбочки выглянул обрывок сна; он шевельнул сине-зелеными усами, и меня передернуло от омерзения.
— Ликвидатор, — сказал я зеркалу. — Поздравляю. Привет боссу.
Опять свело. Всего, от холки до копчика, как собаку. Сон снова выглянул и зашипел и шипел до тех пор, пока я не прогнал его, сунув голову под холодную воду.
А потом я насухо обтерся полотенцем, и еще раз облился мокрым холодом, захлебнулся запахом хлорки, и опять обтерся, и поставил чайник, и заварил свежий чай, не пожалев заварки.
Желтое солнце скакало по кухонной стене, янтарный кипяток светился в чашке, свежая булка и свежая пресса тихо спорили, за что я примусь раньше.
Булка была одна, а прессы много. Я уже рассортировал ее, отложив толстые журналы на угол. Это потом. «Новое время», «Комсомолку» и «Литературку» — поближе. Их — с чаем.
А вот «Аргументы» можно прямо сейчас, пока не остыло.
Я быстро пролистал газетку. Все нормально. Только странно, что еще существуем. А так — ничего особенного. Разве что запоздавшая лет на семь статья о некоем Абдуллятифе (Ицике) Шнеерзоне, из когорты. Два кандидата наук из Средней Азии степенно выясняли, кто же таков есть А.Шнеерзон, если по приказу Николая Иваныча собственноручно расстрелял генерала И. с женой и тремя детьми, а годом позже был собственноручно же расстрелян Лаврентий Палычем за попытку сообщить вождю народов о своих угрызениях совести.
«Такие люди, как Абдуллятиф Шнеерзон, строили фундамент нашей суверенной демократической государственности!», — с невинным оптимизмом резюмировали азиаты.
Еще не успел я покончить со Шнеерзоном, как позвонила Люда. Или Таня? Я их всегда путаю. И осведомилась, найду ли я время написать ей курсовую.
— Найду, — ответил я. — Но, дитя мое, теперь это будет стоить гораздо дороже.
Дитя торопливо согласилось.
Я повесил трубку, добавил заварки, отложил в сторонку «Аргументы» и взял «Новое время».
Но я не прочитал его и даже просмотреть не успел, потому что из недр журнала выскочило и с мягким шлепком рухнуло на пол что-то блестящее, яркое и глянцево-праздничное. И еще только нагибаясь, еще не видя подробностей, я уже знал и понимал все…
…морозные иголки вонзились под ногти, и футболка прилипла к спине.
Большой, цветастый, почти объемный буклет.
Синее небо, зелень, застывшие изумленно люди.
Минимум текста.
И Аннушка.
Но она не похожа на себя, она вообще не похожа на человека. Перекошенное кошачье лицо потеряло всю миловидность; рот — кривая черная дырка; в глазах — застывший, выматывающий ужас.
А огромный зеленый жук, прижав ее к кирпичной стене, взметнул над коротко стриженной головой гибкие щупальца, на которых сияют в солнечных лучах длинные, слегка искривленные когти, похожие на золингенские лезвия…
Но я ошибся, сказав, что картинки были почти объемными; нет! они жили; они словно бы даже шевелились… жук хрипло сипел, а Аннушка сжималась в комочек… а я смотрел — и никак не мог оторваться… и наконец прямо в глаза мне плеснуло красно-соленым, и очень захотелось проснуться, но как же можно проснуться, если не спишь?..
…и я торопливо, боясь о чем-то подумать, вскочил на подоконник, рывком распахнул окно и шагнул в синюю пустоту, вниз, навстречу людям, веткам и асфальту, но…
совершенно зря, потому что не оказалось под ногами никакой пустоты, и никакой зелени, и никаких, никаких, никаких людей…
…совсем никого…
и вокруг сомкнулись намертво вымытые резким неоновым светом, исступленно-белые кафельные стены.