Вертикаль. Место встречи изменить нельзя Говорухин Станислав
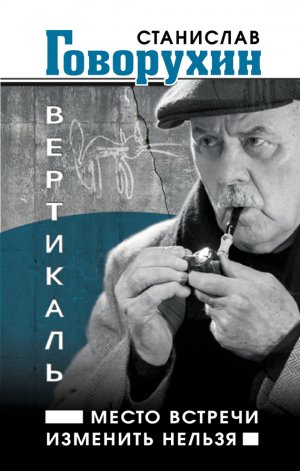
© Говорухин С.С., 2016
© Издание, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Часть первая
Рассказы. Эссе
Три России
Мне довелось жить в трех эпохах. В сталинской России, в хрущевско-брежневской и в нынешней, криминальной стране.
Когда умер Сталин, я плакал. Плакала мама, у которой усатый вождь отнял мужа, плакала бабушка, прожившая при Сталине совсем не сладкую жизнь. Плакал весь народ, кроме тех, конечно, кто понимал, что происходит в стране. Но они в основном жили в столицах и были приближены к высшей иерархии или имели косвенное к ней отношение, как одна наша знакомая, отсидевшая десятку за то, что служила домработницей в семье Пятакова.
Плакали, правда, уже от радости – целые народы, по которым прошел сталинский каток, – чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмыки, крымские татары… Ну и, понятно, взревели от счастья два миллиона зэков, сидевших в лагерях, – настоящие герои сталинских «пятилеток», построившие ДнепроГЭС и Беломорканал, Норильскникель и Джезказганские рудники, добывавшие стране руду, нефть, золото, серебро и вольфрам, «ковавшие Победу».
5 марта 1953 года мой друг, Вадим Туманов, шел в колонне колымских зэков – на работы. Сзади кто-то шепнул ему:
– Вадим, слыхал: Ус хвост отбросил!
Через минуту вся колонна заключенных бушевала от радости. Конвоиры стали стрелять поверх голов.
Были, были люди, кто понимал. Но 250 миллионов не понимали!
В 1949 году я обманул райком комсомола, прибавил себе год возраста, чтобы скорее стать комсомольцем. Хотелось быть похожим на Олега Кошевого и Сережку Тюленева.
В 1956 году пошли слухи, что Хрущев прочел на съезде закрытый доклад о культе личности Сталина. Вскоре его содержание стало известно не только партийцам, но и всему населению.
С этого года и началась для меня новая эпоха. Эпоха прозрения.
Взрослея, я многое узнавал и о себе, и о своей стране. В истории моей семьи (как, впрочем, и в истории каждой семьи), как в зеркале, отразилась история страны. Прадед мой, Трофим Васильевич, – кузнец. Дед, Афанасий Трофимович, – сельский учитель. На десятый год советской власти его лишили избирательных прав. За что? Хоть и сельская, но интеллигенция – ненадежный народ!
Он стал «лишенцем». Для того чтобы его не сослали, он уехал работать туда, куда ссылали, – в город Соликамск. Там были десятки концентрационных лагерей.
Мой будущий отец как раз там и сидел. Он был донской казак. Но в Соликамске он не задержался. Отсидел положенный срок, вышел, познакомился с моей мамой, «родил» сестру и меня и загремел дальше, уже в Сибирь.
Как всякий живой человек, я врал много – друзьям-товарищам, всевозможному начальству, своим близким. Но с высокой трибуны или в своих фильмах – не врал никогда. Легко ли было, существуя в искусстве, в идеологическом, так сказать, ведомстве, не погрешить против совести? Соблазн был велик: быть обласканным начальством, угодить самому Суслову… За этим следовали внеочередные звания, государственные премии, цацки на грудь, комфортные условия жизни, соблазнительные поездки за рубеж…
Я снимал в те времена безыдейщину (на Их взгляд): «Робинзона Крузо», «Тома Сойера», «Детей капитана Гранта»… Сейчас – когда свобода слова, когда говори что хочешь, – я и сейчас снял бы эти фильмы точно так же. Была однажды возможность согрешить, пойти против своей совести. Когда я работал над фильмом «Место встречи изменить нельзя». Это ведь не столько детектив, сколько социальный фильм. Соврать или умолчать можно было… Но мы сумели удержаться. «Место встречи» хоть и со скрипом, но появилось на голубых экранах.
Поэтому фильм и живет так долго – три десятилетия. Вот сейчас, когда я пишу эти строки, в соседней комнате, где работает телевизор, показывают – в тысячный раз! – «Место встречи изменить нельзя», все пять серий – нон-стоп.
Наступил апрель 85-го.
Выступил Горбачев, объявил о революции сверху – о перестройке. Призвал каждого гражданина лично участвовать в судьбе отечества.
Я с головой бросился в омут общественной жизни, в политику. Моя гражданская позиция не могла не отразиться в моих фильмах.
Так что это уже третья на моей памяти Россия. В ней я и живу, и работаю по сей день.
У-У, арестант!
Отца у меня не было. Все разговоры об отце в семье пресекались. Став взрослым, понял: мама не хотела портить детям биографию, хотела, чтобы они получили высшее образование. У самой была жизнь – тяжелее не придумаешь, так хоть дети…
Вспоминаю: когда бабка сердилась на меня, ворчала:
– У-у, арестант! Вылитый отец…
«Ага, значит, отец был арестантом…» Спросить некого – и мама, и бабушка, и дедушка умерли к тому времени. Попросил сестру написать в Ростов (о том, что он был донской казак, мы знали).
Пришла бумага:
«Говорухин Сергей Георгиевич, 1908 года рождения, осужден на три года концентрационных лагерей… Бросил камень и произвел выстрел в окно, где проходило заседание деревенской бедноты…»
Ему было 20 лет.
Стало что-то проясняться. Видимо, отсидел в Соликамске три года, вышел, познакомился с мамой, «родил» сестру и меня и снова «загремел». Основания были (достаточные для того времени – 1937 год): во-первых, донской казак (казачество тогда пытались ликвидировать как класс), а во-вторых, однажды уже был судим. В анкетах я так и писал: «Умер в Сибири приблизительно в 1938 году».
Справочка для упертых коммунистов. Концентрационные лагеря придумал не Гитлер. Эта идея могла родиться только в здоровой половине полушария вождя мирового пролетариата. (Вторая половина полушария головного мозга у него была поражена.)
Ловлю мух
Не осмелюсь сказать, что жизнь моя была богата какими-то исключительными событиями. Но кое-что все-таки было. Кое-где побывал, многое видел. Встречался с Великими. Бывал и в опасных передрягах. Казалось бы, есть что вспомнить, записать, оставить внукам. Однако на память чаще всего приходит не большое и исключительное, а так, всякая ерунда, какие-то обрывки воспоминаний из детства, из юности. Ну вот, к примеру.
Голодный 1947 год. Лето. Встаю с рассветом, ловлю мух. В августе в деревенской избе их тучи. Нужно быстрым взмахом руки поймать муху в ладонь, прижать чуть-чуть, чтобы обеспамятить ее, и отправить в спичечный коробок. На все это уходит минут пятнадцать. Иногда одним взмахом удается поймать двух, а то и трех насекомых. Коробок полон. Сую в карман маленькую краюшку хлеба – это мой завтрак и обед, – хватаю удочку, и бегом по деревенской улице. У последней избы ждет меня приятель. Наиль, татарин, мой одногодок.
С высоченного обрыва – самого высокого на всем побережье Волги – спускаемся к великой реке. По тропе бежать трудно: чуть превысил скорость – и уже не суметь остановиться, – упадешь, переломаешь все кости. Мы мчимся по осыпям. Тут и бежать не надо, осыпь – миллионы мелких каменьев – сама несет тебя вниз, только успевай перебирать ногами, чтобы не упасть.
Иногда, ради острых ощущений, мы уходим по высокому берегу до ближайшего леска. И спускаемся к Волге неизведанными путями, то есть напролом, через заросли орешника и густые очаги крапивы. Крапива старая, выше человеческого роста. А на нас ничего нет, кроме трусишек и худых рубах. Орем благим матом, скатываемся к реке – и сразу в теплую быструю воду. Ах, какая же она была, Волга моего детства! Не стоячая мертвая вода, как нынче, а чистая, быстрая, сильная, поистине Великая русская река.
(Позже, в университете, из всего марксизма я запомнил только одну замечательную фразу, сказанную Энгельсом: «Не надо радоваться нашим победам над природой, за каждую такую победу она жестоко мстит». Обуздали Волгу, понастроили плотин, вот она и отомстила. Теперь миллионы людей живут на берегах гнилого болота.)
Да, Волга была другая. Отплывешь на двадцать саженок – на сорок тебя снесет течением. Пока купались, пропустили утренний клев. Закинули удочки, да куда уж там – попались на крючок пара ершей да баклешек. Этих маленьких серебристых рыбок называют на Волге по-разному в разных местах.
Мы с Наилем разожгли костерок на берегу. Пора завтракать. Просовываешь сквозь ерша ивовый прутик и поджариваешь на огне. Рыбка приготовится раньше, чем прутик сгорит. Макаешь черствый хлеб в волжскую воду, и с жареной рыбкой… Бывали после этого у меня изысканные обеды и даже однажды завтрак с королевскими особами, но вкуснее этого завтрака на берегу Волги ничего не помню. Днем, до вечернего клева, делать нечего, купаемся до одури, угадываем названия пароходов. Это такая игра: пароход еще версты за три, а уже нужно угадать название. Вот показался из-за поворота высокий, трехпалубный, со стройными обводами. Это «Клим Ворошилов». А снизу, против течения, тяжело шлепает колесами низкий, широкий, с черным дымом над трубой. «Спартак»! – кричит кто-то из мальчишек. Но пароход приближается, и уже можно различить, что надпись над колесом длиннее, она из трех слов. «Память тов. Маркина». Такие вот бывали названия.
К концу августа пароходы снизу идут зеленые – это если смотришь на них с высокого берега. Вся верхняя палуба завалена арбузами – камышинскими, астраханскими.
Вниз по течению сплавляют плоты. Маленький черный буксир тянет за собой километровый плот. На середине плота – дымок. Вокруг костерка сидят люди. Наверное, едят уху. Им там приволье, плотогонам, – с плотов можно ловить стерлядь сетями.
Плоты сгоняют в Сталинград, который восстанавливается ударными темпами.
Кое-кто из мальчишек постарше ухитряется доплыть до плотов, забраться на бревна и даже попробовать ушицы. Потом плотогоны их, конечно, прогонят:
– А ну, мальцы, сигайте отсюда! Дом-то свой давно проплыли…
Мальчишек сносит течением километров на пять. Весь оставшийся день они бредут босиком по острым камням и едва поспевают к вечернему клеву.
А вот и клев начался. Тут уж только успевай взмахивать удилищем. Мухи в спичечном коробке давно кончились, ловлю мотылей, насаживаю на крючок.
Темнеет. Пора домой. На кукане у меня штук двадцать рыбешек и большой, плоский, кривой, как ятаган, серебряный чехонь. Начинается этот немыслимый подъем в гору. Идешь, идешь, ноги уже не держат, оглянешься назад, а Волга – она тут, рядом, под ногами плещется – кажется, ничего не прошел. Валишься от усталости на землю.
Вода покрылась золотом. Ни волнушки, ни ряби, только крупная рыба иной раз всплеснет хвостом, и пойдут от нее широкие масленые круги. Снизу, вдоль берега, идет лодка, нагруженная хворостом и сучьями. Мальчишка моих лет сидит на корме, правит коротким веслом, а отец, впрягшись, как бурлак, в широкую лямку, идет берегом, тащит на бечеве (веревке) груженую лодку.
И снова нескончаемый подъем. Бывали у меня в жизни высоченные вершины Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, но тяжелее этой волжской горы, на которой стоит городок Тетюши, не было…
У ворот меня давно поджидает кошка. Облизывается, мяукает от нетерпения. Кидаю ей пару рыбешек.
Мама вытаскивает из русской печи горшок с тыквой, ставит на стол крынку молока. Хлеба нет. Он стоит дорого. Каждое утро мы покупаем у соседей – они сами пекут его – небольшой, граммов на шестьсот, каравай темного душистого хлеба. Это на весь день, на всю семью. Но зато тыква, нарезанная кусками, такая вкусная, сладкая. Она весь день томилась в печи.
Потом я сажусь на лавку, мама ставит мои ноги в таз с горячей водой… а дальше – провал в памяти, темнота.
Утром встаю, ловлю мух…
Какое счастливое было время!
Первая любовь
Первый раз я влюбился сильно, по-настоящему, очень рано. Я любовался ею, засыпая, думал о ней. Хотелось дотронуться до ее полной груди, прижаться к теплому животу.
Она была воспитательницей в нашем детском саду.
До шести с половиной лет, почти до школы, мама брала меня с собой в женскую баню. Сорок второй год, война, маленький городок на Каме. О ванне, о душе там и не слышали.
Однажды мы ее встретили в бане. Мама остановилась, заговорила с ней. Я деликатно отошел в сторонку. Понимал, что нехорошо, не положено, но не мог оторвать глаз от ее волшебного тела. У Зинаиды Серебряковой есть картина «В бане». Молодые женщины, красавицы, с упругими бедрами, длинными русыми волосами, с налитыми, чуть опущенными под своей тяжестью грудями моются в бане. Чудо, как хороша, как притягательно красива эта картина!
Так, наверное, выглядели и эти две молодые женщины, полные сил, здоровья, еще нерастраченной красоты. Моя любовь почувствовала недетский взгляд, прикрылась тазиком, который держала в руке. Да и мама что-то почувствовала.
Больше меня мама с собой в баню не брала.
В бараках
Почти все свое детство и юность я прожил в бараках. Было два счастливых года в маленьком городишке на Волге, а потом опять большой город, бараки. Помню, я уже в старшие классы ходил, а спал на полу, под столом. На столе – сестра, студентка университета. Маленькая, 12-метровая, комнатка, и в ней – мать, бабушка, мы с сестрой, а за занавеской кашляет, умирает от чахотки мой дед.
У Высоцкого есть песня про «коммуналку»: «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная»… А тут на девять бараков одна. Жуткое дело.
В бараках жили рабочие Казанского авиационного завода. Люди в основном воевавшие, прошедшие убийственную войну.
Главным развлечением у нас, пацанов, была свалка. Высокие горы отходов из заводских цехов. Десятки или даже сотни тонн сверкающего великолепия. Блестящая стальная стружка, втулки, гайки, шайбы, болты, медные и алюминиевые пластины, разноцветная проволока и прочие детали. Часами бродили мы по металлическим склонам этих гор, отбирая все, что радовало глаз и могло пригодиться в мальчишеском хозяйстве.
Жили в бараках по-разному. Бывало, песни вместе поют, бывало, ругаются.
Подперев бока, одна соседка кричит на другую, которая позволила неуместно отозваться о лучших достоинствах ее супруга:
– Ах ты, сучка стрептоцидовая!.. Ты чо, пробовала?! А не пробовала, так и не говори… У мово Василия х… как деталь точеная!..
По праздникам иногда дрались.
Кто-то из поверженных, утирая красные сопли, грозил обидчику:
– У-у, Демафродей!..
Кто этот загадочный Демафродей, я так в юности и не понял. Только через много лет догадался: Демафродей – это же гермафродит!
В соседнем бараке, в маленькой комнатушке, поселился новый сосед. Николай, демобилизованный старшина. Поступил слесарем на завод, учился в вечерней школе. Мы с ним сошлись. Я ему помогал с алгеброй и геометрией, он меня учил жизни.
Как-то зашел участковый. Зайнулла, татарин.
– Мало-мало документы хочу посмотреть…
Николай только что вернулся с работы, голый по пояс – плещется под умывальником. Кивнул мне:
– Возьми там, в тумбочке…
Я выложил на стол паспорт, какие-то справки о ранениях, комсомольский билет, орденские книжки. Участковый начал с орденских книжек.
– Орден Красной Звезды… Карашо… Еще орден Красной Звезды… Карашо… Орден Славы… Медаль за Кониг… Кениг…
– Кенигсберг, – подсказал я.
Зайнулла поцокал языком:
– Ай, молодец! Смотри, еще орден Славы… А это?.. За взятие Берлина!.. Видел, какой герой у нас живет?!.
– Что ж ты никогда не рассказывал, что Берлин брал? – обиженно спросил я.
– А я и не брал его. На подступах ранило. Еще полгода после войны провалялся. Даже выпить за Победу не довелось…
Вот такой у меня появился товарищ. Сколько ему было тогда? Наверное, года двадцать два – двадцать три. Мне он казался старым.
Как-то я зашел к нему. Читает Горького.
– Вот решил всю классику одолеть. Начал с Горького. Один том в неделю. Значит, тридцать недель. К концу года закончу. Видишь, уже четвертый том добиваю…
– А потом?
– Потом за другого писателя возьмусь…
– Это же невозможно! Вон, Лев Толстой девяносто томов накатал…
– Это для тебя, лентяя, невозможно, а в меня твой Лев Толстой пулей влетит…
Когда наконец нам дали комнату в коммуналке и мы переехали в новые хоромы, Николая я потерял. Интересно, что стало с ним. Кем он стал? Наверняка большим человеком.
Интересно бы узнать, дожил ли он до 90-х годов, до Большого Разочарования. Неужели тоже стал нищим, как и большинство его сверстников, таких же, как он, честных трудяг. Приспособиться к новым правилам жизни никто из них не смог.
Одно утешение: не дожил. Последнее его ранение было очень тяжелым.
Время было бедное, но веселое. К началу пятидесятых и голодухи уже такой не было, и из бараков начали переселять; понемножку, по одной-две семьи выдергивали из бараков и переселяли в новый кирпичный дом.
У нас, пацанов, развлечений было выше крыши. Зимой – каток, хоккей на замерзшем болоте, лыжи.
Кино! По десять раз смотрели «Тарзана» или «Путешествие будет опасным» (знаменитый фильм Джона Форда «Дилижанс»). Откуда, спросите, деньги? По-разному бывало. То мать даст, то в простенок выиграешь, а то протыришься без билета.
Летом – футбол, волейбол, река Казанка, танцплощадка в парке культуры и отдыха. Ну мы, пацаны, конечно, только смотрели.
Жил у нас один морячок в бараках. Бабы его, бывало, спрашивают:
– Вань… Как это ты так ловко девок облестиваешь? Что ни день, то другая…
– Очень просто, – смеялся матрос. – Иду на танцы – кладу в правый карман огурец. Когда мы танцуем, я прижимаю ее к правому борту, она, естественно, уходит влево… И тут мы ее встречаем.
Бабы хохочут:
– Ой, и хулиган ты, Ванюшка!..
За что я особенно благодарен баракам – здесь научили меня драться. И – один на один, и одному против нескольких. Когда в начале сорок восьмого года я появился в казанских бараках, я там оказался самым интеллигентным мальчиком. Со скрипочкой не ходил, но очень хорошо одевался – мать была портнихой. И еще – запоем читал книжки. И, конечно же, сразу заслужил кличку «Еврей».
Кстати: к вопросу об антисемитизме в сталинской России. «Еврей» был синонимом слова «интеллигент». По крайней мере, так было у нас, на Средней Волге, в самом интернациональном регионе России – здесь живут татары, башкиры, мордва, коми, удмурты, чуваши, марийцы, русские… Если умный, с хорошими манерами, очки на носу, играет в шахматы и на скрипке, читает книжки, значит, еврей…
Уже взрослым человеком иду однажды светлым июньским вечером московскими улочками в районе Ордынки. Улицы совершенно пусты, стоят два мужика, чешут от безделья затылки, разговаривают:
– Смотри, Колян, еще только восемь часов, а уже – никого…
– Как жиды, в натуре!.. Заперлись дома, книжки читают…
Но вернемся в бараки в конец сороковых.
Короче, стал я на некоторое время евреем, и конечно, моим сверстникам захотелось проверить, каковы мои физические данные. Пришлось отмахиваться. Хорошая получилась практика. Многажды пригодилась в жизни.
Как-то, будучи уже студентом первого курса университета, возвращаюсь ночью домой. Троллейбус полупустой – двенадцать часов ночи.
Два шпанистого вида парня – кепочки-шестиклинки, сапоги гармошкой с подвернутыми верхами – пристают к девушке. Пристают вяло, девушка им не нужна, сразу видно. Просто ищут приключений на свою задницу, им надо, чтобы кто-то заступился за нее, и вот тогда…
– Пацаны, – говорю, – оставьте девчонку в покое…
Тут же оставили, повернулись ко мне:
– Тебе чо, больше всех надо?
– Это твоя шмара, что ли?
– Нет.
– Хера ли тогда?..
– Слышь, Колян, студент нарывается…
– Придется поучить. Ты где сходишь?
– На «Восстания»…
– О, глянь, попутчик… И нам туда…
Стоим, ждем остановки. Присмотрелся я к ним. Хиловаты оба. В чистую драку вряд ли полезут. Значит, ножи… Ладно, в крайнем случае убегу. Стометровка у меня – 11,2 секунды. Хрен кто догонит.
Вдруг стоящий позади меня мужичонка лет сорока, по виду работяга, шепчет:
– Не дрейфь, парень, я с тобой сойду.
Думаю про себя: какая от него помощь? Только обуза… В случае крутого поворота и убежать не смогу…
– Остановка «Площадь Восстания», – объявляет водитель.
Сходим. Там у нас большая Доска почета стояла. Заходим за нее. Мужичонка куда-то исчез. «И слава богу!» – думаю.
Начался обычный в таких случаях базар – прелюдия к драке.
– Что ж ты, парень? Тебе это надо было?.. Молодой, красивый… Придется тебя еще разукрасить…
Один уже заходит за спину. «Так, – думаю, – этого, который за спиной, надо вырубать первым…» Поворачиваюсь к противнику, а он, вижу, падает… Что такое?! Но думать некогда, повернулся к тому, что стоял передо мной, и кулак занес… А он бежит… Чертовщина какая-то!
Снова поворачиваю голову назад – передо мной мужичонка из троллейбуса.
– Я ж тебе говорил, не дрейфь!
Иван Афанасьевич (так звали моего попутчика) тоже жил в наших бараках, работал на заводе. В этот раз он нес с работы в авоське завернутый в бумагу кусок точильного круга. Вот этой авоськой он и огрел моего противника по уху.
Мы наклонились к лежащему. Дышит.
– Вы чо, вы чо? – шепчет. – Мы же пошутить хотели…
– Больше так не шути, мандюк, – сказал Иван Афанасьевич.
Мы с Иваном Афанасьевичем еще пару раз встречались в ночном троллейбусе. Увидев меня, он поднимал руку, сжатую в кулак, и приветствовал:
– Рот Фронт!
Но вот что удивительно! Живя в бараках, в нищете, испытывая на своей шкуре весь ужас социалистического быта, я иногда мысленно говорил себе: «Какое счастье, что я родился на нашей советской родине, а не где-нибудь в Америке».
Учитель
Году в 90-м в Нью-Йорке открылось «Русское радио». Очень вовремя. Из бывшего СССР приехало много пожилых людей; им уже никогда не выучить английского языка, не вписаться в новую среду. Они тосковали.
И тут – с утра до вечера – радио. На родном языке! Новости – с Родины и американские, – полезные советы, встречи с интересными людьми. Поскольку «Русским радио» руководил мой старый друг, Павел Давыдович Палей, я тоже оказался в списке «интересных людей».
И вот я на радио. Отвечаю на вопросы ведущего, затем – звонки радиослушателей. Первый же звонок:
– Славочка! Вы никогда не догадаетесь, кто вам звонит. Это Роза Соломоновна, жена вашего классного руководителя Владимира Львовича Лившица… Ой, у него будет инфаркт!.. Он ушел гулять с собакой и, когда узнает, что пропустил ваше выступление…
– Не волнуйтесь, Роза Соломоновна, – успокаиваю я, – дайте мне ваш телефон, я вам позвоню после передачи…
Владимир Львович был нашим классным руководителем в 9-м – 10-м классах. Он преподавал физику. Но когда заболевал кто-то из учителей математики – он преподавал алгебру, геометрию, тригонометрию. То же – и с астрономией, и с историей. Ушла в декрет учительница немецкого языка, симпатичная татарочка со стройными ножками (помню, мы все время лазили под парты, чтобы полюбоваться на ее ножки) – он целую четверть преподавал немецкий. Выяснилось, что немецкий он знает лучше, чем наша стройноногая немка.
Звоню ему.
– Славочка! – рыдает он в трубку. – Дети вывезли меня сюда… Я тут умираю от тоски… Никому не нужен…
О, как я понимаю его. Там, в Казани, где я заканчивал школу, он был нужен всем, он был незаменим. Заслуженный учитель Татарии, сколько он выучил учеников! – весь район знал его в лицо, ему кланялись издалека… И вот привезли в чужую среду, русскоговорящую (Брайтон-Бич), но чужую, совершенно ему чуждую…
А с другой стороны – какая у него была альтернатива? Если бы остался… Вспомните, как нищенствовал учитель в девяностых годах. И нищенствует и сейчас, в начале XXI века.
Хорошо помню своих школьных учителей. В основном это были мужчины-фронтовики. Помню нашего историка – в одной и той же, наглухо застегнутой, много раз заштопанной рубашке под пиджаком. Но всегда белоснежной, словно накрахмаленной. Помню, я гадал: что он, каждую ночь стирает, что ли, ее? (Это был 47-й, тяжелейший для всей нашей страны год.)
Я вообще хорошо помню, как были одеты наши учителя – дети остро запоминают это. Владимир Львович, например, приходил на уроки в темно-синем бостоновом костюме, лоснящемся от долгой носки; рукава испачканы мелом. Я даже галстуки его помню – старинные шелковые, из довоенной благополучной жизни. Один – особенно. Темно-синий со светлым горошком. Как у Ленина.
Учитель русского языка, Михал Михалыч, носил офицерскую гимнастерку, перетянутую широким ремнем. Поверх – хоть и старый, но чистый и отглаженный, с выутюженными лацканами пиджак.
– А ну, дети, – говорил Михмих (так мы его звали между собой), – просклоняйте мне слово «дитя». Итак, именительный?
– Дитя.
– Родительный?
– Дитю… Дите…
– Дитяти! Запомните на всю жизнь – дитяти! Дитятей… О дитяте…
Я и запомнил. На всю, как видите, жизнь.
Как-то, помню (это было в пятом классе), мы играли в футбол на задах школы. Я на минуту выключился из игры, подбежал к стене школы, расстегнул ширинку… Кто-то схватил меня за ухо. И так вот, крепко и больно держа за ухо, отвел в учительскую, поставил посреди комнаты и сказал:
– Вот… Полюбуйтесь на него…
Это была учительница литературы Зинаида Павловна Шагова.
Жестоко, скажете. Зато на всю жизнь. Я навсегда запомнил: мочиться на стену школы, писать на ней грязные слова – нельзя!
Я помню всех своих педагогов. Запомнят ли нынешние дети своих школьных учителей? Уже много лет учить детей идут не самые способные и не те, у кого истинное дарование. Мужчин-учителей практически вовсе нет, мужчина – кормилец, ему надо кормить семью – на учительские шиши не прокормишь.
Смогут ли нынешние дети научиться от своих учителей строгости, скромности, изяществу – в одежде? Какое там… Современная учительница, собираясь на урок, обливается горючими слезами – надеть совершенно нечего.
Я всегда кричал на всех углах и повторю в сотый раз: страна, где учитель нищенствует, не может иметь никакого будущего.
Разочарование
Когда меня спрашивают: «Ваше самое большое разочарование в жизни?» – я вспоминаю этот случай.
В 1953-м я закончил школу. А куда идти учиться дальше, ума не приложу. О том, чтобы пойти работать, и речи не заходило. А надо бы! Мать, портниха, воспитывала нас с сестрой одна. Как же ей тяжело приходилось! Страшная война, голодные послевоенные годы. Загубленная молодость. Всю себя, без остатка, – детям!
Но мама помыслить не могла, чтобы дети остались без высшего образования. У самой погубленная жизнь, так хоть дети…
Сестра уже заканчивала юридический, а я решил податься в геологи. Романтика, путешествия… О путешествиях я бредил с детства. Любимые герои: Робинзон Крузо, Миклухо-Маклай, персонажи Джека Лондона, Амундсен, Роберт Скотт… Попались мне в то лето две интересные книжки: Чаковского «День начинается на востоке» – про геологов, и «Занимательная геохимия» Ферсмана – про минералы. А когда я узнал, что студенты-геологи носят форму, решение созрело окончательно.
Время было бедное, народ одевался плохо, а студенты геологических факультетов и горных институтов щеголяли в красивой форме: черный шевиотовый костюм, белая рубашка, галстук, черные квадратные бархатные погоны, и на них – золотой вензель университета. Посмотрел я в зеркало, представил себя в этом наряде – неотразим! – и побежал в университет сдавать документы.
И вот ранняя осень, я уже учусь, в ателье заказана форма, я хожу на примерки, и тут… приказом Министерства высшего образования… форму отменили!
Свидание
Мне было 19 лет, и мы только что свалились со снежных гор к морю. Сначала пешком, одолев Главный Кавказский хребет, через ледники и горные речки, по козьим тропам к озеру Рица, а оттуда на машине в Адлер. Там я впервые и увидел море. Залез по пояс, попил из ладошки – соленое!
А потом был земной рай (именно так я его и представлял) – Сочи. В Сочи мы купили один палубный билет за три рубля и поднялись на пароход «Петр Великий». Поднимается один, бросает с палубы спичечный коробок с билетом – идет другой… Разложили на корме свои спальные мешки, достали консервы, еду, оставшуюся от горного похода… Народ ходит, завидует.
Утром, едва проснулись, – Сухуми. Дендропарк, обезьяний питомник, кофе на песке, удивительные блюда с хитрыми названиями: хачапури, лобио, сациви, чахохбили… Вечером таким же манером поднялись на корабль, на рассвете – Батуми. А потом опять Сочи. И все это за три рубля.
Там, в Сочи, я познакомился однажды с девушкой. Моей ровесницей, ростовчанкой. Знакомство было мимолетным, договорились встретиться завтра. На этом же пляже.
Рассказать, как готовился к любовному свиданию юноша 50-х годов? Во-первых, я выстирал в горной речке (мы жили высоко над городом, на какой-то турбазе) свою единственную парадную рубашку – шелковую, с короткими рукавами, «тенниску». Разгладил руками, разложил на большом камне – она быстро высохла на закатном солнце. Выполоскал, оттер черным базальтовым песком тапочки. Вымылся сам – с мылом, в ледяной воде. На ночь положил свои полотняные брюки на доски под матрац – чтобы сохранились стрелки. Спал плохо, проснулся с рассветом. Намазал мокрым зубным порошком тапочки, когда они высохли, сбил – подошвой о подошву – пыль от зубного порошка.
И эдаким франтом спустился в город. А до свидания еще два часа. «Пойду-ка я морем, по пляжу, тут километра три-четыре, как раз поспею».
Часа через полтора путь мне преградила высокая скала, глубоко вдающаяся в море. Я поднял голову – высоко наверху железная дорога, но путь туда преграждают густые заросли ежевики. От франтовского костюма ничего не останется. «Обойду-ка я скалу над морем, я же альпинист».
Полез. Не так уж трудно идти – есть удобные выступы для ног, есть крепкие зацепы для рук. Внизу, метрах в пяти, плещется море. Глубоко – если упасть, не разобьешься. Скоро я был уже на другой стороне скального выступа, спрыгнул на галечный пляж, оглядел себя – брюки, тапочки – все чистенько. Иду.
И вдруг вижу, что это? Никак женщина? Лежит на спине, груди растеклись, вроде и нет их… Сделал еще два шага… Но тут уж нет никаких сомнений – сидит голая баба и удивленно смотрит на меня. Разуваю глаза – мать моя, мамочка! – полно голых женщин, молодых, старых…
Получилось, что попал я на женский пляж. С одной стороны он огражден глухим забором, а с другой – естественным препятствием – скалой, выступающей в море.
Мне бы добежать до забора – перемахнуть его, раз плюнуть… Но до того растерялся, что, опустив глаза, пошел обратно. А за спиной – смех, крики: «Миленький, куда же ты? Иди к нам!..»
Вскарабкался я снова на скалу, руки дрожат, сорвался, конечно, упал в воду… Оплыл скалу, вылез на берег и полез вверх по обрыву. Острые колючки ежевики изодрали штаны и рубашку, да еще наверху оказался свежеокрашенный штакетник… И до назначенного свидания осталось минуты три-четыре…
И зашагал по шпалам на свою турбазу.
Были бы у меня, тогдашнего, сегодняшние мозги, я бы, конечно, пошел на свидание. Рассказал бы все как есть и выглядел бы в глазах девушки героем. Эх, если бы молодость знала…
Да и нравы тогда были другие.
Как я стал режиссером
Будучи молодым и будучи еще геологом, иду я однажды по городу Горькому (ныне Нижний Новгород) и вижу: снимается кино.
Любимые артисты – Сергей Лукьянов, Хитяева… Все бегают, кричат, суетятся, несут реквизит, переставляют осветительные приборы… И только один человек спокойно сидит в кресле, опершись рукой на палку, ему приносят чай, что-то шепчут на ухо, он кивает головой… Я спросил:
– Кто это?
Мне отвечают:






