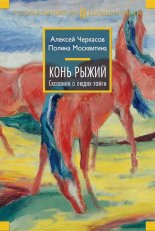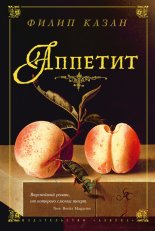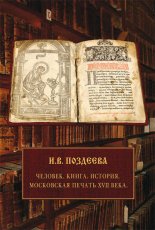Шаг за край Сескис Тина

— Золушка, ты можешь поехать на бал! — говорю.
Ангел смотрит на меня недоуменно, довольно долго молчит, словно в неведении, что ей делать, и наконец говорит:
— Лады, поеду.
35
Довольно невероятно, но Ангел встретила своего Прекрасного Принца в казино, в котором работала. Однажды ночью он играл с клиентами в покер, и хотя обычно Ангел не позволяла понтерам провожать себя, не ее это был стиль, Энтони проявил настойчивость. Уходя с работы, он уговорил ее дать ему номер ее телефона, а потом всю ночь названивал ей каждый час, пока она не кончила работать в шесть утра.
На следующий день доставили 40 красных роз, и Ангел, хоть и не была простушкой, все ж заглянула в Интернет, чтобы узнать значение чисел, а узнав, была польщена и в такой трепет впала, выяснив, что такой букет означает: «Любовь моя к тебе подлинна», что, как убедилась, не сумела сказать «нет», когда он уже на следующий вечер умолял ее сказаться больной.
Он приехал за ней на своем «Мазерати» и повез ее ужинать в ресторан в Сити, откуда открывался вид на весь Лондон. А потом они вернулись в его квартиру к шампанскому на льду и легким джазовым мелодиям, которых она никогда прежде не слышала, а когда он провел ее на балкон с видом на реку, чтоб наконец–то поцеловать, волшебство любви стало полным. В ту ночь она осталась, одевшись в одну из его тишоток, и он щекотал ее под мышками, как драгоценную куклу, — и она была самой счастливой девушкой на свете.
Энтони владел собственной фирмой с венчурным капиталом. Конечно же, он был богат (но, как она поняла позже, на тот шаткий лад, какой зачастую свойствен выставляющим свое богатство напоказ), и он был красив, обаятелен. Он познакомил Ангел с жизнью, о которой прежде она могла лишь мечтать: жизнью поездок на выходные по отмеченным звездами «Мишлен» ресторанам во Франции, тонких вин, оперы, фильмов для избранных, снятых режиссерами с труднопроизносимыми фамилиями, даже жизнью прогулок по деревенской местности, в которых она до сей поры не видела проку. Он покупал ей красивые наряды и дорогое шелковое нижнее белье, серьги с бриллиантами, сумочки от «Барберри», обладать которыми она жаждала. От любви Ангел совсем потеряла голову, всего через несколько недель она вовсе перестала приходить домой, бросила работу в казино и жила как принцесса, не ведая, что под постелью лежит горошина и ждет не дождется, когда ее почувствуют.
36
Уже через десять минут Ангел была готова, хотя и была из тех девушек, о которых можно вообразить, будто им, чтобы собраться, понадобится не один час. Она позвонила и отпросилась с работы, сославшись на болезнь (чего уже сто лет не делала), и выглядела сногсшибательно в просвечивающем до наготы легком шифоне. Ее белокурые волосы были собраны в узел, и я просто не понимаю, как она умудрилась сделать это сама всего с тремя–четырьмя заколками. Рядом с ней в своем изумрудном платье я чувствовала себя большой и долговязой, словно стручок фасоли, и постаралась ее не возненавидеть.
Ангел настаивает, чтоб мы вызвали такси, а когда то подъезжает, то сиденья в нем перепачканы, в салоне пахнет табаком и освежителем воздуха, мне приходится опустить стекло в окошке и высунуть голову наружу, чтобы остановить возвращающуюся тошноту. От этого прическа моя превратилась неизвестно во что, зато Ангел сидит себе с подрумяненными скулами и стройненькими гладенькими ножками, и ее укладка не сдвинулась ни на сантиметр. К тому времени, когда мы прибыли, лицо мое, уверена, стало цвета моего платья, а в голове прочно утверждалась мысль, что вообще–то лучше бы мне было остаться в постели.
Посетители только–только переходили к горячим блюдам, и целые армии официантов и официанток устроили кулинарное нашествие на столики, и наше с Ангел появление сопровождалось подачей филе–стейка в соусе из сливок с шампанским или пирожков из слоеного теста с тыквой и сыром рикотта для вегетарианцев за нашим столом. Я знаю об этом потому, что Ангел забирает порцию Люка, а он как раз заказал не мясное, и я шучу с ней по–нашему, по–северному, не в бровь, а в глаз, мол, потому–то он и больной, что мяса не ест, рохля несчастная.
— Тс–сс, — шикает Ангел, и хотя меня и раздражает, когда мне рот затыкают, все ж, может, высказалась я чуть громче, чем следовало.
Саймон, похоже, в восторге, что видит меня живой и снова на ногах, только, похоже, ему больше не терпится повидать Ангел, и она садится рядом с ним. А мне достается Натали. Уверена, что если кому и уготовано место рядом с Саймоном, так это мне: тут обычно рассаживают по схеме мальчик–девочка–мальчик–девочка, да вот и совершенно определенные фамилии указаны на визитках. Убеждена, что Ангел уготован Люк. Подозреваю, что Саймон подменил визитки, и от мысли такой делаюсь сердитой.
Пока сижу надувшись, чую, будто мир вокруг колышется, больше не стоит прямо. Теряюсь в догадках, что это со мной, с чего это я нынче вечером ревную Ангел. Есть кое–что куда более существенное, из–за чего расстраиваться можно. На мгновение осознаю, что перестала думать об этом, даром что все равно годовщина есть годовщина, зато мысль, что я не думала об этом, наводит меня на мысли об этом, и я резко оборачиваюсь к Натали.
— Прелестно выглядишь, Нат, платье у тебя — шик.
— Благодарю, Кэт, это старина… она же «Оксфам[22]”! — смеется она, а потом на секунду напускает на себя серьезный вид. — Ты в порядке? Саймон сказал, что тебе за обедом устрица с хитрецой попалась… она, должно быть, от тебя быстро отвязалась?
— Э-э, да, — говорю. — Сейчас я себя гораздо лучше чувствую. — И в доказательство этих слов с воодушевлением набрасываюсь на стейк. Еда отменная, но я все равно сыта по горло: Саймон монополизировал Ангел, Натали же хоть и мила, но я слишком не в духе, чтобы щебетать про моды, знаменитостей или рекламу, а глядя правде в глаза, сегодня в разговоре я ни о чем другом и подумать не могу. Тигра сидит на другом конце стола, выглядит она свирепо и необыкновенно, мы с ней хотя и не говорили, но она ловит мой взгляд, и я понимаю, что Саймон с ней тайком поделился: обращенная ко мне ее улыбка полна такой доброты, какой я в ней и не подозревала. Потом Ангел оборачивается ко мне, и я вижу, как смущена она вниманием Саймона, как не хочет меня расстраивать, вот и шепчет:
— Я в туалет, ты пойдешь?
Знаю, что это обычно означает, и отрицательно качаю головой: я все еще остаюсь сильной ради своего маленького мальчика, хотя в данном случае он никогда этого не узнает, я никогда не смогу вернуться к нему. Ангел встает и идет одна. И ведь вот получается: она маленькая, а, пока идет по залу, все ее замечают, — может, тут дело в том, как она идет, еще она напоминает мне Рут, свою мать.
Саймон склоняется над столом, чтобы поговорить со мной:
— Как себя чувствуете, Кэт? Я так переживал за вас.
— Сейчас мне лучше, — говорю, хотя ощущение отрешенности еще не совсем ушло. — Вы, похоже, поладили с Ангел.
— Она роскошна, — признается Саймон. — И, в любом случае, вам я не достанусь.
Тут я посмотрела на него и заметила в его глазах страстное желание, не меня и не Ангел, коли на то пошло, но просто — любви, подлинной всепобеждающей любви, в которой отдающий обретает, как у меня когда–то было с мужем, до того как Кэролайн (или то была я?) разрушила ее. Я взяла его за руку.
— Саймон, мне так жаль того, что произошло недавно, обещаю, что такого больше не случится. Надеюсь, я не испортила ваш лучший костюм, а чистку его я, конечно же, оплачу.
Саймон не обращает внимания на мою попытку пошутить. Он едва не пронзает меня взглядом.
— Вы ведь готовы были доверить мне свою тайну тогда, ведь так, Кэт? В чем она? Вы по–прежнему можете со мной поделиться. Уверен, я сумею помочь.
Тогда я печально гляжу на него: насколько я понимаю, помочь он не в силах, никто не в силах, — а еще я понимаю, что отошла от края, это принадлежит моей прошлой жизни, и теперь, пока я жива, я никогда не расскажу об этом.
37
После первых трех–четырех месяцев жизни с Энтони в жизни Ангел многое стало меняться. Он стал водить ее на обеды с клиентами, представляя: «мой маленький кокни-Ангел»[23], — и, хотя она считала такой титул малость неуважительным, все же не относилась к нему серьезно, была уверена, что Энтони произносит его ласкательно. Она скромно сидела с его гостями в шикарных ресторанах и смеялась (всегда кстати и где нужно), запрокидывая свою хорошенькую головку, открывая свою точеную шею, зная, как это воздействует на таких мужчин: в конце концов, она к такому привыкла. В один из вечеров, когда Энтони отлучился поговорить по телефону, Ангел из разговора остальных поняла, что в бизнесе Энтони не все так усыпано розами, а потому спросила его об этом, когда они вернулись домой.
— Ты что, блин, имеешь в виду? — насупился он.
— Э-э, ну, Ричард говорил, что обеспокоен сделкой с Фитцроем, мне просто интересно, что он этим хотел сказать?
— А какое, блин, отношение это имеет к тебе?
Ангел решила, что двух «блинов» достаточно. Она встала во весь свой рост, во все свои пять футов и два дюйма[24], и сказала:
— Не надо со мной так разговаривать. Кто ты, по–твоему, такой?
Во взгляде, который бросил на нее тогда Энтони, полыхала такая лютая ненависть, что желудок у нее скрутило еще сильнее, чем от его ругани. Сдерживая ярость, он выбрался из мягкой трясины дивана и твердым шагом направился к свободной спальне. На пороге он повременил, словно бы смягчаясь, а потом передумал и все же вошел в комнату, при этом так хлопнул дверью, что в коридоре упал и разбился один из портретов его коллекции джазовых знаменитостей, трещина прошла прямо через гламурную улыбку на лице американского саксофониста Чарли Паркера.
Время шло, и Энтони вел себя все более и более безрассудно. Случись Ангел пережарить хлебец, или ему не нравился ее наряд, или кто–то из подружек звонил ей, чтоб поболтать, он тут же выходил из себя, кричал, орал, обзывал ее последними словами. Ангел пыталась постоять за себя, только это было сложно, казалось, она теперь во всем зависела от него. С работы она ушла, ее квартиру, ее друзей унесло прочь, а что у нее осталось? Красивые наряды да дорогие ресторанные посиделки, дух захватывающий вид на Темзу — и любовник, который ее материт. У нее даже не было желания обратиться к матери: Рут, похоже, была в восторге, что Ангел попался такой очаровательный богатый любовник, — а раскрывать правду было унизительно. Вот Ангел и старалась изо всех сил не огорчать Энтони, что, говоря честно, не стоило забот, к тому же теперь она редко виделась с подругами, привыкла надевать только то, что им, она знала, будет одобрено, и никогда больше не перечила. Даже когда он принимался указывать ей, что можно, а что нельзя заказывать в ресторанах, она не обременяла себя попытками настоять на своем выборе: ссоры были для нее невыносимы.
Так могло бы тянуться гораздо дольше, если бы Энтони не поддал газу. Ему уже мало было впадать в ярость и изрыгать ругательства, в ход пошли высказывания вроде: «Еще раз забудешь включить посудомойку, я тебя покалечу». А потом, когда и это не подействовало, он стал бить ее и плевать ей в лицо, заходясь в крике.
Ангел действительно очень старалась доставить Энтони счастье: она не хотела уподобляться матери, заводить вереницу захудалых ухажеров и время от времени наведываться на «Скорой» в больницу в сопровождении маленького перепуганного ребенка. Энтони, по сути, был славным малым, он так хорошо к ней относился поначалу, ведь было же? Наверняка она могла бы вернуть то время, если б получше постаралась. И все ж ирония состояла в том, что, чем больше она старалась утихомирить его, тем больше напрашивалась на неизбежную выволочку, а когда та случалась, то была безжалостной. Потом он, рыдая, крепко прижимал ее к себе, обещал никогда больше не допускать такого, но когда Ангел предложила подыскать себе, где пожить, пока он сам в себе разберется, он просто–напросто запер ее в квартире и отобрал мобильник. Она подумала было выйти на выложенный мрамором балкон и кричать, обращаясь к реке, что ее держат в заточении, но Энтони, похоже, перехватил ее мысли и запер заодно и дверь на балкон.
В первый раз он продержал ее в узницах неделю, пока не убедился, что преподанный урок она усвоила. Впрочем, он редко запирал ее после того, как она вовсе перестала противиться: в конце концов, она понимала, что чем–то заслужила такое обращение. Ангел похудела, волосы у нее поблекли, и Энтони не замедлил называть ее безобразной и бесполезной, уверять, что никому другому она не нужна, — и она даже начала верить этому.
Ангел понимала, что ей нужно вырваться от своего любовника, но ей просто в голову не приходило, что надо делать, такой она выглядела слабой и нерешительной. Она не могла призвать на помощь никого из своих друзей, Энтони удалил все номера телефонов из ее мобильника, прежде чем наконец–то вернул его ей. Он наверняка отыскал бы ее, если бы она убежала к кому–нибудь из своих подружек, он знал, где жила ее мать, так что и туда уйти она не могла.
Кончилось тем, что Ангел припомнила, как кто–то с работы сказал, что в доме, где он живет, часто оказывается свободной комната, наверное, он смог бы помочь ей. Одним ясным апрельским утром, когда Энтони уехал на встречу в Сити и сладкий дух цветущих вишен настроил его более миролюбиво, Ангел сделала свой ход.
Шагая вдоль реки, она ощущала себя призраком, невидимкой, ужасаясь тому, что не должна бы тут находиться, волновалась, как бы кто не сообщил о ней. Убеждала себя не быть глупенькой и, склонив голову, идти дальше против ветра. Она прошла Галерею Хэя, потом вышла на Тули–стрит, где увидела телефон–автомат, один из тех самых старомодных красных, которыми когда–то пользовались лондонцы. Она сама в таком не бывала уже много лет, однако незабвенная вонь застарелой мочи и высохшей слюны была до того тошнотворна, что она задохнулась, а карточки на окошках, наверное, оставляли ее подружки. Она позвонила в справочную, потом в казино, где после почти двухминутных гудков кто–то из служащих снял трубку. Когда он спросил, кто звонит, она ответила, что это Ангела, и служащий, ни о чем не расспрашивая, соединил ее, ей повезло: приятель работал в эту смену. Соображал он блестяще. Ангел ничего не пришлось объяснять. Приятель велел ей уходить — и немедленно, — так что она бросилась обратно в квартиру, собрала свои любимые наряды, оставив все остальное. Когда же спустя четверть часа она вышла из дому, бледно–серые облака затянули солнце, стало прохладнее, еще более зловеще, быстролетящие тени были резки, определенны, пейзаж под ними менялся. Ангел взмахнула рукой, останавливая такси, и машина повезла ее за реку, потом к Сити поближе к Энтони, потом, слава все святым, снова подальше от него, вдоль Аппер–стрит к Финсбери — Парк. Попав туда, она обнаружила, что дом — лачуга, от него не открывался вид на реку и там не было ливрейного привратника, который приветствовал бы ее: «Доброе утро, мисс Крауфорд», — зато он был безопасен, а она свободна, так что для Ангел это был — дворец.
38
Ангел возвращается из туалета, она в хорошем настроении, глаза у нее сверкают, и я едва не жалею, что не пошла вместе с ней. Она садится по другую сторону от Саймона и заводит разговор с Х из КСГХ, могу догадаться, что ей понадобится немного времени, чтобы понять, что он иждивенец всей четверки, человек без таланта, кому просто повезло. Ангел так сообразительна и способна, что стыд берет при мысли, что все это уходит всего лишь на работу в казино, она могла бы сделать гораздо больше, а потом я вспоминаю, через что ей довелось пройти, и уже чудом считаю, что она вообще выжила.
Обслуживающее воинство наваливается снова и подает лимонный пирог с черникой и кремом–фреш (уж для такого знаменательного события можно было побольше постараться с меню). Наградная часть вечера должна вскоре начаться, на роль ведущего взяли того же самого говоруна с Канала 4, как раз сейчас его накачивает информацией близкая к обмороку женщина с блокнотом и на высоких каблуках, на которых она не умеет ходить. Один из официантов доливает мне вина и делает это второпях, словно у меня иного выбора нет. Как принять такое? Наверное, не стоило бы, но мне скучно и я не в духе, так что делаю глоточек, потом другой, но все равно не в силах избавиться от ощущения, будто я всего лишь «почти здесь», что я просто наблюдаю. Лицо Саймона делается больше, надвигается на меня, когда я смотрю на него, все, похоже, утратило пропорции, огни, пустившиеся с началом презентации в вальс по сцене, кричаще ярки, и я опускаю глаза на мой наполовину съеденный лимонный пирог и чую, что вновь перестаю себя сдерживать. Должно быть, это от лекарств, которые дал мне врач, они явно не поладили с моим организмом, а поскольку я не знаю, чем еще заняться, то поднимаю бокал и пью.
Ведущий отпускает рискованную шутку про то, какая куча бездельников занимается рекламой, но он в зале, заполненном людьми, работающими в рекламе, и шутка выходит плоской. Кто–то прерывает его выкриком, мол, они, по крайней мере, не шляются по массажным салонам, намекая на недавний скандал с этим телеведущим, которым упивались таблоиды, и тот направляется прочь со сцены, однако стоявшей в кулисах Даме–с–Блокнотом не сразу, но удается его успокоить.
Награды следуют нескончаемым потоком, и я поверить не могу, что считала такой важностью приход сюда — именно сегодня изо всех дней. «Откровение» номинировано на приз за лучший рекламный телеролик, и, когда объявлено о его победе, я встаю, чтобы вместе с Саймоном получить награду. Когда я стою в своем длинном зеленом платье и кривляю рожи перед камерой, держа диплом за рекламку о бесполезных подмышечных зонах, с которыми связаны взбрыкивающие пони–беглянки, я думаю: до чего же смешон весь этот мир, и дивлюсь тому, что мне понадобилось так много времени, чтобы уразуметь это. Не знаю, с чего я вдруг занялась самоедством, тут дело не в том, будто мы сняли кино или еще что: мы ж не на вручении Оскара, — я просто старалась продать какую–то фигню. Это и впрямь забавно.
Непутевый ведущий бросает еще одну неподобающую реплику, имеющую отношение к рекламе, когда следующая награжденная появляется на сцене в пышном оранжевом платье, и народ в зале нервно хихикает. С меня хватит. Оглядываю стол: Саймон вцепился в Ангел, у Тигры скучающий и надменный вид, будто все это ниже ее достоинства, а я уверена, что так оно и есть, — и мне жутко захотелось вскочить, бегом броситься через зал к спасительной дамской комнате, к содержимому моей сумочки. А потом вспоминаю, что спустила то содержимое в унитаз еще на работе, и уже не испытываю при этом того самодовольства, так что взамен поднимаю бокал и пью свое белое вино, вино теплое, но я пью его глоток за глотком, я не знаю, чем еще занять свои руки. Зал, кажется, поехал от меня, словно пол надвое расщепился, и сцена поплыла куда–то в сторону Парк — Лэйн, оставляя меня в полной безысходности тут, на плоту рекламной жизни в океане моей загубленной жизни. Встряхиваю головой и силюсь вспомнить, что это обещало стать новым днем, новым началом. «Нет, не стало, тянется все тот же день, да и, в конце концов, что это меняет». Ясность осознания, что никакого четкого конца нет, нет конца глубокой печали, что я, может, и изменила свою жизнь, позволила целому году в ней пройти, однако отчаяние никуда не делось и теперь всегда будет во мне. Что сказать? Понимание всего этого изнуряет меня, меня ведет вперед, прямо на стол, голова моя аккуратно склоняется вбок — прямо в остатки моего лимонного пирога.
39
Бен стоял на кухне маленькой квартирки Эмили в Честере, где теперь они жили вместе и где, как ни старалась Эмили изо всех сил содержать ее опрятной, от их вещей уже не было прохода. Шел дождь, горела лампа дневного света, хотя Эмили до сих пор не выносила его. Он положил мобильник на стол. Лицо его ничего не выражало.
— Ну и? — произнесла Эмили.
— Что — ну и?
— Бен, не дразни меня. Прошу тебя. Для меня это невыносимо.
— Они об этом подумали, — сказал он. — И решили… — Бен умолк.
— Что?!
— Они решили…
У Эмили был такой вид, будто она готова была наброситься на него, наземь свалить, но он все равно заставлял ее ждать. Он был как в воду опущенный, словно бы сообщить ей было для него невыносимо.
— …Они решили… принять наше предложение.
Эмили взвизгнула и бросилась к нему.
— Еще многое предстоит сделать, Эм, — смеялся он, поддаваясь ее натиску. — Все еще может провалиться. А даже если и нет, то поначалу мы окажемся на бобах, что вовсе не хорошо. — Бен пытался сдерживать себя, но Эмили понимала, что и он в восторге, просто не желает расставаться со своими надеждами, пока дело не будет сделано: должно быть, в нем говорил бухгалтер, кому необходима защищенность определенности.
— Мне все равно, — заявила Эмили. Мысли ее занимал деревенский домик, такой запущенный и обветшалый на вид. Она сумеет сделать его красивым. Превратит его в настоящий дом для них. Для детей, которые однажды у них появятся. От предвкушения у нее голова кружилась… и тут она вспомнила про Кэролайн и, как ни старалась, не смогла избавиться от проблеска вины за свою радость, однако сочла за лучшее не омрачать ее.
Белый фургон робко, подрагивая, сдавал задним ходом к бордюру. Бен головой высунулся в окошко, тогда как Эмили руками делала манящие знаки, словно бы он не доверял ей, но толку в том не было, он все равно ничего не видел.
— Держи на меня, — говорила она. — На меня. — Она махала руками, сжимая и разжимая пальцы на ладонях, словно исполняла какое–то замысловатое психотерапевтическое упражнение. Вдруг она встала и вместо того, чтобы повернуть к нему раскрытые в ладонях руки, закричала: «Тпру!» — как будто он был непослушным пони, а когда таким способом остановить мужа не получилось, она яростно бухнула рукой по кузову фургона и отскочила в сторону, но было уже поздно.
Раздался душераздирающий скрежет, словно череп треснул.
— Какого лешего… — вырвалось у Бена.
— Черт, извини, — пробормотала Эмили.
— Эм, побойся бога!
— Ой, нет, я идиотка. — Пока Бен глушил двигатель и выбирался из кабины, она беспомощно разглядывала заднюю часть фургона, которая въехала в фонарный столб.
Бен, нагнувшись, обследовал повреждение, ничего не говоря, он был явно зол на нее.
— Не так уж плохо, а? — с надеждой выговорила она. — Только тормозной фонарь разбило.
— Хмм, тебе везет, — наконец–то произнес он, выпрямляясь. — По–моему, это всего лишь пластиковый бампер.
Эмили чувствовала, как стихает неприятное ощущение в желудке.
— Слава богу, — сказала она. Помолчала, стараясь понять, в каком он расположении духа. — И, в любом случае, если честно, то в этом не моя вина, ты должен был следить внимательно. — Она заговорила на адвокатский манер. — Полагаю, ты убедишься, что единственным, кто несет ответственность за любые возникающие проблемы, является лицо, управляющее транспортным средством.
— Тут не до смеха, Эмили, — заметил Бен. — Занявшись перевозом сами, мы рассчитывали сэкономить деньги.
Она прильнула к нему, обвила руками, сказала, мол, по крайней мере, у них все–таки есть дом их мечты, не так уж все и плохо. Он, хоть и пытался оставаться сердитым на нее, но, как оказалось, не смог. Пока он созерцал арендованный фургон, который (он вынужден был признать это) годился для маневрирования не больше, чем черт для отпевания, на дороге зачихала машина, оплевывая все вокруг выхлопными газами.
— Ну вот, Дэйв, по крайности, уже здесь, — сказал Бен, выходя из затруднения. — Пойду лучше припаркую эту таратайку как следует, чтоб можно было начать разгрузку. — Он глянул на нее сверху вниз из кабины, вновь запуская двигатель. — О нет, помощь твоя мне больше не нужна, спасибочки.
В то утро пораньше они заканчивали паковку вещей со старой квартиры, подбирая последние остатки своей жизни в ней: совок с веником, тазик для мытья посуды и посудное полотенце, пару резиновых сапог, коврик у двери, — и швыряли их как придется в большие черные мешки для мусора, поскольку коробки у них кончились.
— Ой, между прочим, Мария обещала забежать попозже, — сообщила Эмили безо всякой задней мысли. — По–моему, было бы хорошо, если б кто–то еще нам помог вместе с Дэйвом.
— Эмили, — вздохнул Бен, — когда ты только перестанешь сводить эту парочку? Тебя ж насквозь видно!
— Ты разве не считаешь, что вместе им было бы прекрасно? — спросила Эмили.
Бен тогда бросил на нее полный отчаяния взгляд: временами она бывала такой бестолковой.
— Знаешь, сами они явно так не считают, иначе это давно бы произошло, судя по количеству твоих попыток свести их.
— Да ведь Мария идеально ему подошла бы, — упорствовала Эмили. — Спорить могу, ей в радость было бы прыгать с парашютом. И я всегда так переживала за нее с тех пор, как они с Эшем разбежались, ей так тяжко приходилось.
— Эмили, нельзя бегать повсюду, устраивая жизни других людей, вспомни, сколько сил ты на Кэролайн потратила. С Марией все прекрасно. Не надо опекать ее.
— О, — вспыхнула Эмили, — я и не собиралась. Как бы то ни было, а помочь она вызвалась сама. Говорила, что ей нечем заняться на выходные.
— А я тебе говорю, не жди ничего, потому как этого просто не будет.
— Откуда тебе знать? — не сдавалась Эмили. Она исчезла в недрах шкафа в коридоре и голос ее долетал приглушенно. — Просто ты парень.
— Эмили, — сказал ей в спину Бэн. — Я тебя очень люблю, но ты не Силла Блэк[25].
Когда Эмили выбралась из шкафа, нос у нее был вымазан в грязи, а волосы растрепались, выбившись из заколки. Она глянула ему в лицо, хранившее самодовольное выражение, ласково улыбнулась, а потом запустила огромной ацтекской подушкой, которую когда–то соорудила ей мать, прямо мужу в голову.
Уже после шести вечера Бен с Дэйвом опустились на диван, который занял свое новое место в уютной маленькой гостиной, и принялись за баночное пиво. Мария неудобно пристроилась на серебряное кресло–качалку с кружкой чая, который она приготовила для себя и Эмили. Эмили стояла, чай ее стыл, а она копалась в коробке с надписью «Украшения», извлекая из упаковки стеклянные чаши, подсвечники, греющие свечи под чайники, рамы для картин и пытаясь пристроить их в разных местах комнаты.
— Эмили, ты уверена, что тебе не надо присесть? — обратилась к подруге Мария. — По–моему, сегодня ты достаточно поработала.
— Не надо, не трогай ее, — сказал Бен. — Для Эмили это лучшее из занятий.
— Знаю, это могло бы подождать до завтра, — улыбнулась Эмили. — Но просто мне хочется, чтобы в нашу первую ночь здесь можно было чувствовать себя больше по–домашнему. — Она помолчала. — Вы оба не хотели бы остаться на вечернюю пиццу? Мы сделаем заказ и тем выразим вам свою признательность.
— Нет–нет, спасибо, — быстро проговорила Мария, хотя Дэйв, судя по его виду, был не прочь отведать пиццы. — Мне скоро уже надо дома быть, да и вообще вам надо провести ваш первый вечер здесь вдвоем.
Как ни старалась Эмили уговорить подругу, Мария отказывалась, кончилось тем, что Эмили настояла на том, что отвезет ее домой, потому как это самое малое, чем она могла бы отблагодарить за всю оказанную Марией помощь, а ко времени ее возвращения ушел и Дэйв, которому Эмили так и не успела сказать спасибо, за что надулась на Бена.
Бен спросил, не будет ли Эмили возражать против карри вместо пиццы, и та, притворно вздохнув, ответила, что, видимо, не будет — ради разнообразия. Ирония иронией, а они уминали еду на кушетке перед только что подключенным телевизором, который слегка трещал, поскольку тарелку–антенну еще не подсоединили, но это не имело никакого значения, потому как Эмили не обращала внимания на то, что показывали на экране. Мысли ее целиком были заняты тем, как шторы или жалюзи будут лучше выглядеть на окнах, в какой цвет красить стены и какие растения ей следует посадить в ящиках под окнами, пока Бен в конце концов не шикнул на нее и не сказал, что с большим удовольствием послушает героев «Фактора Икс», а ее причитаний по поводу домашнего убранства он наслушался вдоволь, так что дело кончилось тем, что она, стащив его с кушетки, заявила, что устала и что совсем не лишним было бы заодно посмотреть, на что похожа их спальня.
40
Ангел слегка встряхивает меня, и я слышу смех, а когда сонливо распрямляюсь, то понимаю, что на этот раз народ смеется надо мной, что этот придурок ведущий теперь объектом оскорблений избрал меня. Усаживаюсь за столом прямо и стараюсь сохранить самообладание. Меньше всего меня трогает, что этот тип говорит или отчего люди смеются, какое значение это имеет сегодня, как ни в какой другой день? Вскидываю голову, как пони, и от меня отлетает маленький кусочек пирога, а ухо становится какое–то липкое, только я все равно достаточно пьяна, чтобы попросту попивать себе из бокала с беззаботным видом, разговор меж тем переходит к следующей занудной награде.
— Детка, ты как, в порядке? — шепчет Ангел. — По–моему, эта последняя, потом мы можем пойти и привести тебя в порядок.
— Мне хорошо, — говорю, и хотя я все еще пьяна, но уже получше вникаю, похоже, ничто так не помогает одолеть вечер награждений, как коротенький сон. Смотрю на часы: боже мой, еще только 10.30. Блаженно улыбаюсь всем за столом, а они все смотрят на меня, но не снисходительно или презрительно, а просто участливо, и, по–моему, все они отличные ребята, если смотреть поглубже.
Ведущий произносит свой заключительный шутовской монолог, мы аплодируем ему вежливо, и он проваливает в свое привычное стойло делать карьеру на телевидении и на ночных тусовках. Я не держу на него зла за оскорбления в мой адрес, просто мне его немножечко жаль — как Эмили пожалела бы. Ангел берет меня за руку, и мы добираемся до туалетов, рядом с ней я по–прежнему чувствую себя зеленой и неуклюжей, эдакой бросающейся в глаза верзилой, долговязым лимоном, судя по физиономии. Народ глазеет на меня. Половина моего лица будто вымазана клеем. Ангел помогает мне очистить с себя пирог, а потом начинает подпихивать к кабинке, уверяя, что это, может, поможет, и, хотя мне хочется отчаянно и уж наверняка я заслужила понюшку после всех этих чертовых награждений, я думаю о своем сыне и все равно упираюсь. Мое воздержание придает мне неведомую силу, будто я наконец–то в выигрыше. Брызгаю в лицо холодной водой и теперь просыпаюсь окончательно, даже кайф ловлю, а когда мы вновь пересекаем банкетный зал, я уже не неуклюжая и не на стручок похожая, а сочно–зеленая и гибкая, словно длинная прядь водорослей, что грациозно колышется под водой: корень держит, и все же — свободная. Платье на мне волнует и чарует, красивые туфли на гвоздиках только сил придают, а не мешают; уверена, что на этот раз я обращаю на себя внимание вполне обоснованно. Возвратившись, сажусь за стол рядом с Саймоном и излучаю улыбку на миллион долларов, а он наливает мне в бокал шампанское, которое заказал, чтобы отпраздновать победу нашего «Откровения».
— Отличная работа, дорогая моя Кэт. Вам уже лучше?
— Чувствую себя потрясно, — отвечаю и делаю глоток, и это действительно так, не знаю, чем врач меня напичкал, но вместе с шампанским оно оказалось динамитом.
— Меня пригласили на дружескую вечеринку в «Граучо» попозже… вы как, расположены? Могу взять с собой только вас и Ангел, так что, прошу, не говорите ничего остальным.
— Звучит волшебно, — легкомысленно бросаю я, залпом опрокидываю бокал, беру его за руку и тащу на танцпол, где уже зазвучала «А я вот выживу!». Удивительно, но Саймон не противится, танцпол уже забит народом, я вскидываю руки над головой и пою в такт слово в слово, чувствую себя освобожденной, сильной, неодолимой.
41
Собравшись наконец с духом и уйдя от мужа, после того что тот вытворил на свадьбе Эмили, Фрэнсис сама себе дивилась, отчего она не сделала этого на много лет раньше. Любить Эндрю она не переставала, несмотря на все его измены и издевательства над нею, однако с опозданием поняла, что натуре мужа присущ один порок, который не даст ему пропустить смазливую мордашку или пышные груди… или, в сущности, ни одну, которая вознесет его «я» и поможет забыть, что он женатый человек, что у него две дочери, забыть про не бог весть какую карьеру, про пробивающуюся на голове плешь.
Фрэнсис прекрасно понимала, что не могла оставаться у Эмили с Беном надолго, все–таки они новобрачные (плюс Кэролайн то и дело наезжала в гости и вела себя чересчур уж по–дружески с Беном, чтобы это хоть кому–то понравилось). Однако на следующий день после свадьбы, похоже, пришло мгновенное решение затянувшейся головоломки: дом был пуст, ключ лежал у нее в сумочке, и это означало окончательный разрыв с Эндрю — к тому ж она знала, что Эмили с Беном возражать не станут, учитывая сложившиеся обстоятельства.
Эмили, как всегда, была предупредительна, помогла матери подыскать съемную квартиру и даже платила за нее, пока улаживались все дела с продажей дома. А теперь у Фрэнсис собственный маленький коттедж в старом городе, и он ей нравится куда больше, чем старые усадебные хоромы с их унылыми квадратными комнатами и смертельно опасными стеклянными дверями. Она записалась на литературные курсы и в группу йоги, выяснила, что люди в них дружелюбны и некоторые, как и она, живут сами по себе. Особенно подружилась она с одной женщиной по имени Линда с литературных курсов. Эта Линда, ставшая вдовой, устроила себе фантастическую новую жизнь и собиралась на благотворительное восхождение на гору Кения. Когда она предложила Фрэнсис отправиться с нею вместе, та подумала: «А почему бы и нет?» — и вот теперь она в Хитроу спустя почти год после того, как бросила мужа. Хотя ее до боли беспокоила судьба Кэролайн, но улетала она всего на десять дней и убеждала себя, что с Кэролайн все будет хорошо.
42
После еще одной песни Саймон уводит меня с танцпола и предлагает отправиться на вечеринку к своему другу. В глубине души я понимаю, что идти мне не следует, следует отправиться в постельку домой, ведь день был таким долгим и мучительным… но я перевозбуждена, наэлектризована, мне нравится танцевать в моем длинном изумрудном платье. Понимаю, что это безумие, но не чувствую в себе готовности положить конец этому вечеру, хочу за полночь задержаться, прямо до 7 мая, когда (уверена!) все будет обстоять лучше. Я даже позволяю своей руке остаться в руке Саймона, когда мы уходим, его касание несет тепло и покой. Ангел, как всегда, мила и настоятельно подхватывает меня под другую руку, хотя, уверена, мне этого вовсе не нужно, я уже пришла в норму, и голова у меня не кружится, я точно протрезвела. Шофер Саймона ожидает возле гостиницы, и мы катим по центру Лондона, где улицы свободны и машины мчат быстро, большой черный лимузин ободряет своей основательностью, тяжким хлопком закрывшейся двери, своей защищенностью, так что, когда мы добираемся до Дин–стрит, я не желаю из него выходить. Когда мы останавливаемся возле клуба, я на миг вспоминаю Кэролайн, какой молодой она была, когда под бомбу попала тут, за углом, как потеряла она своего ребенка и своего любовника, внезапно мне становится до боли ее жалко, я почти прощаю ее.
Клуб полон модно одетого народа и узнаваемых знаменитостей, я, хоть и пытаюсь не чувствовать себя неуместной, самозванкой, конечно же, такая и есть. У Ангел такой вид, будто она родилась тут, невзирая ни на какой акцент, она легко становится своей в этом обществе, целую вечность щебечет о чем–то с хозяином вечеринки, который, похоже, модельер со своим магазином в Ковент — Гардене.
Саймон проводит меня к бару, заказывает еще шампанского, и, делая свой первый глоток, я осознаю, что полночь уже минула, и в душе поздравляю себя с началом дня после, как вдруг кто–то трогает меня за плечо. Оборачиваюсь и вижу ярко размалеванного молодого человека с травленными перекисью волосами и густо наведенными бровями.
— Кэз, — говорит он, — дарааагуша, это ты! До чего ж потрясно тебя видеть. — И он заключает меня в легкие пахучие объятия, словно я хрупкая и изящная драгоценность.
На минуту я теряюсь, а потом доходит: он, должно быть, думает, что я Кэролайн! По–моему, удивительно, что прежде такого никогда не случалось… а потом я вспоминаю тот жуткий день в Хэмпстед — Хит и поверить не могу, что не поняла тогда: тот мужчина не меня узнал, он тоже, должно быть, принял меня за нее. Я и забыла, что я — близняшка, что похожа на свою сестру, вот и не знаю, что сказать и что сделать. Саймон смотрит на меня, но, по–моему, он не расслышал имя, и я цепляюсь за это.
— Привет, — говорю и чувствую, как внутри все пошло кругом.
— Как у тебя сейчас–то дела? Чем занимаешься? — спрашивает напомаженный девочка–мужчина.
— А-а, то да се, — беззаботно отвечаю я. — Все еще в модном бизнесе работаю. — Надеюсь, Саймон этого не слышит. — Извини, надо в дамскую комнату наведаться, приятно повидаться. — И я шагаю к Ангел, яростно шепчу ей, и она неохотно протягивает мне свою крохотную розовую шелковую косметичку, впрочем, беспокойно приговаривает, что мне это ни к чему.
Наркотик с силой бьет в голову, меня шатает в кабинке, решаю, что на этот раз я и в самом деле отправляюсь домой, нельзя мне в один день ничего больше. Ангел была права, хватит мне, о чем я думала–то, когда сюда шла? Пойду к Саймону, скажу ему, что неважно себя чувствую, он вызовет мне такси, а я подожду на улице, на воздухе. Ангел может оставаться, если хочет, мне нужды нет портить ей вечер. Интересно, думаю, кто еще тут может знать Кэролайн, в конце концов эту вечеринку модельер же устроил, и мысленно казню себя за глупое свое поведение. Гляжу в зеркало и вижу высокую девушку с пылающими щеками, сверкающим взглядом, пунцовой раной губной помады над изумрудным платьем. Выгляжу довольно классно, если все принять во внимание. Расправляю плечи и поворачиваюсь к двери, а когда открываю ее, у меня мозги переворачиваются, будто я уразуметь не могу, что происходит, будто я уразуметь не могу, отчего оказываюсь глаза в глаза со своим мужем.
43
Путешествие на гору Кения стало для Фрэнсис волнующим, открывающим иную жизнь. Она вообще никогда не выезжала из Европы, никогда прежде не спала в палатке, никогда не была на высоте в горах, никогда не восходила на гору с живыми цыплятами, чтобы двумя днями позже съесть их в жидком вареве. Никогда прежде не смотрела она в пять часов утра с обледенелой вершины на раскинувшиеся внизу равнины, когда восходило солнце. А теперь признавала: вот это и есть жизнь, вот для чего занесло ее на эту планету, чтобы сердце ее билось громко, часто и свободно. Ее восхищал, покорял контраст между жаркой многокрасочностью пейзажа у подошвы горы и температурой ниже нуля, отвесными ледяными стенами на ее вершине. Несмотря на отсутствие всяческих удобств, с болью обретаемый опыт, она заглотнула эту приманку, поняла, что отныне такие путешествия станут ее делом до конца жизни. Больше никаких унылых недель в Бретани или Корнуэлле с ее развратным мужем. Была и еще одна сторона этого путешествия, которая заставляла сердце биться учащенно: среди проводников был там один… и пусть он был на два десятка лет ее моложе, было что–то такое в его фигуре, в том, как он повелевал группой, что наделяло ее щемящим осознанием того, где он находился, все время, а если он подходил к ней или спрашивал, как она себя чувствует, она вспыхивала румянцем, как девочка. Спуск, как выяснилось, заставил ее взгрустнуть, и, когда они добрались до нижних склонов, Фрэнсис была признательна за радостную весть: предстояло провести еще одну ночь в тамошних хижинах, а уже потом утром возвращаться в Найроби. Когда она в свете вечернего солнца сидела на траве, пила местное пиво с остальной группой, чувство было такое, словно ей совершенно не хочется уходить с этой горы, расставаться с этой минутой. Ну и, когда под конец ночи он шепнул номер своей хижины ей, Фрэнсис, она была потрясена, зато Линда дала ей команду «вперед!» — и она пошла, и провела ночь такой великолепной изматывающей животной страсти с этим черным божеством во плоти, что подумала, если ей никогда больше не случится еще раз испытать страсть, то, по крайней мере, эта у нее была.
44
Мужчина, стоявший передо мной, это Бен из только что завершившегося года, тот, каким я его впервые встретила, а не нынешний сломленный Бен. Я настолько смущена всеми событиями этого нескончаемого дня, оттого, что меня только что за Кэролайн приняли, что никак не могу уразуметь, что он тут делает, перенесенный в пространстве и во времени. Похоже, я напрочь утратила всякое представление о реальности, просто стою и глазею на него, а он на меня, на мои выразительные глаза и яркие губы. Бьющий меня электроток так же яростен, как и тогда, в миг, когда я влюбилась в своего мужа, прямо перед тем злосчастным прыжком с парашютом, когда он затянул на мне лямки и фейерверком взметнул огонь по моим бедрам. Пытаюсь прийти в себя, отвожу пристальный взгляд, смотрю себе под ноги, на свои серебряные каблуки, которые непременно унесут меня прочь от этого свихнувшегося дня. Ощущение такое, словно драть мне надо отсюда, незачем мне натыкаться еще на кого–то, кто мог бы знать меня или мою сестру, кто обитает в моем мрачном внутреннем мире. Делаю шаг вперед, ноги заплетаются на каблуках, он подхватывает меня за руку и говорит:
— С вами все о’кей?
— Да, — отвечаю. — Просто голова немного закружилась, нужно, думаю, на свежий воздух. — И этот красавец берет меня нежно под руку и так заботливо ведет через толпы людей, мимо бара, мимо Саймона с Ангел и выводит прямо в прохладу полуночной улицы. — Думаю, мне домой надо, — говорю. — Не будете так любезны вызвать мне такси?
— Конечно, — отвечает он. — Только это может некоторое время занять, вы как, выстоите? — Я киваю, однако наваливаюсь на него всем телом, оседая. — Может, проще будет поймать машину. Вы как, сможете пройти немного? Там, на Чаринг — Кросс–роуд, побольше машин попадается.
И мы медленно шагаем по Олд — Комптон–стрит, мимо перестроенного «Адмирала Дункана», немногие прохожие оглядываются на нас, а я, сама не знаю почему, больше в обморок не падаю и не шатаюсь. Когда доходим до главной улицы, черных лимузинов–такси нет, так что мой новообретенный приятель ловит таксиста в мини–автомобиле (из тех хитрецов, что дерут за проезд втридорога), и когда я иду усаживаться, приятель останавливает меня и говорит:
— Послушайте, мне не по себе, что я вас вот так бросаю. Я живу сразу за углом. Хотите, пойдем туда, пока вы не почувствуете себя немного лучше? Могу напоить вас чаем, если заходите.
Я все еще не знаю, как его зовут, но день тянется уже так долго и настолько выбивается из реальности, что я, к своему удивлению, говорю «да» (малый как–то не похож на маньяка с топором), так что он просит таксиста подбросить нас до Мэрилебон, а когда мы добираемся туда, квартира его оказывается над каким–то магазином — и она классная: громадная, стильная, прекрасно обставленная. Присаживаюсь на диван и наконец–то чувствую себя в безопасности, словно в конце концов попала туда, куда должна была попасть сегодня, ничего больше не хочу, как только свернуться в клубочек и заснуть.
— Простите, я даже имени вашего не знаю, — говорю я, а он как–то странно смотрит на меня и в ответ:
— Я вашего тоже не знаю.
— Я Эмили, — произношу прежде, чем успеваю остановиться.
— А я Робби, — отвечает он.
— Рада познакомится, Робби, — бормочу, застенчиво улыбаюсь и закрываю глаза.
45
Когда Фрэнсис вернулась в гостиницу в Найроби, ее поджидало сообщение. «Мам, привет, позвони мне как можно скорее. Любящая тебя Эмс». У Фрэнсис все заныло, она даже грязь на себе ощутила, как будто ее дочь могла догадаться на том конце телефонной линии, чем она всю ночь занималась с проводником этого Олимпийского турне. Набирая номер, она испытывала тот же знакомый страх, понимая, что речь пойдет о Кэролайн, а ей так не хотелось переноситься обратно в драму и потрясения, она хотела навеки остаться под африканским солнцем.
Вечность потребовалась, чтобы на линии произошло соединение, а потом еще вечность, чтобы Эмили ответила. Фрэнсис оказалась права: разговор о Кэролайн.
Ее арестовали за вождение в пьяном виде, норму она превысила в два с половиной раза, а потом устроила настоящий скандал в участке, ночь ее продержали в камере, пока она не выплакалась, протрезвела и не утихомирилась.
— Мам, я не знала, звонить ли тебе, но Кэролайн говорит, что на этот раз хочет отправиться прямо в лечебницу, что, по–моему, и в самом деле вещь хорошая… и… хм… ну… в общем, она говорит, что у нее совсем нет денег. Мы с Беном кое–чем помочь сможем, но для нас это большие деньги.
— Передай ей, пусть едет в клинику, а сама не беспокойся: со счетом я утрясу, — сказала Фрэнсис, хотя и не знала, откуда достать денег.
Но это было меньшее, что она могла бы сделать для своей дочери: в конце концов, в том, как все обернулось с Кэролайн, целиком ее вина. По крайней мере, в последнее время они стали ближе, слава богу. Она задумалась, поможет ли лечение на этот раз, сделается ли Кэролайн когда–нибудь лучше или всю жизнь будет бороться с какой–нибудь болезнью в себе либо с пагубной привычкой. Мысли повергли Фрэнсис в печаль, она вышла из вестибюля и раскинулась под солнцем в шезлонге. Она в такой дали от своего ребенка, ее ребенка, кому нужна она, вечно бесполезная мать, возлежащая возле бассейна в Африке, у которой до сих пор внутри все ломит, а в ноздрях все еще держится этот незабываемый чарующий запах страсти.
46
Когда я просыпаюсь, меня укрывает одеяло, я лежу, вытянувшись, на диване и понятия не имею, где нахожусь. Осторожно перебираю вчерашние события: неудачный обед с Саймоном, мое жуткое расстройство здоровья, день, проведенный недвижимо в постели, ужасная церемония награждения, мое безумное сумасбродство, вечеринка в частном клубе, меня по ошибке за Кэролайн приняли… Понемногу окончание вечера раскручивается в мозгу, и наконец я вспоминаю незнакомца, с которым ушла домой. Глянула на себя: я все еще в своем зеленом платье (хороший знак), я все еще в его гостиной (еще один), но его тут нет. Становится стыдно, что я, должно быть, отключилась… сколько времени я тут? Сколько сейчас времени? Часы на стене показывают половину седьмого. Утра или вечера? Да, должно быть, утро, утро субботы. Во рту сухо, голову разносит, словно произошел атомный взрыв, дикая боль. Сажусь, стискиваю голову и стараюсь сообразить, как отсюда лучше выбраться. Малый, похоже, очень добр и, по всему судя, ко мне не приставал, так что, может, мне следует просто уйти, оставив ему записку, поблагодарить за гостеприимство. Или, наверное, лучше заглянуть к нему в спальню, просто чтоб сказать «пока»? Как, черт возьми, по этикету–то положено? Понимаю, что за вид у меня будет на улице в атласном платье и размазанном макияже, надо такси вызвать… но я же понятия не имею, где я, какой адрес называть. Мне отчаянно нужно добраться до душа, чтобы встряхнуться, и, шатаясь, я прохожу через комнату в коридор. Кухня напротив — она огромная и ультрамодерновая, с островком посредине и четырьмя высокими фасонными белыми стульями, аккуратно пристроенными по окружности. Нахожу тумблер на сливе, включаю затычку, отчего насос начинает работать на всю мощность и завывает на всю квартиру. В панике выключаю его и пью воду прямо из раковины. Я все еще ломаю голову, как мне выбраться, когда слышу шаги и в двери появляется Робби — он в белой футболке и трусах–боксерках, стряхивает с себя остатки сна.
— Как ни жаль, я все еще тут, — произношу.
— Мне не жаль, — говорит Робби. Я смущенно опускаю взгляд. Он вызывает во мне такое волнение, какого я не испытывала ни с кем другим, кроме Бена, чувствую себя изменницей, и мысль эта смехотворна.
— Хотите чаю?
— Еще очень рано, возвращайтесь–ка в постель, — говорю.
— Да нет, нет, все о’кей, — говорит он, подходит, берет чайник и передает его мне. Меня физически тянет к нему, как к магниту, и это ощущение распространяется по всему телу — от груди до ног.
Робби смущает меня. Он симпатичен, заботлив, богат, вероятно, и уж точно слишком хорош, чтобы в такое верилось. Его кухня девственно непорочна, словно ею никогда не пользовались. Он наливает чай в две кружки, мы проходим в гостиную, и я неловко усаживаюсь на один диван рядом со свернутым одеялом, а Робби садится на другой. Не отрываю глаз от коричневатой пены, образовавшейся по краям моей кружки, куда Робби добавил молока. Не знаю, что говорить, куда смотреть, из головы никак не уходит мысль, как же он похож на моего мужа. Голову, кстати, все еще ломает.
— У вас нет каких–нибудь таблеток от головной боли? — спрашиваю, в основном чтобы молчание прервать.
— Сейчас, — говорит Робби, встает, и, когда он проходит мимо, замечаю, что опять затаиваю дыхание. Выдавливаю найденные им для меня таблетки из серебристой фольги и глотаю их, запивая чаем, хотя он и подал мне стакан воды. Чай обжигает мне горло.
— Это у меня не с самого похмелья, — объясняю. — Просто вчера выдался насыщенный день.
— Все о’кей, — говорит Робби. И, помолчав: — Послушайте, я устал, а у вас голова болит, так что, надеюсь, позволите спросить… э-э… не согласитесь ли пойти и прилечь, и мы просто сможем опять поспать? Там будет куда удобнее, чем здесь.
Я не отвечаю.
— Или, если предпочитаете, есть свободная комната, — добавляет он.
Пробую сообразить. Понимаю: мне надо ехать домой, но, стоит мне выпрямиться, как голова начинает болеть с такой силой, что даже думать о поездке в такси не хочется. Хочется опять поспать. По–моему, и ему до смерти хочется. Может, и стоило бы принять его предложение занять свободную комнату, но что–то говорит мне, что это бы стало излишней тратой… вот только чего? — тут у меня уверенности нет.
— Звучит заманчиво, — говорю под конец, словно он мне чашку чая предлагал. — Не будете возражать, если я у вас футболку одолжу или еще что–нибудь? Отчаянно хочется сбросить это платье и… — Я умолкаю.
— Конечно, — отвечает Робби, поднимается и ведет меня к спальне. Решительно осознаю, что это ключевой момент, что меня несет вместе с этим мужчиной, которого я только что встретила, в еще одну новую стадию моей жизни на этой земле.
47
После того как Эмили ушла, Бен изо всех сил старался жить, как живется. Пытался не винить ее, пытался понять, почему она сделала это, и в общем–то от осознания, что она все заранее обдумала, взяла свой паспорт, обналичила банковский счет, становилось легче: по крайней мере, он знал, что она где–то там, не лежит бездыханная и неузнанная где–нибудь в глухом лесу или в вонючей канаве. В иные же времена он невероятно злился на нее, на ее трусливый уход от него с Чарли, за то, что они переживали трудности выпавшей им судьбы не вместе. Она все неправильно поняла: с той самой минуты, как они встретились, им предназначено было оставаться вместе навсегда, в горе и в радости, вот чему полагалось бы случиться в их истории. Только вот земля словно сама собой стала вращаться наоборот, превратившись в головокружительный антимир, где с того дня все пошло не так и где Бен был бессилен что–либо исправить. Все его усилия найти ее ничего не дали. Полиция, если что и смогла сделать, так только выразить ему сочувствие, а Государственная налоговая служба и вовсе отказалась помочь, заявив, что не имеет права сообщать конфиденциальную информацию в случаях добровольных исчезновений.
Когда Бен услышал это, произнесенное отрешенно–официальным женским голосом, он, взбешенный таким безразличием, чуть телефон не разбил, шмякнув им по столу. В отчаянии он взял отпуск на работе и отправился в Девон и Западный Уэльс, объехал Парк — Дистрикт, заглядывая в гостиницы, пабы и чайные, в которых они когда–то побывали, украдкой доставал прекрасное ее фото, а потом чувствовал себя идиотом, когда на него глядели как на сумасшедшего и говорили что–нибудь вроде: «Простите, сэр, ничем не могу вам помочь». От родных жены толку не было. У Фрэнсис опять живет Кэролайн, разбежавшись со своим последним любовником (который, очевидно, оказался ей неверен), и дочь ведет себя как никогда плохо. Фрэнсис, похоже, целиком ушла в отношения со своей младшей дочерью в попытках преодолеть свое горе, так что Бену ей посоветовать было нечего. Бедняга Эндрю весь в расстройстве, так и кажется, что он угасает, уходя в самого себя, к тому же в последнее время Бен с ним редко виделся: тесть всего лишь время от времени забирал Чарли, но, похоже, даже пес его не очень–то занимал.
Только работа и Чарли давали Бену сил держаться с тех пор, как стало ясно, что Эмили и вправду не собирается возвращаться. Он установил расписание попечения, родители его приняли и повели себя очень достойно. Они, хотя и не говорили об этом никогда, все же, как он догадывался, не видели ничего удивительного в том, что их невестка сбежала, ведь посмотрите только, из какой она семьи. Эмили они любили всегда — саму по себе, это–то Бен понимал, но с отвращением восприняли все выходки на свадьбе и никогда до конца не переставали беспокоиться, как бы странности такой семейки не сказались на матери их единственного внука. Тихими ночами Бен сидел и с опаской думал о том же. Вот почему все же Эмили ушла? Только ли из–за того, что случилось, или из–за того, что где–то глубоко–глубоко натура ее все же оказалась сильно испорчена ее семьей? Всегда она выглядела такой здравой, такой сострадательной, такой жутко похожей на него… Как раз это прежде всего и привлекло его в ней с того самого первого раза, когда он увидел ее стоящей в конторке автостоянки, явно повергнутую в ужас, ковырявшую носком туфли асфальт, пока они соображали, кто в чьей машине поедет на аэродром. Тогда, едва поздоровавшись с нею, он ощутил восторг, распознав в ней что–то такое, что дало понять: вот оно. В тот первый день она, разумеется, видела его насквозь, сразу же поняла, что он сокрушен, но дело в том, что потом она в этом усомнилась, не смогла понять, насколько она потрясающа, и это еще сильнее распаляло его любовь к ней. Тогда он подумал: должно быть, вообразил себе это, — но позже, днем, когда он застегнул на ней парашютные лямки, она, выпрямившись, взглянула на него едва ли не недоуменно, и этот взгляд, похоже, означал постижение, сменившееся затем смущением. Она побрела от него, а он продолжал обряжать парашютистов, желая сосредоточиться: нельзя было отвлекаться, имея дело с парашютами.
Позже он корил себя за то, что не был дружелюбнее на обратном пути домой, но он не знал, как справиться со своими чувствами: любовь никогда еще не поражала его, он и не думал, что такого рода вещи и вправду случаются. И только когда, наконец, месяцы спустя, когда они, как в сказке, сошлись, она и рассказала, что у нее есть похожая на нее сестра–близняшка, да еще такая, которая не очень–то ее жалует, тогда Бен совершенно убедился: он ей нужен так же, как и она нужна ему. Чем–то это было похоже на то, будто он стал близнецом, какого у нее никогда не было: ее задушевным, самым лучшим другом, кто знал, о чем она думает, человеком, кому она могла сказать полную правду о том, что чувствует, неважно, какой слабостью или сумасшествием это мог счесть кто–то другой — он всегда постигал ее, понимал, что она имеет в виду. То, что их так безумно тянуло друг к другу, походило едва ли не на дополнительную награду, пусть порой Эмили и поддразнивала, говоря, что любит его, невзирая на его профессию и дурацкое времяпрепровождение, а он в ответ подтрунивал над ней, говоря, что, если она когда–нибудь от него отстанет, всегда найдется точная ее копия, которая, он уверен, его пригреет. И оба они смеялись своему озорству и полной уверенности в своих чувствах друг к другу.
Бен частенько задумывался над своей совместной с Эмили жизнью, когда Чарли спал, а он сидел в одиночестве на диване (том самом, на котором при покупке обнимались с женой в товарном зале: Эмили скинула туфли, свернулась, словно кошечка, клубочком, убеждаясь, что диван вполне удобен, чтобы его купить, — слишком уж он дорого стоит, чтобы ошибиться, сказала она тогда). В последнее время Бен, подключивший к телевизору свой компьютер, просматривал на нем бесконечные фото из их громадной коллекции и зачарованно замирал то от одного, то от другого снимка: вот сделанное с расстояния вытянутой руки фото их обдуваемых ветром лиц на каком–то безымянном зимнем пляже в Девоне; вот Эмили на фоне Дворца дожей на площади Святого Марка во вторую годовщину свадьбы; Бен держит Чарли у реки около Бакстона, опасаясь, как бы тот не прыгнул в воду; вот Эмили, еще более потрясающая, чем ей представлялось, в день их свадьбы, позади нее ласковой синевой сияет море; Эмили баюкает их младенца–сына в садике Фрэнсис, засаженном розами; они вдвоем в Сорренто во время медового месяца, держатся за руки на фоне приземистых розово–оранжевых строений, толпой спускавшихся к воде; вот Чарли и его лучшая подруга Даниель обнимаются на этой самой кушетке; Эмили смеется, поливая цветы, Чарли держится рядом, весь мокрый; вот безмятежное лицо Эмили на фоне Кносского дворца с красными колоннами на Крите, ни она, ни он еще не знают, что она беременна; все они, сбившись в кучу, на кровати утром на Рождество. Картинки мучительно проплывают по экрану, Бен едва успевает рассмотреть их, понять, когда фото сделано, а они уже уплывают, на смену им появляются другие. Бен готов часами смотреть, раз за разом думая: «Ну, еще всего одно, и ухожу», — пока его до костей не пробирал холод сгустившейся темноты, только он не мог оторваться даже для того, чтобы включить обогрев или свет, ведь она словно бы говорила с ним издали, спрашивая: «А это когда было, помнишь? А это где?» — и оказывалось, что его это, как ни странно, успокаивало.
Бывало и по–другому, когда появлялось изображение, казавшееся таким живым, таким дразнящим, что он по–прежнему отказывался верить, что она покинула его, а больше всего отказывался поверить, что он не знает ни что с ней, ни где она. И он покорялся своей тоске и одиночеству: валился порой на пол, рыдал, бил в пол кулаками, беспомощный в своем горе, словно дитя малое.
Бен держался лучше, чем кто угодно мог предположить, когда первоначальная боль улеглась, когда опали листья и, вздыхая, уходил год… вот только непереносима была мысль о Рождестве, а потому его родители настояли и устроили поездку в горы Шотландии, в памятную им крохотную гостиницу. Погода стояла не ко времени великолепная, так что время удалось провести даже не без радости. Из Манчестера они отправились рано поутру, а через полтора часа уже ехали вдоль берега Лох — Ломонд, а когда остановились дать Чарли побегать, воздух был так прозрачен и свеж, что Бену представилось, будто он вновь задышал полной грудью, впускает воздух в легкие с охотой, а не из–за того, что Чарли к тому обязывает.
Родители устроили все здраво: в гостинице было тепло и шикарно (на старомодный, потертый лад), Бена не жгла и не отвлекала никакая память о прошлом, хозяева обожали Чарли, пес был очень мил, и они без конца готовы были возиться с ним, постоянно совали ему печенье и — на этот раз — никто не возражал.
Чарли, похоже, там почти совсем забыл Эмили: ему безумно нравилось носиться на воле по берегу озера, гоняя уток, — и его озорство, его ничем не омраченная радость от красоты жизни придавали всем им сил. Смена обстановки сделала сносным и самый день Рождества. Бен чувствовал себя почти спокойно, вот только никак не мог отделаться от привычки постоянно оглядываться: а вдруг она там, а вдруг она неожиданно явится из тумана, склонится на своих длинных прелестных ногах с распростертыми руками в ожидании, когда Чарли подбежит к ней, бросится ей на руки, доказывая, что по–прежнему любит ее, пусть она и ушла от него.
48
Спальня Робби выкрашена в серый, под шифер, цвет, пол и мебель в ней белесые, а постель ослепительно–белая. Все это стильно и бесполо, но голо, как и кухня. Интересно, думаю, он сам такое устроил или дизайнер по интерьерам постарался, или, того хуже, подружка какая, однако спрашивать желания нет, сейчас, если честно, это не ко времени. Он дает мне футболку какой–то модной фирмы, когда я надеваю ее, зайдя в ванную, телу приятно. Футболка эта мне коротка, ноги мои еще никогда не выглядели такими длинными, и я безотчетно тяну ее вниз, идя обратно в комнату. Робби смотрит на меня, но ничего не говорит, а когда я ложусь в постель, заключает меня в объятия, держит меня нежно, по–дружески, а телу моему словно только того и надо, чтобы слиться с его телом, — боль в голове начинает стихать.
— До чего же приятно, — выговаривает он тихо, — что ты воспринимаешь меня в точности таким, какой я есть.
— Конечно, — бормочу я и лежу, довольная, рядом с ним, в первый раз за весь год чувствуя себя совершенно умиротворенной и защищенной… любимой даже.
Состояние необычайное, и, понимаю, ему недолго длиться, но мы ведь как–то нашли друг друга, и я уверена: какова бы ни была причина, именно это нам и необходимо прямо сейчас. Мне до того тепло и уютно, что я уношусь в сон, и сны мои на этот раз спокойные, неомраченные, а когда я снова открываю глаза (много позже), Робби сидит рядом со мной на постели, уже одетый и приготовивший мне чашку идеально заваренного чая.
— Хочешь позавтракать? — спрашивает. — Я уже сбегал, купил яйца, бекон, колбасу, булочки и все прочее.
— Почему ты так любезен со мной? — спрашиваю.
— Почему бы и нет? — пожимает он плечами. — Я все равно на той вечеринке скучал, честно говоря, обстановка эта не по мне, а потом я не захотел сажать тебя одну в сомнительное такси, тебе явно было нехорошо, а когда ты отключилась у меня на диване, то вряд ли я сумел бы тебя выкинуть, верно? — Он улыбнулся. — А потом я подумал, что ты, может, лучше себя почувствуешь, если ляжешь в постель, а теперь мне есть хочется, так что я собираюсь приготовить завтрак. Какие же это любезности?
Какие ж любезности в этом? И почему он так похож на моего мужа? Слова не идут в голову, а потому держусь того, что безопаснее.
— Не возражаешь, если я сначала душ приму?
— Разумеется. Хочешь подобрать что–нибудь из одежды?
Робби идет в другой конец комнаты, открывает дверь в отдельную комнату для переодевания: вся его одежда развешена аккуратно, цвет к цвету. Он стягивает какие–то джинсы и пару рубашек, чтоб я выбрала, и вручает огромное банное полотенце, пушистее которого я не видывала.
Душевая просторна, струи бьют яростно, и я стою под этим водопадом, чувствуя, как последние остатки головной боли стекают с меня вместе с водой. Оборачиваюсь полотенцем и чувствую, будто кольнуло что–то: слишком уж все подозрительно хорошо, что–то не так, я такого не заслуживаю. Я все еще не звонила Ангел, чтобы сообщить, что я жива и здорова, но когда лезу в сумочку, выясняется, что мобильник мой разрядился, а номер ее я не помню, беспокойство мое растет. Натягиваю джинсы Робби и бледно–розовую рубашку–поло, пробегаюсь пальцами по прядям еще мокрых волос и присоединяюсь к нему на кухне, где витают ароматы жареных томатов и копченого бекона, пробуждая сызнова волчий аппетит. Осторожно присаживаюсь на стул–грибок, на нем мне слишком высоко, не знаю, что с ногами делать, вот и верчусь, как маленькая.
Робби улыбается и достает тарелки из шкафа. Идет к холодильнику, берет два бледно–голубых яичка и разбивает их в пустивший жир бекон — и шкворчащие звуки заполняют тишину. Готовит он уверенно и, когда подает мне завтрак, тот смотрится великолепно, не хуже, чем в ресторане. Сидим за стойкой бок о бок и едим в молчании, обоюдное влечение притягивает нас друг к другу тугой резинкой. За окнами слякотно, в кухне стоит чад от готовки, от всего этого опять начинает ломить голову.
— Не хочешь в гостиную перейти? — спрашивает Робби, когда мы покончили с едой. — Я сделаю нам кофе.
— О’кей, — говорю, сползаю со стула и шлепаю обратно в гостиную.
Когда утопаю в диванных подушках, раздается громкий удар грома (молнию я, должно быть, пропустила), а следом по окнам барабанит дождь, сотрясая крышу, температура резко снижается. Появляется Робби с двумя кружками пенящегося молоком кофе, ставит их на столик, потом идет к своему айподу и находит записи Евы Кессиди. Садится рядом со мной на топкий диван, и вот оно, наконец: смотрим друг другу в глаза, меня охватывает желание, отчаяние и, да, любовь, чистая нежная любовь к этому мужчине, которого я только что встретила. Во всем этом есть что–то странное, только никак не могу сообразить, что именно. Несмотря на мое беспокойство о том, что Ангел тревожится обо мне, о том, во что я влипла (тут следует смешок: только в Манчестере с полдюжины людей вот уже не один месяц беспокоятся о том же), решаю предаться этой странности, воспринимаю происходящее как нечто особенное, редкостное, спокойное. Ни за что не хочу, чтобы оно кончалось, хочу, чтобы время остановилось прямо сейчас, до того, когда все опять пойдет гадко. Взглядом ухожу в самую глубь глаз Робби, и это похоже на то, как быть глаза в глаза с Беном, только с тем Беном, кто был еще невинен, с Беном до того. От голоса Евы и шума дождя замирает сердце, становится трудно дышать, и это длится еще минимум полторы песни, после чего Робби наконец–то склоняется ко мне, медленно, мягко, и когда он целует меня, поцелуй отдает теплом кофе и беконом, губы его нежны, неспешны, искренни.
Смотрю на свои часики: время почти обеденное. Пытаюсь двинуться, но хочется остаться, не дать окончиться такому продолжению моей истории.
— Я и вправду скоро должна буду перестать торчать у тебя на пути, — говорю, и, когда произношу эти слова, наши губы волнуются им в такт. — Уверена, тебе есть чем заняться.
— Знаешь что, я целую неделю жал на полную катушку, — говорит Робби. — А сегодня день поганый… так что, если честно, прямо сейчас больше всего мне хочется сидеть здесь, слушать музыку, может, попозже кино посмотреть… просто затвориться от мира. — Он умолкает на секунду–другую. — И, если бы ты смогла побыть это время со мной, было бы еще лучше.
Никак не решаюсь. Гоню мысли о настоящем Бене с Чарли, о том, где они, чем заняты. Переживаю, что Ангел волнуется о том, куда я пропала. А потом решаюсь; похоже, что я жадна до прошлого. Откидываюсь, беру его руку и всю покрываю ее поцелуями там, где ладонь переходит в пальцы. Смотрю на него уже безо всякой застенчивости и говорю:
— А знаешь что? Идеально подходит.
49
После радостей в горах Шотландии пришел Новый год, вяло протащились зимние месяцы. Потом, не успел Бен опомниться, как уже почти май наступил, и он принужден был одолеть самый трудный рубеж из всех — годовщину дня, навсегда изменившего его жизнь. Для этого, оказалось, ему захотелось остаться совершенно одному: без Эмили дома он не в силах был даже Чарли терпеть рядом, а потому отдал его своим родителями и покатил в Пик — Дистрикт. Вышел из машины и пошел пешком, стараясь ни за что не сходить с прямой, хотя и не понимал, зачем ему это. Час за часом шагал, отступая от тропинок, продираясь сквозь кусты ежевики, пересекая обнесенные оградой поля, одолевая нехоженый каменистый простор. Вообще–то он задумывал взобраться на плато Киндер — Скаут, где сделал Эмили предложение (и она смеялась, когда он опустился на одно колено, а потом сама опустилась, говоря: да, с радостью), но ему невыносимо было оказаться там без нее, а кроме того, не хотелось рисковать увидеть кого–нибудь. Шагая неустанно и погрузившись в раздумья, Бен почти забыл о времени, забыл, где находится, временами он даже порой забывал об Эмили, мысли его крутились вокруг того, что у них было и что они потеряли. Он заметил, что Чарли тоже учуял дату, хотя Бен ему о ней напомнить не мог, зато он, похоже, загрустил, когда Бен подбросил его родителям: не то чтобы откровенно заскулил, а горестно заплакал, что в общем–то было еще хуже. Бен нес за спиной маленькую палатку, и когда стало поздно и почти темно, он остановился и поставил ее у спокойно текущей речки в таком месте, где ни звука не слышалось, кроме грохота бурлящей воды да изредка пронзительного крика неизвестной птицы. Полночи пролежал он без сна, испытывая едва ли не наслаждение от ощущения одиночества, от того, что есть время, есть простор и погоревать, и отдышаться, а когда проснулся, то почувствовал себя, как ни странно, обновленным, свободным от усталости и тягот минувшего дня. Рубеж он перевалил в лучшем виде — здравым и невредимым.
50
Робби не задает мне вопросов обо мне, да и мне не по душе о чем–то его расспрашивать, хотя и любопытно, как он, такой молодой с виду, может позволить себе такое шикарное жилье, как удается ему быть таким отличным поваром, таким джентльменом. Выясняется, что нам нравится одна музыка, мы лежим вместе на диване и слушаем «Доувз», «Паникс» и «Либертайнз», «Оазис» и даже Джонни Кэша, но, когда начинает звучать наша свадебная песня, я съеживаюсь, это ужасно, и говорю, что не люблю «Смитов», хотя когда–то, конечно же, обожала их. Бен всегда шутил, что единственной причиной, почему мы переехали в Чорлтон, была та, что мы могли видеть ударника этой группы в ирландском клубе. Робби ничего не говорит, похоже, он понимает, и, когда он пропускает эту дорожку, я немного успокаиваюсь. Через некоторое время звучит песня в исполнении «Ваннадиз», и, когда вступает хор, Робби смотрит мне прямо в глаза не моргая, а я чувствую, как сердце готово разорваться. Дождь не перестал, температура еще понизилась, но нам все равно, мы не сводим глаз друг с друга, весь день обнимаемся и ласкаемся, словно парочка подростков. Робби, похоже, рад, что мы остаемся на диване и — одетыми, желание растет в нас, пробивается сквозь одежду, но ни у него, ни у меня нет позыва сейчас заходить дальше. И мы не заходим.
51
Бен спросил родителей, не оставят ли они у себя Чарли еще одну ночь, субботнюю ночь, а то он потратил уйму времени на то, чтобы отыскать обратный путь к машине, и когда вернулся домой с расцарапанными по пах ногами и подошвами, стертыми до волдырей, был слишком вымотан и выжат, чтобы переносить чье бы то ни было присутствие, даже Чарли. Он задернул шторы, заказал карри на дом и настроился на субботний вечер у телевизора — это то, что еще недавно объявлял ненавистным для себя, зато Эмили всегда обожала, да и он втайне весьма был этим доволен, в чем, разумеется, ни за что не признался бы.
Смотреть телевизор в одиночку — совсем не то же самое: не посмеяться ни над слезами, катящимися по щекам Эмили, ни над ее увещеваниями сидеть потише, а то ей не слышно, что судьи говорят. Бен поймал себя на том, что думает, где она сейчас, что делает… а Чарли рядом не было, чтобы сдержать его, заставить все обратить в игру, так что нахлынула та же давящая грусть, как и в тот день, когда он, заглянув под кровать, понял, что кожаной дорожной сумки нет, что Эмили ушла.
В дверь позвонили. Черт, должно быть, карри доставили, надо взять себя в руки. Он потер глаза и прихватил бумажник. Открыв дверь, застыл, глядя на гостью так, словно глазам своим не верил, рот приоткрылся, едва ли не как у дурачка. Что происходит? Где его карри? Неужели она вернулась? Сердце прыгнуло, словно в Бена выстрелили, а потом рухнуло, словно Бен на полу умирал.