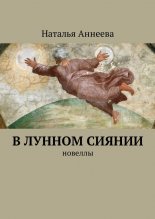Гулящие люди Чапыгин Алексей

Четверо стрельцов приказу Кузьмина в голубых кафтанах батогами разгоняли толпу, очищая дорогу бирючу. Бородатый бирюч, в шапке шлыком, загнутом за спину, в мухтояровом зеленом кафтане, бьет палкой в литавру, привешенную на груди. Уняв барабанным боем шум толпы, кричит зычно:
– Народ московский! Кто из вас будет куплять у торгованов скаредных бумажные листы с иконами немецкими, кальвинскими, еретическими или же неправо печатать мерзко и развращенно таковые листы, тому быть от великого государя святейшего патриарха Никона в жестокой казни и продаже!
Стрельцы с бирючом проходят, литавра и голос звучат в отдалении.
– Вишь, робята, Никону стали нынче бумажные иконы за помеху!
– Так будут худче печатать деля смеху-у!
– Сказываю вам – уши есть! Фроловска пытошна близ…
– Во Фроловой нынче негде пытать, около пытошные отводные башни стены осыпалось с двадцать сажен!
– У набатного колокола во Фроловой у палатки свод расселся!
– Запоешь не хуже у заплечного во Констянтиновской!
– В Констянтиновской тож – в воротех вверху расселось в трех местах!
– Да вы каменщики, што ль?
– Мы с Ермилкой в нарядчиках были, меру тащили – подьячий стены списывал!
– Воно вы каки, робяты! А я в стенных печурах щелок варил… Идем коли в кабак – угощу!
– Ермилко! Идешь, царь зовет?
– Оно далеко да грязно…
– А ништо! Проберемся.
С серого неба сеет не то дождь, не то изморозь, но крепок хмельной полуголодный народ. Бродят люди с утра по грязи, по слякоти, едят с лотков блины, оладьи, студень глотают, утирают мокрые рты и лица шапками. Ворот у многих распахнут, болтаются наружу медные кресты на гайтанах, иные шутят о крестах наружу: «Крест мой овец пасет!» Пытошные башни многим знакомы, разговор о них не умолкает. Никон государит немилостиво, при нем еще крепче пытают, а царь на войне с Польшей.[47]
– Куда ни ставь башню, хоша на гору Синайскую, – пытка однака!
– Никон нам рай уготовал, патриаршу палату подновил, кельи пристроил!
– Подвалы под палатой изрыл, там жилы тянут!
– В хомутах железных народ гнут!
Вместе с влагой воздуха к ушам толпы липнет колокольный звон. Шапки с голов сползают, люди крестятся. Отдачи дневных часов еще не было, но уже прошла в Кремль новая смена стрелецкого караула, а на Красной площади и у Спасского моста толпа гуще, озорнее и шумливее. Народ московский вслед за патриархами исстари говорит: «На Спасском крестце до поздня часа безместные попы торгуют молебнами!» Близ церкви Покрова (Василий Блаженный) чернеет сумрачной крышей патриарша изба[48] – канцелярия безместных попов. В ней всем попам, служащим по найму, кроме попов подсудных, призванных в Москву за грабежи и буйства, дается разрешение служить – знамя, всякому, в ком есть надобность в попе, на дому. За знамя идет с попов плата в десять денег, а с иного, просто смотря по достатку, и не меньше трех алтын. Но приезжие попы и игумны озорны, всегда полупьяны от бродячей жизни в большом городе, они все «никому же послушны», иначе своевольны – в патриаршу избу не идут, знамен не берут, а, увидав того, кто нанимает попа, подымают меж собой шум и драку:
– Эй, хрещеный! Памятцу твою беру и шествую в дом твой!
– Борзо чту синоди-ики! Синоди-ики. Плата на дому по сговору, с хлебенным и питием!
Мохнатый от заплат на рясе, схожий на медведя, лезет поп. Кто не посторонился его, тот либо в грязь упал, или получил ссадину на лбу… Длинные, с седыми клочьями, волосы попа прижаты железной цепью наперсного медного креста тяжелого, будто на веригах. Таким патриарх воспрещает держать крест в руке или носить на груди, крест должен быть носим на торели, то и на блюде. Только на Спасском крестце и патриарха не слушают. Поп, сокрушая толпу, басит замогильным с перепоя голосом:
– Чуйте меня, православные! Худое, гугнивое пенье не избирайте, то разве попы? Они же комары с болота. Меня, попа Калину, наймуйте, я когда пою в храме, то свечи меркнут!
Озлясь, попы отвечают Калине:
– Разве ты поп?
– То, крещеные, убоец с большой дороги – явлен в Разбойном приказе.[49]
– Паситесь его, он везен в Москву с приставы!
А там по краю того же Спасского оврага под большим хмелем трое велегласно поют о кабацком житии:
- Пьяницы на кабаке живут и попечение имут о приезжих людях – како бы их облупити и на кабаке пропи-и-ти!
- И того ради приимут раны и болезни и скорби много-о…
- Сего ради приношение их Христа ради приимут от рук их денежку и две денежки и, взявши питья, попотчуют его… и егда хмель приезжего человека переможет и разольется…
- И ведром пива голянских найдет и приимет оружие пьянства и ревностию драки и наложит шлем дурости и примет щит наготы, поострит кулаки на драку!
- Вооружит лице на бой, пойдут стрелы из поленниц, яко от пружна лука, и камением, бывает, бьем…
- Пьяница вознегодует и на них целовальник и ярыжные напраслины с батоги проводит…
- Яко вихор развиет пьяных и, очистя их донага, да на них же утре бесчестие правят, и отпустит их с великою скорбию и ранами…
Те, что трезвее и степеннее, попы, между которыми есть и московские, безместные, собрались особой кучкой у крыльца патриаршей избы. У них наперсные кресты попрятаны за пазуху, только цепочки шейные видны. На попах камилавки старые или скуфьи. У каждого в руках знамя. Маленький попик, не обращая внимания на безобразия, шум и бой пьяных попов, говорит:
– Гляньте, отцы, то безотменно деля лихих дел ходит дьяк и наймует подсудных попов!
– Нужное, бате, нам то? Да, може, он ставленников ищет, хощет попам дать работу…
– То истинно! Поживиться на поповский доход хощет.
– И не дьяк он, батька, что в котыге да с батогом будто дьяк, а глянь под котыгой на кушаке что…
– А что?
– Чернильница, песочница да каптурги[50] с рукописаньем, то подьячий[51], може, он судного приказу судейской ярыга.
Кто-то в толпе степенных попов бубнит:
– Не суди, не судим будеши… Яко да воссудят тя нечестивые судилища, аще да уподобишься куче наво-о-зной!
– Хмельных среди нас нет, а вот, отец, испил-таки!
– Плюнем!
– Не едино ли нам – дьяк ли, ярыга ли?
В толпе пьяных попов у моста ходит степенно курчавый подьячий в синей котыге, с дьяческим посохом и в дьячей шапке с опушкой из бурой лисицы, по тулье шапки канитель золотная с малым жемчугом.
– Ну, отцы духовные, здравствую!
– Здравствуем тебе, блазнитель наш!
– Уговор помните?
– Какой уговор? В пьяной главе все молитвы истлели!
– Сыскали, нет ли деля меня попов подсудных?
– Сыщутся! Только до тюрьмы нам мала охота.
– Иными-таки граблено, да маловато, авось Бог пронесет!
– Я по своей службе, опрично других дьяков и не судного приказу!
– Ты это насчет грамоток? Чли, дьяче, твои грамотки о государевых пирах – ладно едят патриарх с боярами!
– Сытно!
– Эй, поп Калина-а! Сюды-ы!
– Чого? А-а, подьячий! – Бурый поп с медным крестом лезет к подьячему. – Угощаешь?
– Подсудной?
– Такое имеется за Калиной – по разбойному делу зван!
– Иные с тобой есть?
– Есть! Вон те семеро – все по суду везены к Москве.
– Идем в кабак!
– Дьяче! Нас пошто не зовешь?
– Кого надо сыскал – вы лишние!
– Скупой бес!
– Лихое дело, знать, замыслил!
– Рясы-то подогните, кресты попрячьте, а то с кабака вон пого-ня-ат!
Девятеро с подьячим, попы сидят в царевом кабаке, в кружечной избе. Подьячий угощает. Разговор тихий, похожий на сговор по-тонку.
– Ты, Калина, их поведешь… знайте! Патриарх нынче патриаршу палату перестроил – горница с крыльца первая, холодные сени… вторая – теплые сени… В патриаршей палате на рундуках со ступенями лавки, полавочники – бархат зелен, четыре окна – на подоконках бархат золотной, – хватит вам на кунтуши!
– Оно бы ладно, да стрельцы там патриарши с секирами…
– Стрельцы до едина в разброде, дети боярские угнаны к государю в сеунчах говорить, патриарший боярин – и тот в отлучке, в патриарших хоромах двое: любимой патриарш дьякон Иван да келейник, а кой тот келейник – не доглядел я…
– И доглядывать его нече! Лишь бы на стрельцов не пасть…
– Я иду с вами, а пошто мне под беду голову клонить – сказываю правду, сказке моей верьте… стрелецкие дозоры от палат уведены, стрельцы все у ворот в Кремль. Слух шел, что болесть объявилась худая[52], так от лишних прохожих в Кремль ворота пасут… Попов караулы не держат – колико скажете: «Идем к патриарху чествовать былое новоселье!»
– В твоих грамотах чли, дьяче, о патриаршем новоселье, сытно едят попы, кои царю близки…
– Эй, молодший! Дай-кось еще кувшинчик в подспорье к вечере праведной!
– И еще пием, братие, за здравие дьяка государева-а!
– Тише с гласом своим!
– Имечко твое скажи, дьяче… чтоб… ну хоша ба за обедней помянуть…
– Имя рцы! Коли-ко вздернут на дыбу, то язык чтоб молыл правду-у!
– Струсили, попики?
– Нам чего терять? Спали под Спасским мостом, будем спать в тюрьме на полатях… голодно, да тепляе!
– На патриарха идти готовы… Никон – пес цепной! Попов малограмотных указует гнать взашей… венечные деньги давать-де епископам без утайки… утаил грош – правеж! – батоги по голенищам.
– Вдовых попов от службы в монастырь гонит – служить нельзя… И монаху из попов до семи годов служить не указует…
– Сами дошли, что идти к патриарху надо… чего боитесь? Бояре будут вам потатчики, многие злобятся на Никона… еще то – что заберете из его рухляди, тащите в стенные печуры, теи печуры, кои заделаны кирпичом, инде щелок варили, в иных кузнецы ковали, нынче они закинуты, а двери есть… те, что с севера…
– Вот то ладно! Не в ворота – в печурах разберемся, ино что припрячем.
– Когда идти, дьяче? Долго не тяни.
– Знак дам, выйду к Спасскому, колпак сниму да помолюсь на ворота, и вы годя мало за мной поодиночке, сбор на Ивановой.
– Добро!
– Вы в палате хозяйничайте, я же патриарши кельи пошарпаю.
– Щучий нос тину чует – там поди деньги?
– Деньги? Патриарша казна в патриаршей палате за рундуком, у алтаря в кованой скрине…
– Истинной ты, дьяче, грабежник!
– Веди со святыми биться.
– Я так не иду, пущай скажет имя!
– Да, имя, оно ты скажи!
– Имя Анкудим! Был купцом, утаил государев акциз, бит кнутом на Ивановой… именье в продаже на государя. Шибся в чернцы в Иверский-Святозерский. Сошел с чернцов, а нынче в дьяках сижу…
– Приказ именуй – приказ!
– В Посольском приказе[53]…
– Добро! Не страшно нам, коли такая парсуна идет с распопами.
– Только уговор – кроме нас, никому же слова об этом.
– Первый раз, что ли, по грабежу идем? Пьяницы мы, да язык на месте…
– Мы никому же послушны, на пытке бывали – молчали.
– Ну, братие, решеточные сторожа шевелятся.
– Ворота скрипят!
– Благослови, дьяче, расходимся и богоявления твоего ждем!
Подьячий пошел в сторону, подумав, вернулся:
– Калина поп!
– Чого?
– Вот те денег на топоришки…
– То ладно! Без топора не шарпать, едино что курей ловить!
– Чтоб под рясой прятать!
– Не учи, прощай!
Подговорив попов идти на патриарха, Тимошка в сумраке, осторожно сняв шапку, вошел в горницу дьяка Ивана Степанова, его покровителя. Дьяк был не у службы ни сегодня, ни завтра, а потому за обильным ужином с медами крепкими и романеей, без слуг, угощался единый. Тимошка истово двуперстно помолился на образа с зажженными лампадами, поклонился дьяку, круто ломая поясницу, не садился, шарил глазами. Дьяк тряхнул бородой:
– Садись, Петрушка! – и шутливо прибавил, делая торжественное лицо: – Нынче без мест!
Тимошка сел. Дьяк налил ему чару водки – пей, ешь, бери еду, коли честь и доверие от меня принял…
Тимошка, бормоча: «За здравие Ивана Степаныча, благодетеля, рачителя великого государя», выпил и закусил.
– Молвю тебе, Петрушка… Расторопен ты, грамотой я востер, ты же еще борзее меня, а худо за тобой есть – не домекну, кто ты? – Дьяк поднял волосатый палец с жуковиной, пьяно тараща глаза на Тимошку.
Тимошка выжидал, закусывая, подумал: «Я тебе Петрушка, так и ведать не надо больше…»
– Не-е домекну! – Дьяк, опустив палец, сжал кулак. – С тобой мои дела в приказе Большого дворца[54] расцвели аки вертоград кринный[55] и все же… зрю иной раз и вижу тебя схожего со скоморохом, у коего сегодня харя козья, а завтра медвежья… Ответствуй мне, пошто такое? Противу того и дела твои тьмою крыты…
– Не ведаю такого за собой, Иван Степаныч… и то скажу – трезвый обо мне слова не молышь, а в кураже завсегда сумленье…
Дьяк ударил по скатерти рыхлым кулаком, в желтом сумраке сверкнул перстень. Свечи нагорели в шандалах, заколебались, с одной упал нагар, стало светлее.
– Шныришь ты по делам, кои и ведать тебе не гоже! Мои подьячие сыскали грязное дело за тобой… и вот то дело: в пору, как с дозволенья моего помог ты в письме и чёте боярину дворцового разряда[56] хлебные статьи о послах расписать, а что вышло из сего дела – ведаешь?
– Подьячие твои, Иван Степаныч, от зависти на меня грызутся и поклепы, ведаю я, возводят.
– Годи мало! Те статьи многие в твоей суме под столом сыскались, иние же в каптургах упрятаны – пошто тебе тайные статьи? Пей, ешь да сказывай – я тебе едино что духовник.
– Дьяче! Иван Степаныч, благодетель… озорство оное ненароком сошлось – замарал, вишь, листы бумажные – бумага немецкая с водяными узорами – и думал не показать, как убытчил казну государеву! В том и вина моя… в тай мыслил скрыть рукописанье, сжечь и сжег…
– Да сжег ли? Такого берегчись надо! Инако за тайну государева столованья и посольского тебе висеть в пытошной, да и мне, того зри, стоять у допроса с пристрастием… Пасись, Петрушка! Ну, седни будет! Тебе ведомо и мне понятно, хоша сумнительно. Нынче давай пить, есть да, помоляся, почивать до иных дел… Еще скажу – не марай себя! Мне ты дорог знанием и старой верой пуще того… Никонианства, новин его не терплю! Как тебе, противу того и мне: отец наш праведной Аввакум – в его благодати будем обретаться.
Аминь!
Тимошка придвинулся к дьяку ближе:
– Чуй, благодетель, дай мне денег поболе…
– Пошто деньги?
– Дело истинное – святого учителя нашего по моленью у государя великой государыни Марии Ильинишны[57] из ссылки вертают…
– Hy-y?!
– Уж боярин Соковнин Прокопий[58] место устрояет ему на Кириллово в Кремль, привезут отца Аввакума, тощ он, скуден, великие муки претерпел в дальних Даурских странах[59]… ему потребны порты и брашно особое и суды тоже, не серебрены, конешно, а и то, на все деньги…
– Сума у Прокопья потолще нашей, но постереги и мне доведи, когда привезут учителя… ай то радость! А денег не дам! Постой, чуй вот што!
– Чую…
– Завтре я не у дел! В церковь чужую, опоганенную Никоном, идти не мыслю, в приказ тоже – пить буду, – ведомо тебе, бражничать на досуге люблю! – ты же за меня стань в приказе, в приказ купцы придут… и… дать должны на мое имя посул[60], ты тот посул от купцов прими, роспись им от имени моего дай… Вот те деньги приветить учителя! Сполни, да пущай купцы не скупятся, будет им та промыта в науку – не ставить падали на государеву поварню-у!
– Не поверят мне купцы, Иван Степаныч! Что им моя роспись без твоей, а тебя оповестить и долго и далеко…
– Али тебе мою жуковину дать? Перстень – орел двоеглавый с коруною, дар государев? Боюсь дать…
– Да раньше верил, и я печатал твоим перстнем, благодетель, пошто сегодня вера в меня пала?
– Сегодня весь ты чужой какой-то.
– То подьячие поклеп тебе навели.
– Оно так! А видали тебя робята на кабаке с попами крестцовскими, попы те все грабители, пьяницы! Не марай себя, Петрушка. Печатай купцам, бери перстень…
Тимошка, почтительно приняв перстень, с низким поклоном проводил дьяка, снова сел за ужин. Сидел он долго, будто наедался в дорогу, и думал: «Хорош, ладен странноприимец гулящих людей государев дьяк Иван! Только, Тимошка, знай край, не падай – сгореть в этом доме, едино что от огня, легко… Ну, а ты завтра кончи… Перво – с купцов деньги получи и рукописанье им на помин души припечатай… Жуковина дьячья с коруною и впредь гожа… Другое дело – попов поднять… У патриарха узорочья бездна – не зевай только! Третье – путь тебе, Тимошка, вон от Москвы…» Выпил переварного меду с патокой крепкого, отдышался и прошептал вставая:
– В дому твоем, богобойный дьяк, заскучал я… Табаку у тебя пить не можно и опасно!
Обновленная Никоном патриарша крестовая палата обширна, как и дела в ней – патриарши, нынче и государевы. Когда идут церковные сговоры, тогда на Ивановой колокольне звонят для зову протопопов и игуменов, тот звон церковники издалека чуют, спешат не опоздать. У патриаршей палаты проход в келье завешен персидским ковром. В переднем правом углу палаты иконостас с иконами греческого письма, близ его резное кресло патриарха с подушкой сиденья из золотного бархата, с ковровым подножием. В первых от крыльца палаты, холодных сенях у дверей стрельцы с батогами, – сегодня их нет, сняты к воротам в Кремль. Во вторых, теплых сенях на лавках, обитых зеленым сукном, – всегда патриарший любимец дьякон Иван. Только в сей день, учредив в полном порядке патриарший стол питием и брашном, Иван благословился у патриарха пойти в монастырь к Троице Сергия. В полном доверье у Ивана Шушерина оставлен в патриарших сенях Сенька, стрелецкий сын, взятый Никоном из Иверского-Святозерского, бывший колодник. Слуг у патриарха довольно[61], одних детей патриарших боярских[62] с двадцать наберется, бывает и больше. Патриарх, негодуя на расстройство в делах государевых, разослал боярина патриаршего Бориса Нелединского и детей боярских с указами – кого к воеводам, кого к губным старостам[63], к кабацким головам и попам, нерадиво кинувшим церкви без пенья. Сам он всегда при делах и хлопотах, чтоб не навлечь на себя попрека от царя и с честью государить, а нынче приспешал. Слухи один хуже другого – то об одном родовитом боярине, то о другом: «готовят-де тебе, великий государь патриарх, лихо», разозлили и утомили его, а пуще и злее всякого зла – собралась малая боярская дума опрично патриарха с Морозовым, Милославским, Салтыковым[64] и другими, решено было той думой, «что патриарх-де уложение государево лает[65]». Сегодня патриарх решил пировать, а порешив, указал на сенях его келейнику и постельнику Сеньке:
– Не принимать! Ни боярина, ни игумена, тож и протопопа.
В большой хлебенной келье, за палатой с иконостасом, с софами, обитыми шелком, для послеобеденной дремы, с поставцами из золотых и серебряных суден – ендовых и кратеров с рукомойником и кадью медной в углу за ширмой штофной – на тот грех, ежели гостя какого нутром проймет. Сегодня у Никона «собинные» гости – боярин Никита Зюзин[66] с боярыней своей Меланьей. Перед ними гордый патриарх, грозный не только епископам, но и боярам, лишь смиренный инок и хлебосольный хозяин. Никон выпил три ковша малинового крепкого меду, но он едва в легком хмеле. Боярин Никита пил те же три ковша, прибавляя к ним чару ренского, а стал развязен и огруз. Боярин бородат, сутуловат, широк костью, ростом он в плечо патриарху.
Боярыня Меланья пила лишь романею чаркой малой. Ей было весело и хорошо. Против обычного, она чаще смеялась, да казаться стало, что кика с малым очельем в диамантах застит ее большие светлые глаза. Боярыня кику все чаще подымает холеной рукой в перстнях так высоко, что уж волосы как огонь начали гореть под кикой, чего замужней боярыне казать мужчинам нельзя, правда, чужих тут нет – муж и ее наставник. Грудь тоже стала вздрагивать под шелковой распашницей, да сквозь наносный легкий румянец проступил на убеленном лице свой, яркий… Никон, сдвинув к локтям рукава бархатного червчатого кафтана, гладил левой рукой пышную бороду, отливающую темным атласом. При блеске многих пылавших лампад и свечей в серебряных шандалах глаза его особенно искрились. Внутренние ставни двух окон были закрыты наглухо, и день не казался днем. На голове Никона, как говорили ревнители старины, срамной греческий клобук с деисусом[67], шитый жемчугом, с бриллиантовым малым крестом. Пиршество учреждено с рыбными яствами, хозяин и гости едят руками, кости кидают в мису под столом. Половину патриарша стола занял пирог сахарный, видом орел двоеглавый, в лапах орла – обсахаренный виноград с вишенью. Боярин много раз пытался говорить, наконец, тряхнув мохнатой головой, выкрикнул:
– Дру-у-г, благодетель, великий господин патриарх, не осердись на молвь мою!
– Сердца моего нет на тебя, боярин Никита! Сказывай! Все приму.
– Чаю я, великий господине, от того дела, что учинил летось нелюбье многое… иконы фряжского письма поколол и в землю изрыл… то пошло сие в глазах всего народа… чернь, господине, буйна и дика…
– Боярин Никита, друг мой, вина наряжай сам, потчуй себя и жену и говори – внемлю.
– Пью за здоровье, за долгое стояние за церковь и государство друга моего великого государя патриарха всея Рус-си-и-и, во-о-т!
– Пью я за твое здоровье, боярин! За работу твою на известковых копях, за соляные варницы, кои от сего дня дарю тебе! И ты, дочь моя духовная, Меланья, краса, пей, не ищи поклонов хозяина… А ну, боярин, еще раз – сказывай!
– За подарки такие поклон тебе до земли, великий друг, богомолец… И то неладно, господине, что слуги твои худородные с шумством и гомоном доселе ходят по горницам родовитых бояр, рвут с божниц, со стен тоже, от твоего имени парсуны и новописаные иконы…
Никон грозно сверкнул глазами, сдвинув брови.
– Про иконы, боярин Никита, молчи!
– Ох, великий патриарх, друг мой! Вот ведь какой я пес – то язык блудит, даришь ты мне, а я мелю прежнее, иконы фряжские, парсуны – тьфу им!
– Про иконы ответят за меня тебе, боярин Никита, сам святой Симеон Метафраст[68] и Дамаскин Иоанн[69]…
Никон, чтоб потушить злой блеск в глазах, сжал рукой бороду, нагнул голову и, налив меду полковша, не переводя дух, выпил. Боярыня испугалась лица патриаршего, оно стало мрачным. Привстав за столом, сказала, трогая рукой кику и кланяясь:
– Учитель светлый! Боится господин мой, боярин Никита, за тебя! Ведь родовитые бояре сильны, своевольны, инде сам великий государь Алексей Михайлович трудно справляется, а ну как они от злобы из-за икон на тебя черной народ поднимут? И, не к ночи будь сказано, убойцов на голову твою светлую наведут… боярам не впервые ведаться с гулящими людьми корысти ради да вершить лихие дела… Мы, сироты, ужасны за твое богомолье…
– Во-о-т! С тем и жену мою на пиры твои, великий господине, волоку… друг мой! Ведает она, о чем я скорблю душевно, и радуется дарам твоим и… еще пью за долголетие друга патриарха! А все же скажу… уложение государево тобой, великий патриарх, попрано… на том стоят бояре, и то будут они поклепом клепать великому госуда-а-рю-у Алексию!.. И еще спасибо на подарке…
– Перестань, боярин Никита, – осадила мужа боярыня.
– Умо-лка-ю! Пью за долголетие друга!
Патриарх ласково погладил по спине боярыню… Потом сам с собой, но громко, будто кого убеждая, заговорил:
– Долголетие мое едино что лихолетие. Бояр не боюсь, всех потопчу! – Он примолк, наливая снова в ковш меду, потом продолжал: – Иных изрину от церкви! Все в моей власти, покуда заедино со мной правит великий государь…
Боярин поднял над столом непослушную голову, сидя, он коротко вздремнул, но слух его сквозь пьяный угар ловил голос патриарха.
– Друг ты мой собинный! А как отступится от тебя великий государь? Тогда, что тогда? А, во-о-т! Псы цепные видом Сеньки Стрешнева[70] да лисы старой государева дядьки Бориса сглодают… Сглонут тебя! Во-о-т!
Не обращаясь к захмелевшему боярину, Никон говорил, как бы убеждая кого-то: боярыню он не считал знающей людские дела:
– Государь вкупе с врагами моими, боярами, клялся в соборе, когда шел я на стол патриарший – все клялись быть в моей воле! Так ужели венценосец, помазанник на царство, государь, презрит клятву над крестом честным? Да, я не почитаю уложение, ибо оно не государево, а боярско-холопское. Едино лишь в писании и утверждении его попы были дураки, а бояре завсегда хитрость лисицы и жадность волка имут. По уложению тому хотят вязать нас без суда духовного, нет, не бывать тому! Церковь из веков выше царей… Церковь пошла от святых апостол, и я, патриарх, не мир вам несу – меч!
Боярыня перестала пить. Поглядывая на грозное лицо патриарха, она прислушивалась. Ей послышалось – прошли шаги за дверью и повернули вспять. Сказала:
– Учитель мой светлый, кто-то бродит за дверью.
Никон тяжело поднялся, умыл руки в углу, поливая из серебряного стенного рукомойника, утер их рушником, тут же с полки, завешенной тафтой красной, взял гребень, расчесал бороду и, повернувшись к иконам в угол, перекрестился широко троеперстно, потом подошел и отворил дверь. За дверью стоял Сенька в новом кафтане скарлатном алом, он молча низко поклонился.
– Тебе, парень, не надобно быть тут… Не зван ты…
– Святейший патриарх! Два боярина в холодных сенях ждут давно и гневаются на меня… я и не смею без зова, да не стерпел – один боярин лает смрадно!
– Указано всем на сей день меня не видеть! Пущай их изрытают лай.
– Лезут, сказывает один – дело не мешкотное, указ от великого государя из Смоленска.[71]
Никон тряхнул головой, засверкал бриллиант на вершке клобука:
– Скоро дай мантию, панагию и посох!
Сенька быстро прошел в ризничную, вернулся, стал облачать патриарха. Обыденно. Хотел снять кафтан, патриарх указал:
– Надень мантию на кафтан! В палате прохладно.
Сенька, облачив патриарха, подал ему на блюде золоченом панагию, потом рогатый посох черного дерева с жемчугами и серебром в узорах по древку.
– Зови бояр! Введешь, пройди сюда к гостям, прибери стол, как Иван делает, налей из кратеров в ендовы меду – исполни все с вежеством и безмолвием.
Сенька в ответ также поклонился, патриарх торжественно вошел в крестовую, сел на свое кресло. Два боярина в распахнутых кармазинных ферязях, под ферязями кафтаны золотного атласа, оба вошедших в горлатных шапках, стуча посохами, шли неспешно по сеням, войдя в палату, сняли шапки, стали молиться, держа в левой руке посох и шапку. Один вошел по ступеням рундука, сел на лавку, надев шапку, он оперся на посох и, не глядя на патриарха, глядел в пол. Другой, не надевая шапки, подошел, говоря: «Благослови, владыка святый», и нагнул рыжеватую голову.
Патриарх, встав, благословил его. Сел и молча ждал. Рыжеватый надел шапку, вошел по рундуку, поместился на лавке рядом с первым, молчаливым боярином. Молчал патриарх, оба боярина тоже. Наконец, сдвинув брови и тыча в пол рогатым посохом, Никон заговорил:
– Все ложь! Сказывали – дело неотложное, так пошто же язык ваш нем, бояре?.. Кому благословенье патриарше непотребно, тому уготовано будет отлучение церковное… оно любяе и ближе…
Тогда благословленный боярин сошел с лавки, встал перед патриархом, сказал ласково:
– Не до чинов нынче, великий государь святейший патриарх! Пришли мы наспех с боярином Семеном Лукьянычем говорить тебе о деле важном, да узрели иное: пришли-де не вовремя. Ждали долго в холодных сенях… оттого и мысли не увязны и язык нем…
– В чем, боярин, нужа ваша?
– Ведомо ли святейшему, что в Коломне солдаты, кои вербуются на войну, и датошные люди шалят?
– Туда посланы нами стрельцы и дети боярские, и сыщики…
– Добро! А ведомо ли государю патриарху, что в той же Коломне да и на Москве в слободах, там инде объявилась невиданная болезнь?
– И то нам ведомо, боярин! За грехи ваши, бояре, за безбожие многое, растущее день от дни, идет на вас кара божия… Вот он, – патриарх поднял посох в сторону угрюмо сидевшего боярина, – боярин Семен Стрешнев! Патриарх для него не патриарх – поп черной, и худче того. Ведомо мне, что чинит он в дому своем.
Угрюмый боярин неторопливо встал, не сходя с рундука, заговорил звонким, отрывочным говором:
– А ты, ты, святейший патриарх? Чтишь ли нас, сородичей государевых? Не обида ли то, что держишь нас, бояр, в холодных сенях со своими холопами, не считая часов?.. Не ты ли срываешь парсуны в наших хоромах? Не ты ли указуешь нам меру мерити чиноначалие?
– Властью, данной от Бога и великого государя, изметаю я латинщину и кальвинщину в домах ваших, сие, аки короста и парш смрадный, идет на Русь православную! Через вас идет сей разврат…
– Оберегатель, ревнитель старины недреманный, так пошто же избил и избиваешь ты Аввакума, Павла Коломенского[72] и иных? Пошто потрясаешь жезлом против восстающих на новопечатные книги и троеперстное сложение знаменующих крест перстов?
– Не крест знаменуют персты – Троицу, боярин Семен! Не за старину ополчился я на худых попов – за невежество их гнету! Вы же басурманскими новшествами гоните заветы и презрите законы святых отец… С ними не удержитесь, ибо издревле сказано: «А которая земля переставливает порядки свои, и та земля не долго стоит». Вы что же деете? Боярин Борис Иванович вознес на божницу образ Спасителя в терновом венце, письмо фрязина Гвидона[73], списанное боярскими иконниками, и тот образ не образ – латинщина[74] суща. Вот он, боярин Прокопий, сын Соковнин, укрыватель раскольщиков, не таясь, с похвальбой весит в хоромах своих распятие господне немчина Голя-Бейна[75] и его Иисуса в гробу простерта, и то есть кальвинщина[76]. Христос – Бог, у него же, Бейна, Христос – гнусный мертвец, и распятие его таково же. Таких кунштов я не терплю, бояре! Такое и подобно сему измету, яко сор и падаль!
– А ну, господин святейший патриарх! Не прати о вере пришел я, пригнан от Смоленска послом великого государя к тебе с повелением: «Еже объявится на Москве худая какая болесть липкая к людям, то тебе бы, патриарху и градоправителю, пекчись крепко о государевом семействе, от лиха опасти немешкотно!» Мне же укажи, што отвечать на тот спрос к тебе великого государя?
– Великий государь, царь всея великие и белые и малые Русии, самодержец Алексей Михайлович пущай положится на меня, друга своего собинного, надеется на попечение мое о роде государевом и не опасается.
– Прощай, патриарх! Уезжаю, гневись или милуй, но и теперь в бытность мою на войне воеводой не благословлюсь!