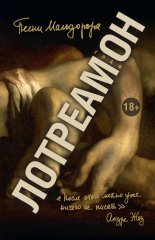Бэзил Хоу. Наши перспективы (сборник) Честертон Гилберт

– Как я уже отметил, – сказал он, подворачивая манжеты, – это любезно скорее с ее стороны.
Он взялся за весла и стал орудовать ими в блекнущем свете угасающего дня. После минутного молчания Гертруда заговорила снова, задумчиво, но по-прежнему резко:
– Что вы думаете о мистере Флери, мистер Хоу?
В ее вопросе слышалось любопытство, но обращено оно было не на Люсьена, а на ее собеседника. Он ответил не задумываясь:
– Наш кузен из Флери – средоточие множества ослепительных добродетелей. Единственное, что меня в нем расстраивает, так это его совершеннейшая бесхребетность: поднимите его руку, задайте ей определенное положение, и она послушается вас, а стоит вам ее уронить, все придется проделывать заново. Разве возможно всерьез иметь дело с человеком, который настолько не в ладах с самим собой? По отдельности все в нем мило, а в целое не соберешь.
Это было далеко не все, что раздражало рассудочного до мозга костей Хоу в Люсьене и его сестре, но большего он и не собирался никому рассказывать. Он не испытывал священной дрожи пророка, обличающего людские пороки, и не хотел изображать ничего подобного. Кузена с кузиной он видел насквозь, знал, что они слабые, эгоистичные люди, лишенные прочных убеждений, и все же любил их, всеми силами развлекал и ни в коем случае не желал бы причинить им боль. Можно считать это милосердием, дружелюбием или язычеством, но таким уж он был человеком.
– А Сесиль вам нравится, мистер Хоу? – полюбопытствовала Гертруда.
– Видите ли, она моя кузина, а потому я мало ее знаю. Но я заметил, что вы с ней дружны, и я не могу сомневаться, что она на верном пути. Иногда она кажется мне взбалмошной и, быть может, не слишком скромной, но она по-своему восприимчива к прекрасному. То же можно сказать и о Люсьене, а он ведь даже играет в футбол. Но я думаю, в одном отношении Сесиль определенно повезло.
– В каком же? – спросила Гертруда.
– С друзьями, – просто ответил он.
Гертруда почувствовала, будто у нее внутри сдвинулось что-то давным-давно застывшее. Ей крайне непривычно было, чтобы ее влияние считали благотворным, но этот сухопарый джентльмен явно не старался польстить. Она чувствовала в его голосе искреннее уважение, и это ее радовало. Он все работал веслами, двигая лодку по темным сонным водам, а сумерки вокруг них сгущались.
– Вы когда-нибудь говорили с Кэтрин? – спросила Гертруда, предпринимая третью попытку подобрать к нему ключ.
– Я говорил со всеми, кто способен слышать, – решительно и строго сказал он, – и среди прочих и с вашей злосчастной сестрой. Но только она быстро со мной разделалась. Она из тех людей, что предпочитают пользоваться речью как молотом, а не как детской погремушкой.
В этом портрете Гертруда мгновенно узнала свою сестрицу, и ее любопытство вспыхнуло ярким пламенем.
– Да, она бывает резковата, – осторожно заметила девушка.
– Видите ли, только долговязая и бесполезная вереница позвонков вроде меня может позволить себе мягкотелость, – задумчиво проговорил Хоу. – А она вынуждена разрываться, чтобы всюду успеть, вот и приходится действовать решительно. Конечно, я знаю ее не так хорошо, как вы, а потому не могу так же ею восторгаться. Но я чувствую, что она человек дела.
И снова Гертруда ощутила непривычную благодарность за незаслуженное уважение и внимательно посмотрела на Хоу, который задумчиво взирал на темный пейзаж прозрачными голубыми глазами. Она почувствовала, что от ее первого впечатления – будто он холодный и уравновешенный скептик – не осталось и следа. В ней проснулось что-то вроде благоговения перед этим чопорным великодушием, но почему же это великодушие заперто так глубоко внутри? Почему речь так поверхностна и карикатурна? Она чувствовала, как новой искрой в ней все сильнее разгоралось неуемное желание разгадать загадку Бэзила Хоу. Она снова взглянула в мрачное лицо своего сфинкса и решилась на личный вопрос:
– Вы останетесь тут на все лето, мистер Хоу? – спросила она.
– Я здесь на службе не века своего, но всех времен[6], – произнес он. – Мой верный и преданный отец, сейчас он в Америке, поручил мне договориться с моими бедными родичами и пожить у них (разумеется, за соответствующую компенсацию) до тех пор, пока я не изучу юриспруденцию и не пройду необходимую подготовку, чтобы оправдывать преступника за его деньги и отбирать у невиновного его невиновность. После начала практики, получив назначение от Верховного судьи, я, вероятнее всего, отправлюсь к отцу, оставив безутешных кузена и кузину До сих пор я делил с ними кров в домишке на Глостер-плейс, а после их переезда к этому негостеприимному океану был сочтен верным и продолжаю делить с ними корку хлеба. Словом, я забрался на их корабль с решительностью, которой хватило бы, чтобы взять на абордаж пиратское судно. Такова моя жизнь, мисс Грэй.
– И она вам нравится? – не подумав, выпалила Гертруда.
– О, я почти так же счастлив, как король или как дитя, как луч солнца или еще что-нибудь такое же счастливое и беззаботное. Кисмет, так, кажется, это называют.
Она не совсем поняла его, да и сам он не вполне представлял, что имеет в виду, но увидев, как она хмурится, поспешил объясниться.
– Я на самом деле чуть более в своем уме, чем вам могло показаться, – проговорил он с улыбкой. – Не нужно извинений. Очень многие думают, что моя крыша являет собой не лучший образец кровельного искусства. Но, поверьте, я не причиню вам зла.
Последние слова были сказаны так же беззаботно, как и все прочее, но в них отчетливо слышался вполне серьезный смысл. Тайна этого человека, казалось, растет, по мере того как сквозь щели в его панцире все больше просвечивает незащищенная плоть. Гертруда хотела задать еще один вопрос, но боялась задеть его излишней настойчивостью. Но затем, и это было очень характерно для ее чувств по отношению к нему, она вдруг ощутила неудержимое желание сделать по-своему и посмотреть, обидится он или нет.
– Мистер Хоу, – спросила она, – а вы хотите быть адвокатом?
– Видите ли, – сказал он доверительно, – Лорд-канцлер так настойчиво мне это предлагал, да и мистер Глэдстоун считает это знаком личного расположения к нему, так что меня не оставили бы в покое, если бы я не согласился. Эти люди, мисс Грэй, на редкость докучливы.
Гертруда посмотрела на него с затаенным восторгом: все-таки он был невероятно мил, ведь он ответил ей, даже не заметив, что вопрос был почти бестактным.
– Ну вот и родные берега, – сказал он, когда их лодка закачалась у крытого причала. – Не будете ли вы так любезны и не передадите ли мне вон тот столбик?
Она подтянула лодку поближе к мосткам, уцепившись за одну из опор. Перехватив опору, Хоу уверенным движением подвел лодку к пристани. Когда он помогал Гертруде выбраться на сушу, отпустив очередное странное замечание, снова заставившее ее рассмеяться, она уже знала, что приобрела друга, пусть и такого, которого пока не вполне могла понять.
Глава 6
День покоя
Назавтра было воскресенье. Мистер Бэзил Хоу встал, по обыкновению, рано и с обычной тщательностью и аккуратностью оделся в свой обычный, строгий и поношенный костюм. Трудно было бы найти человека, менее претендующего на звание денди, но неизменная аккуратность внешнего вида красноречиво свидетельствовала о замечательной цельности натуры, проявлявшейся во всем, что он делал. Его манеры были так же неброски и постоянны, как его костюм.
Надев видавшую виды, но тщательно начищенную шляпу (которой он никогда не изменял) и откопав видавший виды, но хорошо сохранившийся молитвенник, он с неизменной своей молчаливой стремительностью отправился в церковь, движимый не столько сознательным религиозным порывом, сколько наиболее характерной своей особенностью – аскетической страстью к обществу себе подобных.
– Я как раз к увертюре, – пробормотал Хоу, занимая место на боковой скамье. – А вот и знак зверя, все, как положено, – заметил он, бросив взгляд на огромное распятие, возвышающееся за алтарем. – Высока, увы, слишком высока[7]. Впрочем, для грегорианских штучек и призывания Вечного Духа Мироздания нужна хорошая акустика.
Все это было сказано без тени насмешки: зубоскальство не значилось в арсенале Бэзила Хоу. Он подмечал комичность общепринятых установлений, но вовсе не собирался на них нападать.
Он оглядел маленькую, но полную народа церковь, и его проницательный взгляд, засветившись радостью, задержался на трех осиянных солнцем женских головках. Сестры Грэй сидели на своей фамильной скамье. Мы не можем в точности сказать, о чем Бэзил думал, когда его строгие голубые глаза так надолго остановились на трех безотчетно боготворимых головках, но он был растроган до глубины души, ощутив ни с чем не сравнимое обаяние святости, чистоты и полноты жизни, те чувства, которые добрая семья даже больше, чем отдельный хороший человек, пробуждает в сердце того, кто достаточно чуток. Не будем винить Хоу за посторонние мысли в церкви; искренний интерес к нашим набожным ближним, в котором нет ничего нездорового, – едва ли не единственная подлинно христианская черта нынешнего традиционного благочестия. Это отголосок братских пиров и молитвенных собраний первых христиан, лишенных того благоговения перед ритуалом, которое позднее прокралось в церковь из язычества.
– Похоже, графине Гринкрофт сегодня молитвы не впрок, – проговорил он, беспокойно вглядываясь в бледный и серьезный профиль Кэтрин. – Надеюсь, мы вчера, как сказали бы специалисты, не вытрясли из нее всю душу. Леди Маргарет, по-видимому, исповедует более жизнерадостное богословие. Что же до моей достопочтенной подруги, что сидит поодаль, вероучение вообще не в ее вкусе. Я слышал, такой тип этнологи называют татарским. Она была достаточно любезна со мной, что говорит о некоторых ресурсах ее характера, – и все же я не погрешу против истины, если скажу, что она принадлежит к монголоидам.
“От гордыни и тщеславия, от жестокосердия, зависти, злобы и всякого осуждения, благой Господи, избави нас” – литания шла своим чередом, и Хоу, обычно бдительный и вовсе не склонный к мечтательности, обнаружив, что они уже добрались до середины, поспешил присоединиться к молитве. Впрочем, сейчас у него плохо получалось думать о службе: в эту минуту его религией были три окруженные сиянием фигуры. И на одной из них, более своевольной, более притягательной, более беспокойной, чем две другие, его мысли задерживались с интересом и заботой, подобающими скорее старшему брату.
Три девушки также преклонили колени, но осмелимся предположить, что молились они не с большим рвением, чем он, хоть и не имели столь же веского повода для рассеянности. Это утверждение может показаться излишне категоричным, но мой долг состоит в том, чтобы осторожно напомнить читателю об очень характерном и благородном типе английских девушек и сказать правду, какой бы она ни была. Не думаю, что у них есть то, что можно назвать личной верой. В куда большей степени таковая была у Хоу, пусть на его особый рассудочный манер.
Даже у Сесиль, когда она молилась в своей римско-католической часовне, веры, пусть и несколько болезненно-экстатической, было больше. Личная вера – достояние сироты, бродяги, человека мира, но не детей, подобных сестрам Грэй, выросших в здоровых и благополучных семьях, где религия считается чем-то неясным, красивым, правильным, словом, чем-то само собой разумеющимся.
Из всей службы Хоу в тот день запомнил только апостольское послание. Это был Павлов гимн любви, и некоторые стихи глубоко поразили его. Проповедь он всегда ждал с интересом интеллектуального порядка, тем же, с каким стремился к книгам и ученым теориям, и всегда в большей или меньшей степени обретал ожидаемое. В это воскресенье все вышло иначе: очень шумный, хотя и неглупый молодой человек просил денег, то и дело колотя рукой по кафедре, так что монеты буквально выпрыгивали из карманов прихожан, и грозя небесной карой тем, кто откажется внести свою лепту. Он произносил имя Христа, как бандит с большой дороги, к ужасу путника, выкрикивает условный сигнал своим товарищам. По-видимому, он был искренне и горячо убежден, что нужды его отдельно взятого прихода распространяются на любую частную собственность собравшихся в этот день прихожан, и орудовал словом, как кинжалом, расправляясь с любыми возможными возражениями.
Немигающий взгляд Хоу с подчеркнутой почтительностью и холодной сосредоточенностью был устремлен на пунцовое лицо священнослужителя все время, пока тот метал с кафедры громы и молнии нестяжательства. Когда же прихожане, толпясь, устремились к выходу, и сестры Грэй, встретив Хоу на крыльце, поинтересовались, что он об этом думает, Хоу, чьи юные годы прошли в Шотландии, с готовностью ответил:
– Очень ревностный служитель культа и с большим вкусом толкует вероучение. Что и говорить, оно выходит у него весьма аппетитным.
– Мистер Хоу, – тихонько спросила Гертруда, – а что вы на самом деле думаете об этой проповеди?
Он разом забыл о двух других девушках и обратился к той, кого отчасти понимал.
– Мне показалось, проповедник был чем-то взволнован, – сказал он. – Но у него все же хватило мужества и бесстыдства быть искренним. Все лучше, пожалуй, чем скулеж викария, поскольку здесь хотя бы была тема, пусть и говорил он только о деньгах. Но меня не слишком увлекают подобные проповеди. Если кто-то станет таким же образом просить денег для отца или брата вне стен церкви, его тут же сочтут приставалой и отправят на все четыре стороны. Почему же, когда ты сам не собираешься прикарманить эти деньги, можно забывать правила вежливости и хорошего тона? Почему нужно делать благое дело столь диким способом? Если я раздам все имение мое бедным, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы, как заметил, кажется, Юлий Цезарь[8].
Цитата из Писания, даже с таким экстравагантным добавлением, звучала очень непривычно в устах этого сухого, склонного к легкомысленным остротам человека, и Гертруда пристально вгляделась в его лицо, которое сейчас особенно напоминало бронзовую маску и говорило ей меньше, чем когда-либо прежде.
– Мне и самой он никогда не нравился, – сказала она с неожиданным воодушевлением.
– Полагаю, ему очень нужны деньги, – проговорила Кэтрин, и в ее голосе слышалась симпатия к человеку практического склада.
– Осмелюсь заметить, в этом не может быть никаких сомнений, – послушно согласился Хоу. – По правде говоря, он даже намекнул на это в своей проповеди.
Маргарет рассмеялась.
– Да, он немного чудной, наш священник. К примеру, никогда не снимет шляпы перед знакомыми дамами, потому что считает это неприличным для лица духовного звания.
На лице Хоу мелькнуло не свойственное ему резко неприязненное выражение, но голос его был совершенно спокоен.
– Боюсь, мне этого не понять. Мои природные способности к различению смысла чужих поступков не слишком значительны, но, мне кажется, он слишком благоговеет перед собственным достоинством. Христианская история знает джентльменов, не считавших зазорным оказывать дамам знаки внимания. Колодцы в этих краях, видимо, малоизвестны[9]. Я ничего не имею против тех, кто высоко ценит свое служение. Что там, я и сам буду весьма высокого мнения о своем служении, когда, наконец, выясню, в чем же оно состоит, но, думаю, будь я Папой Римским, я снял бы перед дамой свою тиару.
Еще некоторое время Хоу и Кэтрин были увлечены легкой и непринужденной беседой. Маргарет и Гертруда наблюдали за этим с немалым удивлением; они всегда относились к своей серьезной и высоконравственной старшей сестре с чем-то вроде благоговения и не встречали никого, кто мог бы совладать с ней. А потому сейчас они с искренним восхищением наблюдали за тем, как этот бесстрашный и забавный балагур играючи укрощает ее серьезность и с безукоризненным тактом и учтивостью заставляет ее смеяться над своей беззаботной болтовней. До сих пор еще никому не удавалось проделать с нею что-нибудь подобное. Строго говоря – никто даже не пытался. Лишь один раз Хоу немного перегнул палку, когда сказал в ответ на вопрос о поэзии Эмерсона:
– Да, я пробовал его читать. Должен, однако же, признаться, что он мне напомнил Иезекиилевы кости. Слишком уж сух.
Кэтрин нахмурилась, так как была приучена не одобрять подобные неуважительные замечания, а этот разговорчивый джентльмен отпускал их, не задумываясь. Однако ее молчание было прервано звонким и переливчатым смехом, ободряющим, дерзким, дружеским. Это смеялась Гертруда. Но Гертруда ошибалась, если думала, что Кэтрин обижена. Ничуть не бывало: во-первых, ее давно уже покорил темноволосый и словоохотливый собеседник, а во-вторых, как и полагается воспитанной девушке, она не считала возможным исследовать своих друзей с холодной отвлеченностью ученого. Так, за разговорами, они подошли к дверям дома, где девушек встретила их тетушка, мисс Торнтон.
– Итак, – сказала дама, с тем особенным жестом, который выражает удовольствие у людей, желающих продемонстрировать свою светскость, – чем удивил вас сегодня мистер Джекс?
– О, очень забавным трюком, – учтиво ответил Хоу. – Он стоял на задних лапах, положив передние на кафедру, и просил подачку.
Днем Люсьен, Сесиль, Гертруда и Хоу отправились вместе за город, лазать по бесконечным холмам и нависающим над морем утесам. Хоу со всей серьезностью отзывался на малейшее изменение ландшафта, способного удивить своим разнообразием разве что жителя Паддингтона. Он самозабвенно отпускал банальнейшие замечания; к этому занятию он порой питал необъяснимую склонность.
Вечером Гертруда собиралась пить чай у Сесиль, так что вскоре после их возвращения она в первый, но никак не в последний раз сидела за столом вместе со своим новым другом. Впоследствии, в период их доброго соседства, у двух семейств совместные чаепития вошли в привычку. Это было счастливое для всех время: Сесиль и Гертруда, взявшись за руки, сбегали по лестнице к чаю, Маргарет откладывала книгу, чтобы составить им компанию, Кэтрин с рыцарственной решимостью разливала чай, а Хоу порхал позади них с бесконечными бутербродами, замечаниями и объяснениями, слыша которые присутствующие едва не давились от смеха. Это было счастливое и беззаботное время, но двоих в этой компании, казалось, что-то беспокоит. Одной из них была Гертруда: при всей услужливости и добродушном юморе Хоу в нем, словно в потаенной комнате, скрывались неведомые силы, и подобрать ключ к двери было непросто. Это не давало упрямой девушке покоя. Вторым же был Хоу, но что томило его, Гертруде было неведомо, как неведомо это и нам.
Однажды вечером, вернувшись домой после прогулки, Хоу увидел, что его ждет письмо, подписанное округлым и красивым почерком, в котором явно чувствовалась вчерашняя школьница. Он распечатал его и обнаружил внутри открытку, на которой было написано: “Мисс Грэй просит мистера Бэзила Хоу оказать ей честь, согласившись сопровождать ее на званый вечер во вторник, 17 числа сего месяца. Вечер с танцами. RSVP[10]”. Несколько мгновений он всматривался в эти строчки, после чего бережно положил письмо на каминную полку в своей спальне. Отошел, вернулся и снова посмотрел на него, почему-то нахмурившись, и после, расставляя по местам свои книги, он то и дело возвращался в спальню, чтобы взять что-нибудь или вытереть пыль, но на самом деле – чтобы взглянуть на открытку на каминной полке. На его лице лежала печать того самого напряженного беспокойства.
Глава 7
Признание Бэзила Хоу
Во вторник, 17 числа того же месяца, в день, обозначенный на открытке, ближе к вечеру, Гертруда сидела на диване, дожидаясь Хоу, а на коленях у нее свернулся пушистый белый котенок, который достоин отдельного рассказа. На прошлой неделе Хоу предложил показать ей свои книги, и она, дрожа от предвкушения, что вот-вот ступит в заветные владения своей неразрешимой ходячей загадки, поднялась по лестнице. В комнате, темной, опрятной и строгой, как костюм и манеры ее жильца, на двух книжных полках, не слишком изящных, но вполне добротных, располагались в два ряда заметно потрепанные книги, и среди них красовались собрание сочинений Браунинга, два или три романа Теккерея, “Новые арабские ночи” Стивенсона и карманное издание Уолта Уитмена. На стене висела небольшая гравюра Дюрера, а пара фехтовальных рапир была единственным свидетельством спортивных пристрастий хозяина. Прочный квадратный сундук у окна был способен, при известном внешнем давлении, вместить в себя все это “барахло”, как предпочитал именовать свое имущество Хоу. Все говорило о том, что здесь живет замкнутый, независимый человек. Все это, однако, не так сильно обратило на себя внимание Гертруды, как нечто, точнее некто, в небрежной позе развалившийся на ковре посреди комнаты. С порывистостью, столь свойственной ее натуре, она испустила радостный вопль и рухнула на колени, схватив в охапку белого котенка.
– Этого зовут Роберт Элсмер, – мимоходом заметил Хоу. – Показать вам остальных? Кис-кис!
Еще два котенка, черный и белый, выкатились из-за сундука, и вот Гертруда, к счастью, совершенно не подозревая, как живописно она выглядит, уже сидела на ковре и, хохоча, возилась с тремя расшалившимися четвероногими созданиями.
– А вот этого вы как назвали? – спросила она, поднимая на него лучащиеся радостью глаза.
– Этого котенка, честного и немного рассеянного, зовут, как я уже сказал, Роберт Элсмер. Я полагаю, выбор имени для котенка – дело, требующее большой серьезности и основательности, и имена моих котят заимствованы из современной литературы. Вон тот, более шустрый и беспокойный, Эван Харрингтон. Что до этой дамы, – он указал на черного котенка, – я назвал ее Геддер Габла[11]. Ее моральный облик далек от совершенства. Вчера она поцарапала меня с большим изяществом. Вам, по-видимому, пришелся по душе Роберт Элсмер. У него есть одно преимущество перед его прототипом. При наличии сомнений, он держит их при себе. Само благонравие.
– Он такой милый, – сказала Гертруда, перебирая белую шерстку. – Откуда они у вас?
– Точно не помню, – ответил Хоу. – Не исключено, что я их украл. Не уверен, что вы хотели бы иметь котенка, мисс Грэй, но если вам угодно, тоже можете совершить кражу. Я отвернусь.
– Ой, мне правда можно его взять, мистер Хоу? – вскричала Гертруда. Сияя, она вскочила, прижимая котенка к груди.
– Без всякого сомнения, – ответил он. – Можете сделать из него добропорядочного христианина, если вам так хочется, и водить в церковь, нацепив ему белый бантик.
Прежде чем он успел закончить фразу, она, бормоча слова благодарности, стремительно сбежала по лестнице, унося с собой котенка. Другого на месте Хоу, пожалуй, обидела бы ее поспешность, но ему было достаточно уже того, что он сумел порадовать гостью. Он лишь странно усмехнулся и продолжил вытирать пыль со своих книг.
Такова была история белого котенка, который разлегся на коленях у Гертруды, сидевшей на диване в узком белом вечернем платье с прямоугольным вырезом и красной лентой на поясе. Гертруда была готова задолго до назначенного времени: ее переполняло радостное возбуждение. Она ждала этого вечера, как не ждала ничего в прежней жизни. Если бы она захотела разобраться в своих чувствах (чего, впрочем, никогда не делала – ее гораздо больше интересовали другие люди), то разглядела бы горделивое желание похвастаться перед всеми новым удивительным другом, его сильным и оригинальным умом, блестящим острословием – и насладиться произведенным эффектом. Лучшее доказательство ее бескорыстной симпатии к Бэзилу Хоу заключалось в том, что до сих пор ей ни разу не пришло в голову присвоить его. Больше всего на свете ей нравилось, как, общаясь с ним, удивляются и радуются другие.
Остается лишь гадать, почему при таком расположении духа всю первую часть вечера она дулась и досадовала. Хоу с чопорной серьезностью приглашал на танец сначала Кэтрин, потом Сесиль, потом Маргарет, потом каких-то незнакомок, потом ее и снова Кэтрин. Его вечерний наряд, выдержанный в черно-белых тонах, был так же строг и прост, как его повседневная одежда; стальные глаза и ястребиное лицо – как всегда невозмутимы, а речь столь же причудлива и поразительна, как прежде. И все же Гертруда буквально не находила себе места. Все, казалось, шло совсем не так, как она рассчитывала. Она чувствовала непривычную горечь, глядя на то, как он кружится по наполненной гостями комнате. И чем ближе был конец вечера, тем утомительнее было внимание по пятам следовавшего за нею изящного и со вкусом одетого Люсьена Флери, похожего в своей белой манишке с желтой розой на бледного и обольстительного Мефистофеля, а его самовлюбленная и велеречивая похвальба выводила ее из терпения. Он всегда говорил о себе, и говорил с чувством. Получаса в любой благовоспитанной компании ему хватало, чтобы до дна излить душу. Я далек от того, чтобы осмеивать его за это; думаю, искренность и общительность были лучшими его чертами. Но для Гертруды его речи были пусты, как ветер, и, слушая их, она все больше злилась. Почему происходящее так действовало на нее, останется для нас одной из неподвластных рассудку тайн женского сердца, но что-то мучительно жалило ее при каждом взгляде на гордое, смуглое лицо Хоу, плывущее среди гостей, и источником этих мучений был вопрос, который она неустанно себе задавала.
– Конечно, приходится танцевать на званых вечерах, – живо говорил Люсьен, – но честное слово, это такая скука. Мне это совершенно не интересно, а вам?
– И мне, – резко сказала Гертруда, глядя на то, как Хоу кружит по залу умирающую от смеха Сесиль. В следующую минуту они разошлись, и Хоу уже стоял перед ней.
– Могу ли я иметь удовольствие еще немного оттоптать вам ноги, мисс Грэй? – учтиво поинтересовался он.
Но Гертруда, к этому моменту уже без видимой причины обиженная на всех и вся, вспомнив то, что сказала Люсьену, сухо ответила:
– Нет, благодарю вас, мистер Хоу. Мне наскучили танцы.
– Вы выглядите усталой, – покорно заметил он. – Давайте пройдем в оранжерею. – И он двинулся вперед, придержав перед нею стеклянную дверь. Гертруда последовала за ним, злясь все больше и больше. Ее раздражала тщетность всех попыток разгрызть этот крепкий орешек и терзали неясные подозрения, а открытое лицо и спокойствие Хоу и вовсе приводили в бешенство. Они оказались одни в зеленой тесноте оранжереи, и Хоу проговорил:
– Думаю, лучше открыть окно, здесь душно, как в зеленой дыре Калькутты[12].
Ослепленная злостью, она успела только подумать: “Он воображает, что может с легкостью делать мне больно и тут же сыпать остротами – как бы не так!”
– Это новое выражение, – очень сухо заметила она.
– В самом деле? – отозвался он. – Тогда оно могло бы мне очень пригодиться пять минут назад.
– Что же вы делали пять минут назад? – спросила Гертруда еще резче.
– Я имел особую, редкостную честь танцевать с вашей подругой Сесиль, – сказал он весело. – По крайней мере, мне так показалось. Вполне возможно, это был кто-то другой.
Гертруда, почувствовав, что опять бьется в закрытую дверь, на страже которой стояло его шутовство, окончательно вышла из себя и вскричала:
– Да что вы знаете о Сесиль? И что у вас может быть с ней общего?
В следующее же мгновение она почувствовала, что ее слова грубы, опрометчивы, постыдны и что она сама вложила оружие в его руки. Она нахмурилась и замолчала в ожидании ответа.
После недолгой паузы он очень спокойно сказал:
– Я заметил одну любопытную особенность вашей семьи. Вы всегда оказываетесь правы. Я не должен был так говорить о вашей подруге. Надеюсь, вы меня простите.
Когда смысл его слов, сказанных тихо и невыразительно, дошел до нее, от горделивой обиды не осталось и следа. Она вдруг поняла, что на его месте девять человек из десяти стали бы изображать перед нею оскорбленное благородство, он же постарался ответить так, чтобы выставить виновным себя, успокоить ее и не дать ей увидеть нелепость собственного положения. Возможно, делать этого не стоило: пожалуй, “для ее же блага” следовало бы поставить ее на место, но его самоумаление было столь велико, что привело ее в чувство, словно глоток свежего воздуха. Она прикусила губу, отвернулась, в смятении прошлась до противоположного конца оранжереи и обратно. Наконец она оказалась прямо перед ним, в ее глазах стояли слезы, и слова давались ей с видимым усилием. Он не пытался уйти, не желая выглядеть незаслуженно обиженным героем, и сидел, опустив глаза, поигрывая подобранной с пола бамбуковой веткой.
– Мистер Хоу, – очень-очень тихо сказала Гертруда.
– Мисс Грэй, – ответил он, поспешно подняв взгляд.
– Мистер Хоу, – порывисто продолжила она, – я надеюсь, вы простите меня. Я была глупа и несправедлива, вы же были совершенно правы, но предпочли не указывать мне на это. Мне хотелось бы, чтобы вы знали, что мне, несмотря на мой жуткий характер, да и каждой из нас было бы очень жаль лишиться такого хорошего друга, как вы.
Пока она говорила, его взгляд снова уперся в пол, он помрачнел и напрягся, словно стараясь отделаться от неприятных мыслей.
– Мистер Хоу, – сказала Гертруда, – вы меня понимаете?
– Да, мисс Грэй, – сказал он, но выражение его лица оставалось по-прежнему напряженным и мрачным.
– Ну вот и прекрасно, – сказала Гертруда, пытаясь рассмеяться, словно желая забыть ужасное сновидение. – Давайте вернемся в гостиную. Нас, возможно, ищут.
Он коротко усмехнулся, и это показалось ей очень странным: прежде она не замечала за ним ничего подобного, да и тон его на этот раз был необычно горьким.
– Я ни секунды не сомневаюсь, мисс Грэй, – сказал он, – что вас будут искать. Что же до меня, полагаю, род сей преспокойно отойдет к праотцам, так ни разу и не вспомнив обо мне.
Он сказал это в своей обычной суховатой манере, но на этот раз голос его чуть дрогнул. Гертруда взглянула на Хоу и увидела на его лице новое, незнакомое ей выражение.
– Что с вами?! – воскликнула она.
– Ничего, – выдавил он из себя, и в его чертах отразилось страдание.
– Нет, тут что-то не так, – мягко настаивала Гертруда. – Вы наш друг, и мы рады были бы помочь вам. Скажите, что стряслось? Чем я вас обидела?
Он снова, явно стараясь справиться с собой, попробовал что-то сказать в своей обычной легкомысленной манере, но не сразу смог заговорить. А затем очень низким, хриплым и бесцветным голосом, который, казалось, рождался где-то в глубинах его существа, он едва слышно проговорил:
– Нет… ничего особенного… Мне просто стало интересно, каково это – почувствовать, что есть человек, которому не все равно, жив я или мертв.
Гертруда содрогнулась всем телом от мгновенного озарения. Едва ли она могла бы сказать, что именно испытала в эту секунду. Это было скорее чувство, нежели знание, но чувство не смутное, а четкое и пронзительное, будто она вдруг наткнулась на что-то невыразимо прекрасное и невыразимо печальное. Словно бы плотно запертая дверь вдруг поддалась и отворилась перед нею, открыв за собой пронзительную пустоту и безмолвие.
Прежде чем она обрела дар речи, Хоу после недолгой мучительной борьбы совладал со своими губами и языком и с достоинством произнес:
– Прошу простить меня, мисс Грэй, я нес полную чушь. Я забылся на минуту и неблагоразумно выпустил на волю коварного обитателя этого угрюмого застенка, – тут он указал на свою голову. – Вернемся в гостиную?
Гертруда с трудом держала себя в руках.
– Нет… нет… – пробормотала она срывающимся голосом. – Объясните же, в чем дело, мистер Хоу! Почему, почему вы это сказали?
– Я всего лишь благоговейно подражаю Создателю, делая из себя законченного идиота, – ответил он, плотно стиснув зубы.
– Мистер Хоу, – сказала Гертруда, внимательно глядя на него. – Вы слишком старательно сдерживаете свои чувства, дайте же им наконец волю. Сделайте одолжение, расскажите мне побольше, хоть вам это и неприятно. Я не так уж часто вас о чем-то прошу.
Если бы не последние слова Гертруды, ничто во вселенной не заставило бы Хоу прибавить хоть слово к его невольному признанию, за которое он и так себя ненавидел. Но инстинктивно или скорее по глубоко укоренившейся привычке он предпочел желание собеседника своему собственному, а потому послушался.
Титаническим усилием он заставил себя начать в своей обычной манере “В незапамятные времена… ”, но затем его железный голос снова дрогнул под наплывом мыслей и чувств и сменился тихои запинающейся речью.
– … Вы знаете, что я за человек, мисс Грэй… Я кажусь воображалой и мелю бессмыслицу, и все, конечно же, с трудом меня терпят. Но хуже всего то, что они совершенно правы. Мне не хочется выглядеть таким заносчивым глупцом, но я болтаю ерунду, потому что не решаюсь говорить что-то еще, ведь я знаю, что и так глубоко всем неприятен. Раньше я думал, что это не имеет значения, коли уж я могу общаться с такими славными людьми – иногда даже заставить их улыбнуться моим нелепостям. И я, бывало, – понимаю, это очень глупо, – немного гордился тем, что меня совсем не обижает роль шута: откалывал свои глупые штучки, сознавая, как я на самом деле низок. Это было жалкое и отвратительное тщеславие. Но уж говорить, так начистоту: когда до тебя никому нет дела, ты цепляешься за жалкие остатки гордости. Конечно, ни одному человеку никогда не было до меня дела: я сам виноват, что был нелюдим, одинок как сыч – но “одр мой был готов”, и мне оставалось только возлечь на него… как вдруг… вдруг я повстречал людей, которые были умнее, искреннее и щедрее всех, кого я когда-либо знал. И глядя на них, я забыл, насколько безнадежен… и позволил себе восторгаться ими и все глубже чувствовал себя одним из них… а потом, – он говорил теперь совсем тихо, но это был чуть слышный крик, – потом я вспомнил. Я вспомнил, что сам всего-навсего дешевый и презренный салонный паяц и что они будут думать обо мне так же, как думали все остальные. Если бы я мог увидеть в этом драму оскорбленной добродетели, мне было бы не так горько, но я не мог. Они были настолько лучше меня во всех отношениях – они имели полное право смеяться и не делали ничего такого, на что не имели бы права… – его голос, казалось, совсем угас, и последние слова он пробормотал, словно бы разговаривая сам с собой: – Я говорю это сейчас одной из них… и ей, наверное, смешно.
На мгновение повисла тишина, нарушенная лишь треском сломавшейся ветки, которую он слишком сильно сжал в руках.
Гертруде стало невыносимо жарко под шапкой рыжих волос, она с трудом переводила дыхание, слушая, как изливается перед ней копившееся годами горькое одиночество. Когда она заговорила, ее слова звучали бережно и мягко, а в глазах появился какой-то новый блеск.
– Мистер Хоу, – сказала она, пристально глядя на него, – почему вы думаете, что никому нет до вас дела?
В ответ он не то засмеялся, не то застонал.
– Неужели вы горите желанием познакомиться с площадным клоуном? – спросил он. – Разве я хоть раз сказал что-нибудь, что могло бы кому-то понравиться? Разве я хоть полусловом обмолвился о любви или ненависти к кому-нибудь из смертных? Разве я хоть раз дал кому-нибудь малейший повод заподозрить у меня серьезную мысль или живое чувство? Люди не прочь побеседовать со мной, пока их не начнет тошнить, и тогда они уходят. Да и что тут любить? Не знаю, – добавил он, словно бы обретя новые силы для самоуничижения, – когда я был более жалким дураком – тогда или сейчас. Думаю, все же сейчас. Но боль стала невыносимой. Достаточно было легкого прикосновения… Я еще никогда в жизни не рассказывал об этом, пока вы не заговорили со мной так сердечно. И я никогда не упомяну об этом впредь… – и он отчаянно забарабанил пальцами по столу.
Гертруда стояла над ним, ее лицо скрывала тень, а волосы рассыпались подобно огненному нимбу; они горели неистовым пламенем, а глаза засияли робким светом. В эти минуты, когда она глядела сверху вниз на одинокую и потерянную фигуру, ребенок стал женщиной.
– Мистер Хоу, – проговорила она мягко и в то же время решительно, – поверите ли вы, если я признаюсь вам в чем-то очень важном?
– Я знаю, вы всегда искренни, – отвечал он, не поднимая головы.
– Тогда слушайте, – очень серьезно сказала она, забыв об условностях, как забыла о себе. – То, что вы думаете, неправда. Поверьте, мы с сестрами очень любим вас. Я думаю, вы благороднее и глубже многих моих знакомых; а еще вы умны и забавны. Но я никогда еще не встречала человека, который бы так дурно думал о себе. Кэтрин часто отказывает себе в своих желаниях, но никогда не отказывается от себя и своих мнений. Я действительно так думаю, – воскликнула она пылко, почти с материнским состраданием, – так думают и Кэтрин, и Маргарет, и Сесиль, я точно знаю. И даже если бы они думали иначе… – тут она замолчала, и ее взгляд затуманился.
Хоу не поднимал потемневшего лица, пока она говорила, но он умел быстро оценивать происходящее, и горечь оставила его, уступив место новым неведомым переживаниям, от которых его смуглые щеки вспыхнули пунцовым румянцем.
– Вы говорите, это правда, – сказал он дрожащим голосом, – а вы никогда не лжете. Если это правда… я могу лишь сказать, что вы сделали меня очень счастливым человеком. Никогда в жизни я не был так счастлив. Раньше я не мог бы поверить, что такое возможно… И едва могу поверить этому теперь… Мисс Грэй, вы в самом деле можете меня терпеть – и быть… моим другом?
– Да, мистер Хоу, – ответила она мягко и бесстрашно, протягивая ему руку. – Я сказала вам, что это правда, и это действительно так.
Хоу взял ее руку и порывисто сжал.
– Мисс Грэй, – начал он, движимый самым искренним и неподдельным смирением, но в эту минуту в оранжерею вошла Маргарет, улыбаясь с веселым недоумением.
– Что вы тут делаете, мистер Хоу? – спросила она.
Хоу учтиво поднялся, и выражение его лица мгновенно переменилось, точно он снова надел маску.
– О, прошу простить нас, – сказал он, указав на окно оранжереи и кромешную темноту за ним, – мы наслаждались видом.
Так на двадцатом году своей жизни Бэзил Хоу обрел первого друга.
Глава 8
Любовь есть исполнение закона[13]
Несколько минут спустя они уже снова были среди гостей. Гертруда расположилась между Маргарет и Люсьеном, а Хоу на другом конце комнаты приглашал на танец Кэтрин. Соседи болтали с Гертрудой, как обычно, но от ее былого раздражения не осталось и следа – ее глаза и мысли следовали за Хоу. Если бы она вспомнила, что чувствовала всего полчаса назад, ей стало бы стыдно, но сейчас в ее сердце, переполненном новым увлечением и новой тайной, больше ни для чего не осталось места. Наблюдая за тем, как Хоу, смеясь, переходит от одной группы гостей к другой, поддерживая атмосферу вечера своими невидимыми для других усилиями, она чувствовала, что ее распирает от гордости за него. Что-то похожее она испытывала и прежде, слыша его остроты, – только теперь это чувство стало в тысячу раз сильнее. Ее щеки горели, а голова шла кругом, когда, зная их общую тайну, она видела, что до конца вечера он ни разу не взглянул на нее, не позволил даже слабому проблеску недавнего чувства пробиться сквозь суховатую учтивость. Салонный паяц, отважный и одинокий, вновь натянул на себя свой пестрый шутовской колпак и терпеливо делал свое дело. Танцы продолжались, и Гертруда потихоньку справилась с собой, но она снова и снова ощущала в груди биение новой жизни и новой радости. Она едва не заключила в объятия запыхавшегося, смешливого и нелепого Люсьена, явившегося пожелать ей доброй ночи. Прощаясь с Сесиль после этого головокружительного вечера, она испытывала к ней что-то вроде чистого сестринского сострадания. Ей было жаль подругу, которой была пока неведома тайная дружба. Еще две девушки и учтивый темноволосый молодой человек приблизились к ней, чтобы раскланяться. Гертруда никогда прежде их не видела, но с искренним воодушевлением пожала им руки, словно была уверена в том, что, довелись ей узнать их получше, они оказались бы прекрасными людьми. Затем Хоу, подплыв к Кэтрин, протянул ей руку и произнес нечто глубокомысленное, так что она едва удержалась от смеха. Потом Гертруда услышала, как он говорит, пожимая руку Маргарет:
– Боюсь, наш последний танец заставил вас разочароваться в сэре Роджере из Коверли.
Та сказала в ответ что-то веселое, и Хоу шагнул к Гертруде. Взяв ее за руку, он, казалось, готов был отпустить замечание в своем обычном духе. Но после недолгого молчания он сказал со странной улыбкой, смущенно глядя в пол:
– Если хотите, давайте поставим наш эксперимент, мисс Грэй.
Она крепко сжала его руку, и он, выбежав из комнаты, понесся по ночным улицам, не чувствуя под собой ног.
Четырнадцать дней и ночей после того памятного вечера Гертруда пребывала полноправной владычицей своего тайного сокровища, украдкой мечтая о молчаливом и верном друге, вдруг придавшем ее жизни новый смысл. Сестры были крайне удивлены ее спокойствием, тем более что после праздников или выходов в свет она обыкновенно становилась особенно капризной и невыносимой. Воплощенная мягкость и покладистость, она была поглощена новыми заботами и чувствовала себя совершенно счастливой. Быть подругой и наперсницей одинокого и изголодавшегося по человеческому теплу “весельчака” оказалось не таким уж простым делом. Неизменно проклиная себя за якобы доставляемое ей беспокойство, Хоу при всем желании не мог скрыть от нее минуты, когда его в очередной раз накрывало сознание собственной никчемности, и, видя это, Гертруда переворачивала небеса и землю в поисках утешений, чтобы вселить в него уверенность и убедить во всеобщей любви. Он безотчетно тянулся к ней всякий раз, когда на сердце у него бывало тяжело, а она так проницательно читала в его, казалось бы, ледяных глазах, что слов не требовалось. Игра парадоксами, причудливые полунамеки, словесная эквилибристика и остроумные замечания теперь предназначались другим – Кэтрин и всем прочим. Гертруде же доставались невнятные и безыскусные речи, давно копившиеся безотчетные переживания, судорожные сомнения и надежды новоначального в таинстве дружбы. И этой невеселой долей она гордилась больше, чем любыми мыслимыми комплиментами. Порой в его словах проскальзывала тревога, не наводит ли он тоску своим самоуничижением; ей и самой иногда приходили в голову подобные мысли, но она тут же, повинуясь тихому голосу сердца, давала им гордую отповедь: “И пусть, пусть я стану такой же несчастной, как он”.
Чтобы вполне понять восторг, в который приводили Гертруду их отношения, нужно помнить, что она сама была новичком в школе жизни. Она была ребенком, дикарем, привыкшим полагаться лишь на свои чувства. В ее случае хорошее воспитание не смогло пробудить дремлющие в ее душе недюжинные способности, которые теперь неумело начинали заявлять о себе. Ею правили сострадание и восторг, и ни один человек не стал бы ей лучшим наставником. Научившись слушаться своего сердца, Гертруда с неожиданной легкостью и изяществом обрела неведомые доселе такт, находчивость и уравновешенность. К удивлению друзей, от “безумной” Гертруды, – которая на самом деле была всего-навсего не нашедшей себя Гертрудой, – не осталось и следа. Чем бы ни были их отношения, все эти дни Хоу черпал силы и утешение у неопытной девочки, почти ребенка. Он, эксцентричный светский балагур, прекрасно это понимал, и если когда-либо приличный молодой человек девятнадцатого века, оставшись наедине с собой, превращался в истового идолопоклонника, то именно это произошло с мистером Бэзилом Хоу. Потрясенный и раздавленный столь непривычным опытом сочувствия и неожиданной возможностью ослабить хватку, которой он сжимал себя всю жизнь, он несколько дней подряд был охвачен всепоглощающим переживанием, преклоняясь перед той, что увидела в нем человека. Что же до Гертруды, она обратила свою душевную энергию на будущее, строя планы изменить свою жизнь, по большей части детские и наивные. Клокочущая у нее в груди энергия настойчиво искала выхода.
Семейство Грэй, подобно большинству семейств среднего класса, составляли консерваторы, причем консерваторы благородного, специфически английского склада. Хоу же, как оказалось, был либералом. И вскоре Гертруда уже сделалась красной республиканкой самого радикального толка: она расшатывала устои отеческой гостиной ребяческими и, как правило, недалекими обличениями королевской семьи и рассуждала о национализации земли так, словно собиралась приступить к ней завтра же с утра. В другой раз можно было услышать, как она решительно отстаивает наличие юмора на небесах, что совершенно выводило из себя Кэтрин и очень веселило Маргарет. Ее первые порывистые шаги в новой жизни могли показаться неосторожными, но в них отражалась ее натура, и сестры с их куда более традиционным складом характера едва ли были на такое способны. Среди детей ветхого послушания не было никого благороднее, но Гертруда стала тем меньшим в Царствии Небесном, кто больше их.
Глава 9
В которой птенец встает на крыло
Компания из пяти молодых людей шла гуськом по неровной поросшей вереском кромке берега высоко над сонной гладью моря. Маргарет, нагруженная, по своему диковинному обыкновению, стопкой книг из библиотеки, двигалась впереди вместе с Сесиль. За ними следовал Люсьен, облаченный в светлую фетровую шляпу и самый светлый из своих семи светлых костюмов; это пиршество утренних тонов оттеняли неизменная простая черная шляпа и длинный черный сюртук его кузена Хоу. А между двумя этими группками счастливым мотыльком порхала Гертруда, болтая веселую чепуху и развлекая всех присутствующих.
Как мы уже говорили, Хоу вовсе не был молчуном; сам он сравнивал себя с каракатицей, “которая прячет свое природное уродство и нелепость своего поведения от добропорядочных морских звезд, напуская побольше тумана”. Его остроты заставляли Люсьена плясать от смеха, подобно костлявой смерти на средневековой ярмарке, но все же во время прогулки бывали минуты, когда Хоу мечтал лишь о том, чтобы молчаливо смотреть, как ветер треплет и развевает огненные волосы Гертруды и они рдеют над задумчивой синевой моря.
– Я вижу, вы готовы к встрече с управителем, – сказал Хоу, обращаясь к Люсьену, которого дамы, опасаясь очередного приступа самовлюбленных откровений, ненавязчиво препоручили заботам его безропотного кузена. – Рад за вас. У деловых людей свои обычаи. – Он указал на ружье, висевшее на плече у молодого человека.
Весьма примечательно, что любой, у кого в руках оказывается ружье или удочка, начинает выглядеть весомо и значительно, словно в таком положении есть что-то героическое. Люсьена, горячо преклонявшегося перед “мужскими” видами спорта, это касалось втройне. Если бы не примесь французской крови, сообщавшая ему восприимчивость к прекрасному, он представлял бы собой довольно обыкновенный тип молодого англичанина, худого, бледного и спортивного, похожего на человека, отправившегося в нескончаемый пеший поход. Быть может, он больше всего походил на подростка, так как возраст этот наиболее эгоистичен; он не умел следовать моде, флиртовать и был глух даже к самым робким нашептываниям греха, но зато был по-своему рыцарствен, доброжелателен и совершенно не способен держать свои секреты при себе. Мы заговорили о его характере, потому что спустя мгновение Люсьену предстояло увидеть нечто, определившее дальнейший ход событий. Привлеченный радостным возгласом Гертруды, он обернулся и заметил вьюрка, взметнувшегося вверх из подлеска. Юноша умелым движением вскинул ружье и приготовился выстрелить.
– Что вы делаете! – вскрикнула Гертруда. – Неужели вы хотите ее убить?
Люсьен вытаращился на нее и расхохотался. Он не был жесток, разве что жестокостью школьника и англичанина, жестокостью бездумной привычки. Но забота Гертруды о братьях меньших была ему решительно непонятна. Он вернулся на исходную позицию.
– Мистер Флери! – выдохнула Гертруда и дернулась вперед, крепко схватив его за руку. В ответ он снова рассмеялся. Им уже овладел спортивный азарт, кроме того, Люсьен отнюдь не собирался угождать девичьим капризам. Он мягко высвободил руку и отстранился, по-прежнему сжимая ружье. Гертруда беспомощно раскачивалась на месте, как тростник, и слабым голосом звала его сестру и своих:
– Маргарет… Сесиль… ради всего святого, остановите это.
– Что остановить? – недоуменно спросила Сесиль.
– Твой брат… Птичка… – только и смогла выдавить из себя Гертруда, не в силах оторвать скованного ужасом взгляда от происходящего.
Резкая судорога скорее боли, чем ярости, на мгновение изменила черты Хоу, и, надвинув шляпу на глаза, он быстро подошел к Люсьену и что-то сказал ему. Слов не было слышно, но, глядя на то, как две тонкие темные фигуры стояли друг перед другом на фоне неба, девушки, казалось, наблюдали столкновение двух воль и чувствовали, как унаследованные от многих поколений средневековых графов бешеные аристократические инстинкты бойца и охотника отступили перед расторопностью и добытыми нелегким опытом навыками представителя образованного среднего класса. Было видно, как Хоу говорил что-то непривычно медленно и сурово, а Люсьен отвечал злобным и высокомерным смехом. Затем Хоу поклонился, Люсьен закинул ружье за плечо, и они вернулись к остальным. Гертруда стояла, потрясенная, залившись краской до корней волос, лишь сверкали белоснежные зубы и изумрудные глаза. Предмет ее поклонения только что вознесся на самый высокий из возможных пьедесталов.
Когда сразу же после этого эпизода компания отправилась в обратный путь, беседа Хоу с Гертрудой и прочими оживилась, сделавшись разнообразнее и фантастичнее, чем когда-либо прежде. Он сыпал феерическими замечаниями с поистине зверской энергией. Мы можем привести здесь лишь незначительные обрывки, которые сохранила память Гертруды. Так или иначе компания была поглощена спором о животных, и Маргарет (она увлекалась также и естественными науками) обратила внимание собеседников на деятельно копошащийся муравейник:
– Боже мой! Они, должно быть, убежденные мальтузианцы! – огорченно воскликнул Хоу. – “Пойди к муравью”, как заметил на старости лет его величество царь Соломон[14], что, я полагаю, является арамейским эквивалентом выражения “разрази тебя гром”. Деликатные израильтяне в таких случаях предпочитали послать в Иерихон.
– “Пойди к муравьям”, следовало бы сказать, – заметила Маргарет. – Едва ли можно найти где-нибудь одинокого муравья.
– Так и было бы сказано, можете быть уверены, если бы к моим советам прислушивались. Но, откровенно говоря, я не создавал Книгу Притчей, и слухи, приписывающие мне авторство, совершенно беспочвенны. Правильнее было бы сказать, что я несколько переработал ее и улучшил.
– Теперь-то все правильно, не так ли? – сказала Гертруда, глядя на него то ли шутливо, то ли серьезно.
– О да, – весело ответил он после некоторой запинки. – У меня, собственно говоря, осталось только одно пожелание. Но я о нем умолчу, покуда не явились в полях кони бледны, а в застекленных окнах – молодая луна. А сейчас, мисс Грэй, – сказал он, вдруг, к всеобщему удивлению, остановившись у изгороди в том месте, откуда вел кратчайший путь к станции, – выражаясь витиевато, до свидания.
– Куда же вы? – воскликнула Маргарет, в упор глядя на него. – Почему вы здесь остановились?
– Потому что я намереваюсь перебраться на ту сторону, как сказал один ластоногий шутник любознательному путешественнику. Что же до того, куда именно я направляюсь, я сам это не вполне представляю. Быть может, к тому самому Великому Пределу, впрочем, это не важно. Иными словами, я отправляюсь в Лондон.
– В Лондон… вы? – в один голос воскликнули Маргарет и Сесиль. Гертруда, стоявшая позади них, смертельно побледнела, ее прелестные черты под буйными рыжими прядями казались вырезанными из слоновой кости. Хоу протянул ей руку. Взгляд ее необыкновенных зеленых глаз уцепился за что-то и стал вдруг решительным.
– Мистер Хоу, – проговорила она, не дыша и очень-очень тихо, – что вы сказали мистеру Флери?
– Он сам вам об этом расскажет, – ответил Хоу, вздрогнув, как будто она попала в самую точку.
Люсьен был не особенно скрытен, и вскоре она выяснила, что Хоу, зная, что слово на него не подействует, пригрозил ударить его. Они рассорились, и Хоу отправился собирать чемодан.
После Гертруда страстно лелеяла воспоминания о том, как ее герой бестрепетно пошел ради нее на великую жертву, но в тот момент она вряд ли это осознавала. Весь мир в мгновение померк для нее.
– Прощайте, мисс Грэй, – сказал Хоу Маргарет. – Прощай, Сесиль, мои каникулы окончены.
– Какая жалость! – ответила Маргарет, искренне, почти с горячностью, ибо здравый смысл и чувство юмора помогли ей по достоинству оценить этого, как она выражалась, “субъекта”. Хоу посмотрел на нее, и его обеспокоенный взгляд наконец прояснился.
– Я верю, что сейчас вам действительно жаль, – медленно проговорил он. – Но скоро мы все это изменим. Прощайте!
Он с чувством, почти нежно пожал руки Маргарет и Сесиль, крепко пожал холодную руку Гертруды, после чего с удивительным проворством перемахнул через изгородь и поспешно зашагал к станции.
– Очень неожиданный отъезд, – сказала Маргарет. – Наверное, он заберет свои вещи по дороге на станцию. Куда мы теперь направимся? А где же Гертруда? – Но та была рядом, она бродила неподалеку, поддевая песок носком туфли.
– Нам лучше вернуться домой, Гертруда: ты знаешь, Амьены могут зайти к нам на чай. Ты видела их на званом вечере, помнишь темноволосого молодого человека с двумя сестрами?
– Мистер Амьен дурак, – негромко сказала Гертруда.
Люсьен довольно странно и глупо засмеялся, а Маргарет нахмурилась. Гости к чаю не пришли, и Кэтрин, поздно вернувшись домой после нескольких визитов, села за стол в одиночестве, а Гертруда в той же комнате беспокойно ерзала на диване.
– Но почему ты не хочешь прогуляться вместе по реке? – допытывалась Кэтрин. – Погода наверняка будет очень хорошая.
– Наверняка будет дождь, – пробурчала Гертруда. – Ненавижу реку.
– Раньше я этого не замечала, – улыбнулась Кэтрин. – Что с тобой, милая? – добавила она, подходя и садясь рядом. – Ты на нас сердишься?
Но Гертруда вовсе не выглядела сердитой. Ее чувства как будто умерли: она видела происходящее вокруг с мрачной и прозаической отчетливостью.
– Нет, – грубо ответила она. – Ничего мне от вас не нужно. – И смяв покрывало, зарылась лбом в подушки.
– В таком случае, – сказала ее сестра с мягким достоинством, – ты могла бы пойти с нами… Но что с тобой, Гертруда?
Гертруда обернулась на раздавшийся откуда-то шорох и почувствовала, как белоснежная лапка дотронулась до ее щеки, а затем послышалось “мяу”. Она позволила Роберту Элсмеру пробраться к ней и прижалась к нему головой среди подушек. Его шерсть смешалась с бурей рыжих волос, и тишину нарушил неожиданный и от этого особенно резкий приступ рыданий. Кэтрин в недоумении покинула комнату, из которой долго еще доносились душераздирающие звуки.
Книга вторая
Глава 1
Валентин Амьен
В изящной, оформленной в красно-коричневых тонах столовой одного из домов лондонского Вест-Энда сидели, потягивая кофе, два молодых человека в вечерних костюмах. Один из них был одет с учетом всех новейших причуд моды; он был похож на столь распространенные ныне технические новинки, которые снабжают самыми последними усовершенствованиями, к таковым относилась, в частности, тончайшая полоска усов. Но, несмотря на этот завершающий штрих, на весь лоск и глянец, которыми одарили его шесть легкомысленных лет, это был все тот же Люсьен Флери, щебетавший о своей очередной бессмертной страсти сидевшему напротив него собеседнику. Тот был изящным, темноволосым, апатичным молодым человеком с по-юношески пухлым овалом лица и раскосыми черными глазами, придававшими ему сходство с китайцем, что иногда случается с молодыми французами. Французский кузен Люсьена по имени Валентин Амьен был, тем не менее, во многих отношениях таким же англичанином в своих привычках и взглядах, как любой подлинный британец, презирающий все, чего не понимает. Люсьен почти не знал его, хотя много лет назад встречался с ним и его сестрами на море. Они запомнились ему мягкими и искренними людьми, и эти качества читались в безучастных, на первый взгляд, черных глазах молодого гостя.
– Так вы прежде уже встречали этих молодых дам? – говорил Люсьен, опуская в свой кофе очередной кусочек сахара.
– Да, – отвечал Валентин, приподнимая брови. – Как ни странно, я случайно познакомился с ними тогда же, когда впервые встретился с вами. Не знаю, помните ли вы тот день. Мы все отдыхали на море, пять или шесть лет назад. Они были так любезны, что пригласили меня на вечер. Я танцевал с одной из них, старшей, и сполна заразил ее собственной неуклюжестью и стеснительностью. Там был еще, помнится, один весьма странный тип, немало меня повеселивший. Никогда не думал, что встречусь с ними снова. Очень милые люди, мне показалось.
– Очаровательные! – сладко промурлыкал Люсьен. – О да… Тешу себя надеждой, что они так хороши, как вы о них говорите. – Впрочем, на его лице было написано, что сам он не слишком в это верит.
– Добропорядочных девушек встретить куда проще, чем добропорядочных молодых людей, – заметил Валентин, не вынимая рук из карманов. – Молодой человек, как правило, прячет свои добродетели внутри, а у девушек они каким-то образом просвечивают насквозь. Не знаю, как выразиться яснее. Такие девушки потрясают душу и делают тебя чище. Мы сменили копья на зонтики, но иногда… Во всяком случае, куда лучше преклоняться перед отважными и добродетельными женщинами, с ними можно подружиться, не прибегая к глупому и унизительному для обеих сторон флирту. Мне кажется, такие женщины способны… способны преображать мужчин – и вдохновлять их на… на славные дела.
Как все поэты, а ведь он был одним из них, в повседневной жизни Валентин привык не заботиться о ясности выражения.
Люсьен слушал в некотором замешательстве, поскольку сказанное явно противоречило его умозаключениям. Он слегка поморщился, изображая учтивое несогласие.
– Они, конечно, добродетельные, – сказал он с усмешкой, – весьма даже… но все же… не верх совершенства, что бы вы ни говорили… не те прелестницы, каких мы с вами привыкли встречать в свете. В них совсем нет блеска. Не стоит ожидать от них особенной бойкости, если вы понимаете, о чем я. Они, безусловно, очень добропорядочны… Но они, видите ли, слишком много сидят дома; слишком привязаны друг к другу и так далее. Разумеется, я их очень люблю, но когда я ищу сильных впечатлений… понимаете ли, это совсем другое, – закончил он с прежней, ничего не выражающей усмешкой и глотнул кофе.
Валентин сидел, поигрывая чайной ложечкой.