Утешный мир Мурашова Екатерина
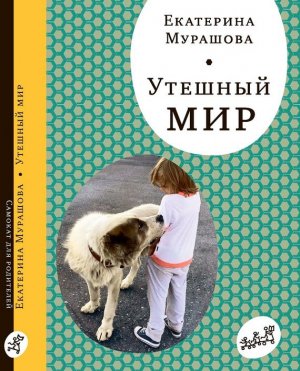
– Ну вот, ты сам и ответил на свой вопрос.
* * *
В прошлом году совсем еще молодой учитель Эдуард стал «Учителем года» у нас в Питере – я совершенно неожиданно (и очень приятно) для себя увидела на баннере на автобусной остановке его портрет. Я им очень горжусь и желаю ему и его семье всяческих успехов.
Человек будущего
– Я ребенка пока не привела, – сообщила женщина. – Хотела сначала одна с вами поговорить. Потому что при нем вы бы мне не поверили. Да и так не поверите, наверное, – интонация у нее была напористо-усталая. Именно такая. Устала напирать? А почему не перестанет?
– Я постараюсь поверить, – искренне пообещала я. – А сколько лет ребенку?
– Пятнадцать уже, в том-то и дело. Решать что-то надо.
«Ага», – подумала я и быстро смоделировала: балбес, за которого всегда всё решали и делали, учиться не любит и не хочет, из школы гонят, интересов, кроме компьютера и друзей, никаких, теперь спохватились, наезжают на него – решай, решай. А что он может решить? Почему не поверю в его присутствии? Наверное, парень – обаяшка, маменькины сынки часто такими вырастают, будет пускать пыль в глаза, выставлять себя овечкой, окруженной злыми волками, которые не понимают его тонкую подростковую душу.
– Рассказывайте, – велела я.
– В школе мы никогда не учились, – разом опрокинула все мои построения женщина. – Ни в настоящей, ни в коррекционной.
Парень – глубокий инвалид? Понятна ее усталость, но тогда чему я не поверю, его увидев? Тотальная интеллектуальная неспособность учиться в пятнадцать лет обычно очевидна. Соматический диагноз? Такой тяжести? И что же решать теперь?
– Так. А почему?
– Костя всегда был неспособен справиться с элементарными дисциплинарными требованиями. Грубо говоря: когда все шли направо, он шел налево. Мы начали даже не с детского садика, а с яслей – я хотела выйти на работу, которую очень любила. Все специалисты нам тогда говорили: погодите, дозреет. Теперь уже совершенно понятно, что все они ошибались.
– То есть соматически Костя с самого начала и по сегодняшний день – здоров?
– В общем, да. То есть он болел, конечно, – простудой, ветрянкой, ушами, еще чем-то, но совершенно как все дети.
– Так. А с психическим развитием что?
– По возрасту, в том-то и дело. Он заговорил к двум годам. В пять научился читать. Много лет любил читать детские энциклопедии. Играл в сложные ролевые игры. В шесть начал писать печатными буквами – сочинял какие-то истории, записывал их и сам иллюстрировал.
Я все меньше понимала в происходящем. Разновидность аутизма? Шизофрения?
– А как у Кости с общением?
– Нормально. У него никогда не было близких друзей (да и откуда бы взялись?), но есть приятели во дворе и на даче, он легко сходится с людьми, может знакомиться на улицах, в поездках, любит слушать чужие рассказы и сам неплохой рассказчик…
Теперь у меня уже практически не осталось гипотез. Неужели она оказалась настолько глупа, что абсолютно пошла на поводу у ранней, примитивнейшей программы «установления границ» и позволила ей исковеркать жизнь семьи и совершенно нормального парнишки?! Но где же все это время были окружающие ее люди, родственники, педагоги, специалисты?!
– А теперь расскажите подробнее, что с Костей не так и что вы по этому поводу предпринимали.
– Всё! – сказала она. – По обоим пунктам.
Закрыла лицо руками, оперлась локтями о колени. Посидела так с полминуты, собираясь с силами. Потом стала рассказывать.
С самого раннего детства мальчишка выслушивал, явно понимал, но не выполнял ничьи указания. Причем вставал в отказ далеко не всегда: например, он никогда не пытался выбежать на проезжую часть, или утопиться в речке, или выпрыгнуть из окна на четвертом этаже. Большую часть времени почти без капризов ложился спать. Но иногда его было совсем не уложить (спать не хотел) и тогда, после многочасовых сражений, приходилось оставлять в покое – он мирно играл почти до утра в ванной или на кухне. Под утро мог пойти и сам лечь в кровать или заснуть в ванной, свив там гнездо из ковриков и курток. С едой было сложнее. Костя чуть ли не с рождения и посейчас ест странные вещи. В раннем детстве – землю, опилки, улиток вместе с домиками. Любые лекарства (после двух тяжелых отравлений пришлось убрать их в сейф). Потом мог выдавить лимон в сахарницу и есть ложкой. Любит пельмени со сгущенкой. Почти никогда не ел за столом, уносит миску в норку, как зверушка. Обычную еду тоже ест, но иногда день или даже два подряд голодает, только пьет. Судя по всему, совершенно не идеологически, просто не хочет есть. Все вербальные социальные нормы усвоил к двум годам: спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания, можно взять? На площадке не отбирал игрушки, охотно делился своими, сам не задирался, но если кто-то лез, вполне мог дать сдачи. В ясли пошел с интересом: много детей, новых игрушек. Через месяц воспитательница сказала: забирайте, он еще не созрел, не ест, не спит, не играет, меня не слышит, уходит из группы, с площадки, если пробуешь его заставить, орет так, что все ясли сбегаются. Забрали, поверили, что не созрел. Было еще три попытки – в три, в пять и в шесть лет, перед школой. С тем же результатом. Обращались к врачам, к психологам. Они сначала говорили: бывают несадиковские дети. Потом: надо настоять, привыкнет. Потом прописывали глицин, пантогам и далее по нарастающей. Школа ничего не изменила. Костя иногда сидел, работал на уроке, потом вставал, уходил из класса, мог сесть или лечь в угол, полить цветок (потом объяснял: ему показалось, что он его зовет и просит пить). На все вопросы учителей и родителей отвечал: а зачем? Я не хочу. В конце концов его попросили из школы забрать. Медико-психологическая комиссия рекомендовала класс компенсирующего обучения (Костя сначала весело отвечал на вопросы, а потом соскучился и перестал, причем вечером дома в лицах пересказал всё с вопросами и ответами, в том числе и теми, на которые не ответил). Но и там дело пошло не лучше, хотя Костя признал новых одноклассников «забавными» (у него нигде не было проблем с общением) и смешно их передразнивал. Пробовали частную школу и домашнее обучение – все едино. Учитель приходил, а Костя вытягивался на крышке пианино и лежал, отвернувшись носом к стене. Иногда, впрочем, с удовольствием занимался. Но так же нельзя! В 12 лет Костя оказался в психиатрической лечебнице – на обследовании. Никакого диагноза ему так и не поставили, но после этого эпизода его характер резко изменился: он стал угрюмым, замкнутым, агрессивным и с тех пор категорически, наотрез отказывался ходить к психологам и психиатрам.
– А соматически-то вы его обследовали? – спросила я. – Может, это обменное что-то? С этой его едой?
– Сто раз. Каждый год делаем томограмму, сдаем анализы, проверяем еще что-то… Ничего!
– И на это, в отличие от беседы с психологом, он соглашается?
– Да, как ни странно, – мать как будто бы сама удивилась. – Ни разу не отказался.
– Но что же он делает-то целыми днями? Компьютерные игры?
– Нет, он как раз в игры не играет. Читает много. Гуляет, один или сприятелями. Иногда где-то разово подрабатывает в самых разных местах. На даче все лето то и дело ходил по участкам, спрашивал, кому что надо: там много пенсионеров, то одно, то другое… Деньги мне отдавал – копить не умеет. По дому помогает. Иногда просто в окно смотрит. А тут недавно, четыре месяца… я даже не знаю, как сказать…
– Говорите, как есть.
– У нас на лестнице бабушка была, всегда любила с Костей беседовать. И вот у нее инсульт и с головой… Нельзя оставить, надо сидеть, дочь из сил выбивается, наняла сиделку, а бабка ее клюкой по спине, в общем ужас, не дай бог никому. Я рассказала дома, Костя молча встал, спустился по лестнице, позвонил в дверь и говорит дочери: я буду сидеть, пока вы на работе. Женщина обомлела: да как же, мальчик… там лекарства… и памперсы… Он говорит: а посмотрим… Четыре месяца сидел пять раз в неделю, пока бабушка не умерла.
– Костю сюда, – сказала я, а сама подумала: он же к психологам не ходит.
* * *
– Я ваши книжки читал. Сначала для детей, а потом для родителей, – улыбнулся Костя. – Забавные. («Как одноклассники в коррекционной школе? – подумала я.) Потому и пришел. Вы, наверное, думаете: что я такое? Я тоже об этом сто раз думал – вы же понимаете, мне интересно. Я решил так: я – человек будущего. Сейчас уже ведь почти все могут делать машины. Кто-то их будет изобретать, чинить, да. А остальные? Зачем сидеть по пятнадцать лет за партами? Научиться можно и через книги, и через компьютер, если нужно. Вам мама сказала? Я так на пианино научился играть и пейзажи рисовать. Плохо, конечно, для себя. Но мне нравится. А так – уже скоро – все будут просто жить и радовать друг друга: можно сказать – помогать, можно сказать – работать. Еще сажать цветы и деревья. Так будет. Но вы не беспокойтесь, я и сейчас не пропаду. У меня руки, ноги, язык на месте, а работы в мире много: кому-то надо, чтобы его просто выслушали, кому-то – лекарство подать…
* * *
Он приходил и рассказывал. Иногда интересно, ибо, с детства не занятый муравьиностью нашей жизни, он получился очень наблюдательным. Его все пытались «наставить на путь истинный», а я – нет. Он расцветал. Я слушала его наивные разглагольствования и умозаключения, отвечала, рассказывала сама и испытывала некоторую неловкость, потому что исподтишка втиралась к нему в доверие.
Когда решила, что уже достаточно втерлась, спросила:
– Почему ты ходишь делать томограммы и сдавать анализы? Ты – человек будущего, ты решил. Но что-то еще тебе надо для себя объяснить. То, о чем не должны узнать психиатры. Что?
Он посмотрел мне в глаза и решился. Ему было всего пятнадцать, он был сильный и закаленный (всю жизнь шел наперекор течению), но ему хотелось хоть кому-нибудь рассказать.
– Я иногда просыпаюсь или выхожу из дома – и вдруг не помню, кто я и что здесь делаю.
– Когда началось? Как часто? Сколько длится? Помнишь ли в этот момент, как называются предметы вокруг тебя? С годами – чаще или реже?
– Первый раз помню лет в пять. Может, было и раньше. Не часто, раз, два в год. Длится минуту или меньше. Предметы – дерево, дом – помню. Не чаще, закономерности вообще нет, может долго не быть, потом два раза за один месяц. После психушки было три раза почти подряд.
– Еще? Должно быть что-то еще. Думай. В школе?
– Да. Я не всегда понимаю текст. И картинки. Они вдруг становятся как иностранные или с другой планеты. В школе я очень пугался. Теперь привык: просто закрываю книжку, отхожу от экрана, – потом опять всё нормально. Это чаще в начале. Если долго читаешь, такого не бывает.
– Почему не сказал?
– Маленький говорил – не понимали или не верили. А потом – боялся: я же видел, меня все время проверяют – сумасшедший или нет. А от таблеток мне знаете как плохо всегда становилось… Но любопытно все-таки узнать… Может, я однажды все навсегда забуду или упаду и умру…
* * *
– Я не врач, – сказала я матери. – Но очень возможно, что это такие транзиторные нарушения кровообращения, связанные с особенностями работы вегетативной нервной системы. Может быть, где-то даже есть описание этого: синдром Вольта-Графта-Сикорского или что-нибудь в этом роде. Его странное пищевое поведение – видимо, организм ищет возможности компенсации через биохимию. Как с личностью с ним, при таком анамнезе, все очень даже в порядке – я была не права во всех своих предположениях, а вы молодцы, что не ломали. Он по-своему очень ответственный, и его нужно ориентировать на сдельную работу, связанную с общением с людьми. Аттестат за среднюю школу придется на всякий случай купить.
* * *
– Лечить это вряд ли можно, – сказала я Косте. – Во всяком случае, на современном этапе развития нашей отечественной медицины. Но поскольку это всяко связано с нервами и кровью, то возможна профилактика – именно чтобы уменьшить шансы на «забыл, упал и умер». Я думаю, всё то, что обычно рекомендуют для профилактики инфарктов и инсультов: не жрать соленого и острого, дозированная, но регулярная физическая нагрузка, не перегреваться на солнце, гулять, плавать, всё такое – сам можешь в инете посмотреть.
– Мои дети это унаследуют? – серьезно спросил Костя, и я поняла, что для него это действительно важно. Он думает о своих детях.
– Не знаю, – честно ответила я.
– Ладно… – он видимо поколебался и все-таки спросил: – А у вас… вы еще хоть одного такого, как я, лечили? Или, может, когда учились в институте, на лекциях проходили?
– Нет (мне очень хотелось соврать, но это уже была медицинская этика, которую я, в общем-то, стараюсь соблюдать). У себя в кабинете и на лекциях – ни разу. Но, знаешь, – я улыбнулась, – я была в Индии; так вот, мне кажется, что там по ней очень много таких вот «людей будущего» бродит. И раньше бродило… Они туда прямо стекаются со всего мира на «свет с Востока»…
– Ага, спасибо, – Костя приободрился. – Индия, да. Я всегда хотел там побывать.
– Побывай обязательно, – от души посоветовала я. – Тебе там наверняка понравится.
О ранней гениальности
– Нашей дочери 19 лет, и она с нами не пришла, но мы надеемся, что вы нас примете. Это очень важно, потому что ей угрожает смертельная опасность.
Уже не молодые мужчина и женщина, говорящие едва ли не хором и многозначительно переглядывающиеся, показались мне смутно знакомыми. Были у меня раньше? Ребенка, девочку, я вспомнить не сумела.
– Э-э-э… Но вы уверены, что именно я… Смертельная опасность? Это медицинская или социальная проблема?
«Может, удастся послать их на обследование? – подумала я. – Или в милицию?»
– Психологическая! Она уже два раза пыталась покончить с собой.
«18 лет – самое время для манифестации шизофрении!»
– У психиатра были?
– У трех психиатров. Никто ничего не нашел, все прописали разные таблетки. Но она их не принимает – говорит, что дуреет от них. И не хочет больше с психиатрами разговаривать.
– А со мной будет разговаривать? Но почему?
– Нет, с вами она тоже встречаться отказалась. Сказала: а уж к ней тем более не пойду. Как мы ее ни уговаривали.
– Замечательно… – я окончательно перестала что-либо понимать. – А откуда вы вообще на мою голову свалились?
– Мы были у вас много лет назад. Вы нас, наверное, не помните… – Выражение лиц у обоих родителей при этих словах одинаковое, укоризненно-недоумевающее: «Разве можно забыть нашу девочку?!»
– Не помню. Но ваша дочь, судя по всему, меня помнит, и ей здесь в прошлый раз категорически не понравилось…
– Именно так. Мы обратились с жалобой на тики. А вы сказали, чтобы мы прекратили ломать комедию, выпустили нашу дочь во двор (это была вторая половина девяностых) и что таких, как она, – девять из десяти… Ей и, признаемся, нам самим было странно это слышать…
– Давайте с самого начала, – вздохнула я.
Удивительно, но я их так и не вспомнила. Действительно ли они у меня были? Или это разновидность манипуляции? Хотя, впрочем, рекомендации, якобы полученные ими когда-то, и вправду похожи на утрированно мои…
Девочку звали Луиза. Мама много лет работает в Эрмитаже научным сотрудником; папа – журналист, кинокритик. Луиза с трех лет писала стихи – удивительно взрослые, визионерские. И сама же их иллюстрировала. В пять лет у нее состоялась первая персональная выставка, имевшая успех. Об удивительной девочке писали буквально все газеты и журналы – от «желтых» до серьезных и специализированных. Луиза неоднократно и неизменно успешно выступала по радио и по телевизору. Внешне она была не очень красива, но безусловно оригинальна – большие рот и нос, темные глаза, пышные, вьющиеся волосы. Кроме стихов и картин – ранняя детская одаренность: в три года научилась читать, к пяти годам сама прочла всю детскую классику, в шесть увлеклась Толкиеном и Конан Дойлем.
– Во сколько же лет я ее видела?
– В восемь. Луиза училась уже в пятом классе по индивидуальной программе. У нее начались тики…
– И что же?..
– Вы спросили у нее, откуда она берет темы для стихов (она писала про любовь, про Вселенную, про смерть). Она ответила: они сами приходят. Еще спросили про увлечения и друзей. Она показала рисунки и фотографии, где она снята с разными известными людьми. Вы сказали нам, что ее творчество – это проекция наших амбиций, и посоветовали немедленно перестать делать из ребенка экспонат передвижного зверинца. И еще, что ранняя детская одаренность в девяти случаев из десяти исчезает без следа к возрасту старших подростков, и мы уже сейчас должны думать о том, что случится с нашей дочерью, когда она станет «как все». Мы вас не поняли. Не захотели услышать. Разозлились… И дочь тоже. Когда мы вышли, Луиза сказала: наверное, она просто завидует. Мне или, скорее, вам…
– Она сейчас пишет стихи? Рисует?
– Да. Но стихи для девятнадцатилетней девушки самые обыкновенные, разве что излишне мрачные. А на ее картинах – всего три цвета: черный, лиловый, коричневый…
– Скажите Луизе, что я знаю, как работают с завистью. И в любом случае желаю ей успеха в ее попытках наконец-то взять свою жизнь в свои руки.
– В любом случае? – женщина содрогнулась.
– В любом! – подтвердила я. – И пусть почитает что-нибудь про Ариадну Эфрон.
* * *
– Вы действительно считаете, что мне остается только повеситься?
– А ты разве вешалась? – удивилась я. – Я не успела расспросить твоих родителей, но почему-то представились аккуратненькие такие таблетки или уж уютная теплая ванна с кровавой водой…
– Вы издеваетесь, как и тогда, да?
– И не думаю.
– Как вы узнали, что я завидую?
– Ты всегда завидовала. Этот механизм называется проекция. Родители проецировали на тебя. Ты – на меня. Очень просто. Что ты слышала о себе в детстве чаще всего?
– «Луиза – не как все».
– Правильно. А чего тебе хотелось?
– Мне не хотелось быть «как все»! Я ненавижу толпу, стадо, стаю!
– А ты их когда-нибудь видела?
Луиза задумалась.
– По телевизору?
– Это не считается. Толпа – страшноватый феномен, спору нет, но того, кто вообще никогда не бывал «своим» в группе, в стае, тянет туда почти неудержимо. Просто биология: ведь мы социальные существа, а наша уникальная и прочая трам-пам-пам личность – не такой уж древний феномен в эволюционном плане. Элевсинские мистерии. Представление в Колизее. Первомайские демонстрации. Рок-концерты. Митинги солидарности или протеста. Там, внутри, существует особый, древний и уникальный род комфорта для человека. Но для тебя это невозможно.
– Почему это?
– Потому что слишком на многое тебе придется решиться. Сжечь все поеденные молью «вундеркиндские» одежки. Остаться голой. Без поддержки родителей и психиатров. Без тыла за спиной, без «своих», которых еще предстоит отыскать. Шагнуть в опасное, трудное, неизвестное. Хватит ли у тебя сил? Ведь ты, в сущности, обычная, к тому же сильно избалованная в детстве вниманием…
– Хватит меня попрекать моим детством! Я что, кого-то просила?!
– Нет, разумеется, не просила. Но что было, то было… Хочешь кого-то в чем-то обвинить? Или послать меня подальше?
– Хочу – и того, и другого, – впервые с начала нашей встречи Луиза взглянула мне прямо в глаза. – Но не буду. А где вообще ищут этих ваших «своих»? Мне что, идти на рок-концерт?!
– Я бы посоветовала тебе поехать на Кубу. Но, к сожалению, Фидель Кастро состарился и больше не выступает перед народом, как раньше. Говорят, в молодости он мог держать толпу в течение шести часов и все слушатели находились просто в коллективном экстазе. У нас подобным талантом обладали Троцкий и Керенский, у немцев – Гитлер и Геббельс…
– Да идите вы…
– О! Знаешь, ведь на самом деле я тебе просто завидую. Если не повесишься прямо сейчас, у тебя впереди столько всего интересного…
– Посмотрим! – с вызовом сказала Луиза.
– Успехов! – откликнулась я.
* * *
Уже поставив точку в этом материале, я ради интереса набрала фамилию Луизы в интернете и тут же наткнулась на ее стихи на каком-то литературном сайте. Стихи были просто вызывающе банальны и потому мне понравились:
- К рассвету свечка плакать устает,
- Чернеет в сад раскрытое окно,
- И девочка, на звезды щурясь, пьет
- За тех, кто в море, горькое вино…
«Кажется, она все же нашла «своих»», – с удовольствием подумала я.
Литературная семья
– Вы писатель?
– Нет! – твердо ответила я, глядя прямо на мою посетительницу. – Я возрастной психолог. Можно еще сказать «семейный психолог».
– Но вы же иногда пишете книжки! – настаивала она.
– Это мое хобби, – сообщила я. – Ну вот как некоторые в свободное время спичечные этикетки собирают или на горных лыжах катаются.
У девочки были гладкие, обесцвеченные какой-то современной разновидностью перекиси водорода волосы, губы в помаде цвета пионерского галстука и аккуратно прорисованные обводкой маленькие, чуть раскосые глазки.
Я ее элементарно боялась. Боялась, что сейчас она достанет из сумки пачку листов и представит мне свои рассказы или, еще того хуже, стихи. Что я тогда буду делать? Ведь мне же придется их читать, а потом еще и говорить о них с автором!
Последняя по счету юная поэтесса, которая ко мне приходила в длинной черной юбке и черных шнурованных ботинках, писала исключительно о философии и эстетике суицида (с ее точки зрения, неизбежного для любого думающего и чувствующего человека). Из всего ее творческого наследия (лежащего где-то у меня в шкафу) мне запомнились две строчки:
- Пойду и выброшусь в окошко,
- По мне заплачет только кошка…
– Психолог я! Работаю с разными семейными проблемами, – повторила я и сама услышала в своем голосе умоляющие нотки.
– Что-то не так? – с милой проницательностью спросила девочка.
Я решила быть честной.
– Ага, – сказала я. – Я боюсь, что ты принесла мне какие-нибудь свои рассказы или стихи, а я совершенно ничего в подростковом творчестве, да и вообще в стихах не понимаю. Как взрослому человеку они обычно кажутся мне глуповатыми, но как психолог я должна буду искать в них какие-то достоинства, чтобы случайно не обрушить твою самооценку…
– Да нет же, не бойтесь! – рассмеялась девочка (из-за яркой помады ее крупные зубы казались желтоватыми). – Я совсем не об этом пришла…
– Правда? Вот хорошо… – я вздохнула облегчением, но тут же подозрительно поинтересовалась. – А чего тогда про писателей спрашиваешь?
– Да дело в том, что у меня очень литературная семья, и меня это в последнее время прямо вот сильно достает…
– Вот как? – оживилась я. – Это уже по моей части. Давай, расскажи подробнее.
Девочку звали Варвара, и ей недавно исполнилось 15 лет. У нее была полная и вполне благополучная семья: мама, папа, бабушка, два младших брата-погодка да еще взрослая сводная сестра Лиля (от первого брака отца), которая часто приходила в гости к отцу и бабушке со своим маленьким сыном и охотно общалась с Варей и братьями.
Бабушка писала мемуары. Она помнила войну и описывала свое детство в коммунальной квартире очень подробно. Бабушка говорила, что тогда в жизни людей было очень много радости, несмотря на все трудности. А теперь она (радость) практически утрачена из-за избытка всего. Варя, в общем-то, верила бабушке, но когда она по вечерам читала внукам написанные ею куски, у девочки почему-то начинали болеть сначала зубы, а потом голова. У бабушки была интересная теория о том, зачем человеку дана старость. Якобы в это время человек должен пересмотреть всю прожитую им раньше жизнь и не только осмыслить, но и подредактировать ее, убрать скучное и второстепенное, выделить и усилить наиболее значимые (красивые, драматичные и т. д.) моменты, выровнять сюжет и как бы превратить прожитую им жизнь в законченное художественное произведение. Это вообще такая главная задача у каждого человека – сделать свою жизнь законченным увлекательным романом с трагедиями, комедиями, находками, разочарованиями и всеми прочими делами. Мемуары помогали бабушке выполнить эту важнейшую миссию.
– Понимаете, бабушка, хотя и атеистка (она раньше коммунисткой была, у нее и сейчас партбилет в коробочке лежит), – объясняла мне Варя, – как будто бы думает, что потом вот это ее произведение – типа подредактированную в роман жизнь – надо будет куда-то кому-то сдать, как сочинение в конце урока.
– Очень интересно, – признала я. – А оценки ставить будут?
– Не знаю, – вздохнула Варя. – Но, кажется, все-таки нет. Кажется, бабушкино Оно с помощью нас просто информацию о мире собирает. Ну, или перестраивает что-то по ходу дела.
Папа Вари считает, что бабушка со своими теориями слегка выжила из ума. Он подполковник, сейчас демобилизовался, работает для заработка в консалтинговой фирме, делающей неизвестно что (папино определение), а для души пишет романы в серию издательства «Эксмо» «Спецназ ГРУ – надежда Отечества».
– Твой папа – крутой! – искренне улыбнулась я.
– Ничего подобного, – вздохнула Варя. – Его в школе били, и он всего боится: когда к нам водопроводчики приходят, с ними мама или бабушка разговаривают, а папа в дальней комнате прячется. Он и в военное училище-то пошел, чтобы бороться со своими комплексами. Увы, не поборол. Им сначала бабушка командовала, потом первая жена, теперь – моя мама… Про его романы понятно? Я честно старалась, но ни одного до конца дочитать не смогла. Женька (старший из братьев) один («Смерть «Черной анаконды»») все-таки прочитал, теперь он у папы любимчик.
Мама Вари ведет блог в интернете. Там она рассказывает, как быть хорошей матерью троих детей. Подробно описывает, как правильно готовить обед на большую семью, как определить детей в правильные кружки и выбрать правильную школу, как их занять, чтобы они не сидели постоянно за компьютером, как лечить аллергию, как приучать детей к работе по дому и вообще к труду, как выкроить время на поход с мужем в кино и посещение косметического салона, как строить отношения со свекровью, как разговаривать с детьми о важном…
– Я с ней теперь вообще ни о чем говорить не могу и не хочу! – раздраженно воскликнула Варя. – Бабушка это называет «утром в газете, вечером в куплете». Я пробовала скандалить: не хочу, чтобы ты делала из нас пряничную семейку на потеху публике! Не хочу, чтобы то, что я тебе рассказала о своей жизни, о своих мыслях и чувствах, какие-то чужие люди обсуждали! Тут меня Женька и даже папа поддержали. Но маме это все равно. Она говорит: никаких интимных подробностей я не раскрываю. Но вы же сами видите: то, что я делаю, нужно людям, у меня семьсот подписчиков!
– Тоже, как и бабушка, «сдает» свою подредактированную жизнь, как сочинение? Только прямо в процессе, не дожидаясь ее окончания?
– Получается, вроде того, – ухмыльнулась Варя.
Варина сводная сестра пишет рассказы, в которых много мартини, акварельных сумерек, слов, написанных пальцем на запотевшем стекле, любви, разочарования и тоненьких пахитосок.
– У нее муж – шофер, а сама она – парикмахер в салоне в Купчине, – объяснила Варя. – Они с бабушкой очень дружат. Бабушка ее рассказы хвалит, но говорит, что надо больше реализма. А Лиля говорит, что, если она будет писать о перхоти своих клиентов, о приготовлении борща для мужа или как у ребенка сопельки клизмочкой отсасывать, как моя мама, так тут она сразу и рехнется. Но на самом деле она маме завидует, потому что у нее много подписчиков, а Лилины рассказы почти никто не читает, и только три отзыва написали, да и то один ругательный.
– И что ж мы имеем с гуся? – спросила я, когда обсуждение литературной семьи было закончено.
– Да я вот прямо сейчас поняла, что я сама, наверное, такая же, как они все, – вздохнула Варя.
– Ну, это невозможно хотя бы потому, что они все разные, – возразила я.
– Да, конечно. Но я, кажется, тоже думаю, что «сочинение» придется «сдавать». И мне страшно и неуютно. Может, мне в церковь сходить?
– Сходи, если хочется. Но, может быть, на старте лучше подумать о том, что написать в сочинении, чтобы потом, в старости, меньше редактировать пришлось?
– Да! Да! Мне уже пятнадцать, но я, представляете, вот совсем-совсем не понимаю, кем я хочу быть, чем заниматься!
Дальше у нас с Варей была совершенно нормальная и достаточно конструктивная беседа по профориентации, и в конце ее мы даже наметили кое-какие конкретные шаги.
Уже совсем уходя, девушка вдруг обернулась и лукаво блеснула накрашенными глазками:
– А ведь вы были правы!
– Ну разумеется! Но в чем именно я была права на этот раз?
– Я принесла стихи и два рассказа. Вот они, здесь, в сумке… Не пугайтесь, я их вам не оставлю.
– Но, может быть, вдруг – чудо?! – тоном булгаковского Мастера воскликнула я. – Скажи, Варя, у тебя хорошие стихи? О чем они?
– Плохие. В основном о том, что жизнь бессмысленна, а любовь всегда умирает, – улыбнулась девушка. – Все ж таки я из литературной семьи… Но я правда рада, что мы с вами поговорили.
– Я тоже, – улыбнулась в ответ я.
Я и вправду была рада. А над теорией Вариной бабушки думала до прихода следующего клиента и еще немного по дороге домой. Мы все пишем свое уникальное сочинение, редактируем сюжет в своих воспоминаниях, а потом его сдаем в общую копилку?
Странная история
Эдику уже исполнилось тринадцать лет, но выглядел он лет на одиннадцать максимум. Причем и на здорового одиннадцатилетнего мальчика он тоже походил не слишком. Дефицит роста и веса дополнялся темными кругами вокруг глаз, жидкими волосиками мышиного цвета, красноватыми белками (как будто Эдик недавно плакал) и желтоватой коростой на коже между пальцами, которую он то и дело почесывал коротко подстриженными ногтями.
С малоутешительными результатами моих наблюдений были явно согласны и две толстенные медицинские карточки, которые мама Эдика привычно достала из сумки и выложила на угол моего стола.
– Вы мне можете как-нибудь коротенько, своими словами вот это, – я кивнула на карточки, – пересказать?.. Если это можно при ребенке, конечно, – быстро спохватилась я. Обычно я не называю детьми тринадцатилетних подростков, но Эдика хотелось назвать именно так.
– Можно, ничего страшного. Он привык уже, – тяжело вздохнула женщина.
История, которую мне рассказали, была откровенно странной. Эдик родился совершенно здоровым в полной, благополучной семье. Мама, папа, которые очень хотели сына, бабушки и дедушки с обеих сторон, есть старшая сестра на семь лет старше Эдика, сейчас она учится в институте на экономиста. На первом году жизни все специалисты (включая невролога) планово осматривали новорожденного, но не находили абсолютно никаких отклонений. Развивался по возрасту, сел, встал, пошел, заговорил совершенно среднестатистически. Ел хорошо, в еде был непривередлив. И мать, и отец – люди относительно некрупные, но рост и вес Эдика в то время также укладывался в медицинские возрастные таблицы.
Так было до трех лет. В три года Эдика, как и его сестру когда-то, отдали в садик. Педиатр, наблюдавший ребенка с рождения, не имел никаких возражений, мама хотела на работу. В саду Эдику сразу не понравилось. Он там не столько плакал, сколько скучал. С детьми почти не общался. В игрушки тоже особо не играл. Когда спрашивали почему, отвечал странно: они грязные. И начал болеть простудными заболеваниями и всеми детскими инфекциями почти подряд. Врач и воспитатели сказали родителям: обычное дело, адаптация, иммунитет приспосабливается. Со временем болезни и вправду стали реже. Тогда же у Эдика обнаружились музыкальные способности: он все время негромко что-то напевал и мог воспроизвести практически любую услышанную мелодию – голосом или на любом детском музыкальном инструменте, от ксилофона до глиняной свистульки.
– Способности надо развивать, мальчика надо учить, – было решено на семейном совете. К преподавателю, а потом и в подготовительную группу музыкальной школы Эдик ходил с удовольствием – с садиком не сравнить. Успехи его можно было назвать, пожалуй что, выдающимися. И именно в музыкальной школе кто-то из педагогов впервые сказал:
– Талантливый малыш, спору нет. Но что-то он у вас бледненький какой-то все время. И жилочки все просвечивают. И не растет как будто, другие-то вон как за год вымахали. Со здоровьем-то у вас как, все в порядке?
– Да все у нас в порядке! – привычно ответили родители, но, присмотревшись как следует, вдруг усомнились.
Эдик действительно не прибавлял вес и почти не рос. Его аппетит стал очень прихотливым, и часто он и вовсе отказывался от еды, предпочитая выпить стакан сока. Он быстро уставал, почти всегда, когда не занимался музыкой, выглядел слегка сонным и заторможенным. Разговаривал тихим голосом, не играл в игрушки, часто улыбался, но никто не смог вспомнить, когда последний раз слышал его смех.
– Обследоваться по полной программе! Немедленно! – сказал педиатр, выписывая пять разных анализов крови. (Все участники событий понимали, что именно он предположил в первую очередь, и, бледные как полотно, ждали результатов. Предположение, по счастью, не подтвердилось.)
Эдика немедленно забрали из садика. Но это уже ничего не решало.
Обследовались везде, где только можно. Периодически что-то находили и лечили. Гнали лямблий. Поднимали гемоглобин. Исправляли нечто с шейными позвонками. Что-то там делали с функцией щитовидной железы.
Но все это ничего не меняло и не решало основной проблемы. Точнее всех ее сформулировала Онуфриевна, бабушка, соседка во дворе.
– Мальчишка-то у Николаевых, – сказала она как-то, – уж какой хороший, и тихий, и вежливый, и со скрипочкой ходит, а вот незадача – все чахнет и чахнет…
Эдик именно чах. Точнее не скажешь.
У него плохо работали абсолютно все системы организма: он часто не мог опорожнить кишечник без клизмы, задыхался от подъема на третий этаж, страдал близорукостью и дальнозоркостью одновременно, практически не умел прыгать на одной ноге, нечасто, но регулярно писался по ночам (энурез впервые появился после пяти лет), цеплял на себя любую пролетающую мимо инфекцию, страдал хроническим холециститом и прочая, прочая, прочая…
При всем при этом он умудрялся урывками учиться в частной гимназии (почти без троек!) и быть гордостью и надеждой своей районной музыкальной школы. «Вам бы с вашими данными надо в школу при консерватории!» – говорили педагоги. Но все понимали, что это нереально.
Один раз консультировались у экстрасенса, пять лет лечились гомеопатией.
Кто-то из врачей, в очередной раз отчаявшись отыскать скрытую инфекцию в измученном Эдикином организме, сказал родителям:
– Тут, наверное, психологическая проблема. Ищите психолога!
Я оказалась психологом номер четыре. Первый был, видимо, психоаналитического направления. После того как он спросил Эдика, видел ли он своих родителей голыми, мальчик отказался к нему ходить. Второй психолог Эдику, напротив, очень понравился. Они все время анализировали сны (Эдик видел много снов, ярких и красочных), и это было «прикольно» (судя по отрывкам воспроизведенных матерью трактовок, психолог был гештальтистом), но, к сожалению, весьма накладно финансово и за полгода не дало никаких результатов. Кто был третьим, я уже подзабыла и врать не буду. Четвертой оказалась я.
– Я уже сама на пределе и на препаратах, – призналась мать. – А дочь просто ждет не дождется, когда выйдет замуж (у нее есть жених) и уйдет от нас, говорит это открытым текстом: я вас всех люблю, но у вас тут такая тяжелая обстановка, как будто Эдька уже умер… Помогите нам, пожалуйста.
Гипотезу «больной ребенок как дело жизни матери» я отбросила почти сразу. Никаких скрытых семейных проблем и скелетов в шкафах тож не обнаружилось (кроме матери и Эдика, я беседовала еще сего отцом и сестрой). Все рассказывали одно и то же и одинаково разводили руками: готовы всё что угодно сделать, лишь бы ему помочь, но – что?
У ног Эдика всегда лежал скрипичный футляр. Он буквально притягивал мой взгляд.
– Это первое, что всем психологам приходит в голову, – грустно улыбнулась мать. – Музыкальная школа, перенапряжение, все такое. Но его никто никогда не заставлял. Он сам выбрал скрипку. Если мы отнимем у него музыку, что останется-то?
– Как ее зовут? – спросила я Эдика.
– Луиза, – моментально ответил он и взглянул на меня с мимолетным интересом. Вообще-то я ему не нравилась. Точнее, ему было со мной просто скучно. Я задавала те же вопросы, которые он слышал уже сто раз, и совсем не интересовалась его снами.
– Я не знаю, что это и откуда. И что с этим делать, – в конце концов честно призналась я. – Наверное, это все-таки что-то по медицинской части.
– Но там тоже никто не знает, от чего и как его лечить! – женщина судорожным движением вытащила из рукава платок и прижала его к глазам. – И получается, что нам некуда идти?! Те психологи хоть обещали, что со временем все решат…
– Ну, видимо, у них была какая-то концепция… – дипломатично заметила я.
– А у вас что же, совсем никакой нет?!
Это был один из тех моментов, когда я жалела о своем атеизме и невозможности с чистой совестью посоветовать сходить в церковь, помолиться, поставить свечку или что там еще положено. Все-таки дело.
Однако церковный мотив навел меня на мысль.
– Однажды в далекой солнечной Италии, – сказала я маме Эдика, – на родине Буратино и папы Карло жил (а может быть, и сейчас еще живет) странный человек по имени Антонио Менегетти. Он был священником, психотерапевтом, художником, писателем, философом, на психфаке Санкт-Петербургского университета была кафедра, где учили придуманным им теориям, а в Киеве и Екатеринбурге были бутики, где продавали спроектированную им одежду… Двое моих коллег у него учились… Он не отказывал самым тяжелым пациентам и встречал их, стуча в два больших барабана…
Мама Эдика скептически подняла бровь.
– Вы предлагаете мне воспользоваться услугами еще одного шарлатана? Для разнообразия – итальянского? – сухо осведомилась она.
– Штука заключалась в том, что иногда очень тяжелые пациенты, от которых отказались все и везде, после встречи с ним действительно выздоравливали, и это подтверждалось методами доказательной медицины. У него, видите ли, была концепция…
– И в чем же она заключалась?
– Он говорил человеку: вы пришли ко мне в очень плохом состоянии, прямо таки на пороге гибели. Я не знаю, что было с вами раньше, и не знаю, что вы раньше делали или не делали, было ли это хорошо или плохо. Но я знаю одно: это была дорога, которая привела вас вот к тому, что есть сейчас. Оно вас, как я понимаю, не устраивает. Я говорю вам: прямо сегодня радикально (ведь мы не знаем, что в прошлом было не так) смените дорогу, и тогда вы, быть может, спасетесь от смерти и получите второй шанс. Вы банковский клерк? Станьте клоуном. Вы живете в мегаполисе? Поезжайте жить в джунгли… Другая дорога.
– Но что же изменить нам?
– Все, – тихо, но уверенно (ну почему у меня нет барабана?) сказала я.
На джунгли они все-таки не решились. У друга семьи была хорошая дача в Карелии. «Там у меня сейчас некий алконавт присматривает за домом, собакой и тремя котами, – сказал друг. – Дайте ему денег, и всё. Вы всяко присмотрите лучше!»
Совсем прогнать алконавта (бывший столяр дядя Вася) Эдикина семья постеснялась, и он переехал жить в вагончик на краю участка. А Эдик с мамой поселились в доме. Расставшись со скрипкой (менять дорогу – так менять!), мальчик сначала очень тосковал. Но потом коты и собака (дома живность не заводили – врачи были категорически против) как-то примирили его с происходящим. И еще дядя Вася. Он водил чахлого Эдика на рыбалку (улов – котам на прокорм), а также в сарай, где учил работать с инструментом. Эдику очень нравилось, как пахнут свежие сосновые опилки, он приносил их к себе в комнату и рассыпал по полу. Коты разноцветными клубками спали на стеганом одеяле. Через три недели от того же дяди Васи и его малолетних знакомых Эдик узнал, что в поселке есть школа, и попросился туда. Там питерский интеллигентный мальчик очень понравился учителям, узнал много интересного о «правде жизни», стал объектом романтических влюбленностей поселковых девочек и даже однажды был бит из ревности. Тем не менее у него впервые в жизни появились приятели, которые свистели у калитки и заходили к нему домой.
К концу года Эдик вырос на семь сантиметров и поправился на десять килограммов. Поговаривал о том, что сначала станет столяром, как дядя Вася, а потом будет изготавливать скрипки.
– Нам теперь тут всегда жить? – спросила меня мать. – Начинать строиться где-то по соседству? Покупать ли ему сигареты, или пусть ворует? Мне искать работу доярки или, может, все-таки бухгалтера?
– Нет, зачем же? – удивилась я. – Можете потихоньку возвращать компоненты прежней жизни обратно. Только последовательно и следите внимательно: мы же так и не знаем, что именно сработало.
Наша последняя встреча была драматической. Эдика я едва узнала – так он вытянулся и изменился (у него была серьга в ухе и начала расти козлиная бородка).
– Мы всё вернули, кроме музыки, – сказала мать. – Но он ею до сих пор живет. Играет на всем, что издает звуки. Всё на грани, но еще не поздно. Можно нанять педагога, чтобы подготовил его к экзаменам в консерваторию. Но мы боимся. Очень. А вдруг оно опять? Ведь все остальное-то мы уже вернули…






