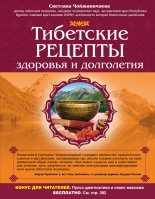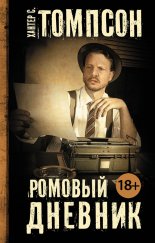Государство Платонов Андрей
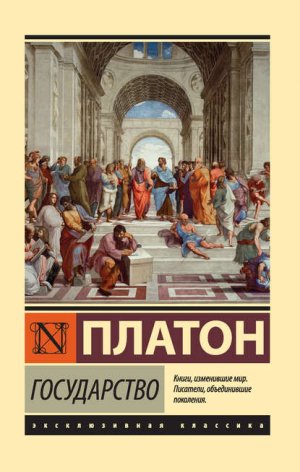
— Так давай же, — сказал я, — займемся мысленно построением государства с самого начала. Как видно, его создают наши потребности.[49]
— Несомненно.
— А первая и самая большая потребность — это добыча пищи для существования и жизни.
— Безусловно.
— Вторая потребность — жилье, третья — одежда и так далее.
— Это верно.
— Смотри же,—сказал я,—каким образом государство может обеспечить себя всем этим: не так ли, что кто-нибудь будет земледельцем, другой — строителем, третий — ткачом? И не добавить ли нам к этому сапожника и еще кого-нибудь из тех, кто обслуживает телесные наши нужды?
— Да, надо добавить.
— Самое меньшее, государству необходимо состоять из четырех или пяти человек.
— По-видимому.
— Так что же? Должен ли каждый из них выполнять свою работу с расчетом на всех вообще? Например, земледелец, хотя он один, должен ли выращивать хлеб на четверых, тратить вчетверо больше времени и трудов и уделять другим от того, что он произвел, или же, не заботясь о них, он должен производить лишь четвертую долю этого хлеба только для самого себя и тратить на это всего лишь четвертую часть своего времени, а остальные три его части употребить на постройку дома, изготовление одежды, обуви и не хлопотать о других, а производить все своими силами и лишь для себя?
— Пожалуй, Сократ, — сказал Адимант, — первое будет легче, чем это.
— Здесь нет ничего странного, клянусь Зевсом. Я еще раньше обратил внимание на твои слова, что сначала люди рождаются не слишком похожими друг на друга, их природа бывает различна, да и способности к тому или иному делу также. Разве не таково твое мнение?
— Да, таково.
— Так что же? Кто лучше работает — тот, кто владеет многими искусствами или же только одним?
— Тот, кто владеет одним.
— Ясно, по-моему, и то, что стоит упустить время для какой-нибудь работы, и ничего не выйдет.
— Конечно, ясно.
— И по-моему, никакая работа не захочет ждать, когда у работника появится досуг; наоборот, он непременно должен следить за работой, а не заниматься ею так, между прочим.
— Непременно.
с— Поэтому можно сделать все в большем количестве, лучше и легче, если выполнять одну какую-нибудь работу соответственно своим природным задаткам, и притом вовремя, не отвлекаясь на другие работы.[50]
— Несомненно.
— Так вот, Адимант, для обеспечения того, о чем мы говорили, потребуется больше, чем четыре члена государства. Ведь земледелец, вероятно, если нужна хорошая соха, не сам будет изготовлять ее для себя, или мотыгу и прочие земледельческие орудия. В свою очередь и домостроитель — ему тоже требуется многое. Подобным же образом и ткач, и сапожник.
— Это правда.
— Плотники, кузнецы и разные такие мастера, если их включить в наше маленькое государство, сделают его многолюдным.
— И даже очень.
— Но оно все же не будет слишком большим, даже если мы к ним добавим волопасов, овчаров и прочих пастухов, чтобы у земледельцев были волы для пахоты, у домостроителей вместе с земледельцами — подъяремные животные для перевозки грузов, а у ткачей и сапожников — кожа и шерсть.
— Но и немалым будет государство, где все это есть.
— Но разместить такое государство в местности, где не понадобится ввоза, почти что невозможно.
— Невозможно.
— Значит, вдобавок понадобятся еще и люди для доставки того, что требуется, из другой страны.
— Понадобятся.
— Но такой посредник уедет порожняком, если он приехал порожняком, то есть не привез сюда ничего из того, что требовалось, оттуда. Не правда ли?
— По-моему, да.
— Здесь нужно будет производить не только то, что достаточно для самих себя, но и все то, что требуется там, сколько бы этого ни требовалось.
— Да, это необходимо.
— Нашей общине понадобится побольше земледельцев и разных ремесленников.
— Да, побольше.
— И посредников для всякого рода ввоза и вывоза. А ведь это — купцы. Разве нет?
— Да.
— Значит, нам потребуются и купцы.
— Конечно.
— А если это будет морская торговля, то вдобавок потребуется еще и немало людей, знающих морское дело.
— Да, немало.
— Так что же? Внутри самого государства как будут они передавать друг другу все то, что каждый производит? Ведь ради того мы и основали государство, чтобы люди вступили в общение.
— Очевидно, они будут продавать и покупать.
— Из этого у нас возникнет и рынок, и монета — знак обмена.
— Конечно.
— Если земледелец или кто другой из ремесленников, доставив на рынок то, что он производит, придет не в одно и то же время с теми, кому нужно произвести с ним обмен, неужели же он, сидя на рынке, будет терять время, нужное ему для работы?
— Вовсе нет, найдутся ведь люди, которые, видя это, предложат ему свои услуги. В благоустроенных городах это, пожалуй, самые слабые телом и непригодные ни к какой другой работе. Они там, на рынке, только того и дожидаются, чтобы за деньги приобрести что-нибудь у тех, кому нужно сбыть свое, и опять-таки обменять это на деньги с теми, кому нужно что-то купить.
— Из-за этой потребности появляются у нас в городе мелкие торговцы. Разве не назовем мы так посредников по купле и продаже, которые засели на рынке? А тех, кто странствует но городам, мы назовем купцами.
— Конечно.
— Бывают, я думаю, еще и какие-то иные посредники: духовный их склад таков, что с ними не очень-то стоит общаться, но они обладают телесной силой, достаточной для тяжелых работ. Они продают внаем свою силу и называют жалованьем цену за этот найм: потому-то, я думаю, их и зовут наемниками. Не так ли?
— Конечно, так.
— Для полноты государства, видимо, нужны и наемники.
— По-моему, да.
— Так разве не разрослось у нас, Адимант, государство уже настолько, что можно его считать совершенным?
— Пожалуй.
— Где же в нем место справедливости и несправедливости? В чем из того, что мы разбирали, они проявляются?
— Я лично этого не вижу, Сократ. Разве что в какой-то взаимной связи этих самых занятий.
— Возможно, что ты прав. Надо это исследовать и не отступаться. Прежде всего рассмотрим образ жизни людей, так подготовленных. Они будут производить хлеб, вино, одежду, обувь, будут строить дома, летом большей частью работать обнаженными и без обуви, а зимой достаточно одетыми и обутыми. Питаться они будут, изготовляя себе крупу из ячменя и пшеничную муку; крупу будут варить, тесто месить и выпекать из него великолепные булки и хлеб, раскладывая их в ряд на тростнике или на чистых листьях. Возлежа на подстилках, усеянных листьями тиса и миртами, они будут пировать, и сами и их дети, попивая вино, будут украшать себя венками и воспевать богов, радостно общаясь друг с другом; при этом, остерегаясь бедности и войны, они будут иметь детей не свыше того, что позволяет им их состояние.
Тут Главкон прервал меня:
— Ты заставляешь этих людей угощаться, видимо, без всяких кушаний!
— Твоя правда, — сказал я, — совсем забыл, что у них будут и кушанья. Ясно, что у них будет и соль, и маслины, и сыр, и лук-порей, и овощи, и они будут варить какую-нибудь деревенскую похлебку. Мы добавим им и лакомства: смоквы, горошек, бобы; плоды мирты и буковые орехи они будут жарить на огне и н меру запивать вином. Так проведут они жизнь в мире и здоровье и, достигнув, по всей вероятности, глубокой старости, скончаются, завещав своим потомкам такой же образ жизни.
— Если бы, Сократ, — возразил Главкон, — устраиваемое тобой государство состояло из свиней, какого, как не этого, задал бы ты им корму?
— Но что же иное требуется, Главкон?
— То, что обычно принято: возлежать на ложах, обедать за столом, есть те кушанья и лакомства, которые имеют нынешние люди — вот что, по-моему, нужно, чтобы не страдать от лишений.
— Хорошо, — сказал я, — понимаю. Мы, вероятно, рассматриваем не только возникающее государство, но и государство, живущее в изобилии. Может быть, это и неплохо. Ведь, рассматривая и такое государство, мы, вполне возможно, заметим, каким образом в государствах возникает справедливость и несправедливость. То государство, которое мы разобрали, представляется мне подлинным, то есть здоровым. Если вы хотите, ничто не мешает нам присмотреться и к государству, которое лихорадит. В самом деле, иных, по-видимому, не удовлетворит все это и такой простой образ жизни — им подавай и ложа, и столы, и разную утварь, и кушанья, мази и благовония, а также гетер, вкусные пироги, да чтобы всего этого было побольше. Выходит, что необходимым надо считать уже не то, о чем мы говорили вначале, — дома, обувь, одежду, нет, подавай нам картины и украшения, золото и слоновую кость: все это нам нужно. Не правда ли?
— Да.
— Так не придется ли увеличить это государство? То, здоровое, государство уже недостаточно, его надо заполнить кучей такого народа, присутствие которого в государстве не вызвано никакой необходимостью: таковы, например, всевозможные охотники, [51]а также подражатели — их много по части рисунков и красок, много и в мусическом искусстве: поэты и их исполнители, рапсоды, актеры, хоревты, подрядчики, мастера различной утвари, изделий всякого рода и женских уборов. Понадобится побольше и посредников: разве, по-твоему, не нужны будут там наставники детей, кормилицы, воспитатели, служанки, цирюльники, а также кулинары и повара? Понадобятся нам и свинопасы. Этого не было у нас в том, первоначальном государстве, потому что ничего такого не требовалось. А в этом государстве понадобится и это, да и множество всякого скота, раз идет в пищу мясо. Не так ли?
— Конечно.
— Потребность во врачах будет у нас при таком образе жизни гораздо больше, чем прежде.
— Много больше.
— Да и страна, тогда достаточная, чтобы прокормить население, теперь станет мала. Или как мы скажем?
— Именно так.
— Значит, нам придется отрезать часть от соседней страны, если мы намерены иметь достаточно пастбищ и пашен, а нашим соседям в свою очередь захочется отхватить часть от нашей страны, если они тоже пустятся в бесконечное стяжательство, перейдя границы необходимого.
— Это совершенно неизбежно, Сократ.
— В результате мы будем воевать, Главкон, или как с этим будет?
— Да, придется воевать.
— Пока мы еще ничего не станем говорить о том, влечет ли за собой война зло или благо, скажем только, что мы открыли происхождение войны — главный источник частных и общественных бед, когда она ведется.
— Конечно.
— Вдобавок, друг мой, придется увеличить наше государство не на какой-то пустяк, а на целое войско: оно выступит на защиту всего достояния, на защиту того, о чем мы теперь говорили, и будет отражать нападение.
— Как так? Разве мы сами к этому не способны?
— Не способны, если ты и все мы правильно решили этот вопрос, когда строили наше воображаемое государство. Решили же мы, если ты помнишь, что невозможно одному человеку с успехом владеть многими искусствами.
— Ты прав.
— Что же? Разве, по-твоему, военные действия не требуют искусства?
— И даже очень.
— Разве надо больше беспокоиться о сапожном, чем о военном, искусстве?
— Ни в коем случае.
— Чтобы у нас успешное шло сапожное дело, мы запретили сапожнику даже пытаться стать земледельцем, или ткачом, или домостроителем; так же точно и всякому другому мы поручили только одно дело, к которому он годится по своим природным задаткам: этим он и будет заниматься всю жизнь, не отвлекаясь ни на что другое, и достигнет успеха, если не упустит время. А разве не важно хорошее выполнение всего, что относится к военному делу? Или оно настолько легко, что земледелец, сапожник, любой другой ремесленник может быть вместе с тем и воином? Прилично играть в шашки или в кости никто не научится, если не занимался этим с детства, а играл так, между прочим. Неужели же стоит только взять щит или другое оружие и запастись военным снаряжением — и сразу станешь способен сражаться, будь то в битве тяжело вооруженных или в какой-либо иной? Никакое орудие только оттого, что оно очутилось в чьих-либо руках, никого не сделает сразу мастером или атлетом и будет бесполезно, если человек не умеет с ним обращаться и недостаточно упражнялся.
— Иначе этим орудиям и цены бы не было!
[Роль сословия стражей в идеальном государстве]
— Значит, чем более важно дело стражей, тем более оно несовместимо с другими занятиями, — ведь оно требует мастерства и величайшего старания.
— Думаю, что это так.
— Для этого занятия требуется иметь соответствующие природные задатки.
— Конечно.
— Пожалуй, если только мы в состоянии, нашим делом было бы отобрать тех, кто по своим природным свойствам годен для охраны государства.
— Конечно, это наше дело.
— Клянусь Зевсом, нелегкий предмет мы себе облюбовали! Все же, насколько хватит сил, не надо поддаваться робости.
— Разумеется, не надо.
— Как, по-твоему, в деле охраны есть ли разница между природными свойствами породистого щенка и юноши хорошего происхождения?
— О каких свойствах ты говоришь?
— И тот и другой должны остро воспринимать, живо преследовать то, что заметят, и, если настигнут, с силой сражаться.
— Все это действительно нужно.
— И чтобы хорошо сражаться, надо быть мужественным.
— Как же иначе?
— А захочет ли быть мужественным тот, в ком нет яростного духа — будь то конь, собака или другое какое животное? Разве ты не заметил, как неодолим и непобедим яростный дух: когда он есть, любая душа ничего не страшится и ни перед чем не отступает?
— Заметил.
— Итак, ясно, какими должны быть телесные свойства такого стража.
— Да.
— Тоже и душевные свойства, то есть яростный дух.
— И это ясно.
— Однако, Главкон, если стражи таковы по своей природе, не будут ли они свирепыми и друг с другом, и с остальными согражданами?
— Клянусь Зевсом, на это нелегко ответить.
— А между тем они должны быть кроткими к своим людям и грозными для неприятеля. В противном случае им не придется ждать, чтобы их истребил кто-нибудь другой: они сами это сделают и погубят себя.
— Правда.
— Как же нам быть? Где мы найдем нрав и кроткий, и вместе с тем отважный? Ведь кроткий нрав противоположен ярости духа.
— Это очевидно.
— Если же у кого-нибудь нет ни того ни другого, он не может стать хорошим стражем. Похоже, что это требование невыполнимо, и, таким образом, выходит, что хорошим стражем стать невозможно.
— Пожалуй, что так, — сказал Главкон.
Я находился в затруднении и мысленно перебирал сказанное ранее.
— Мы, друг мой, — заметил я, — справедливо недоумеваем, потому что мы отклонились от того образа, который сами предложили.
— Что ты имеешь в виду?
— Мы не сообразили, что бывают характеры, о которых мы и не подумали, а между тем в них имеются эти противоположные свойства.
— В каких же характерах?
— Это замечается и в других животных, но всего лучше в том из них, которое мы сравнили с нашим стражем. Ты ведь знаешь насчет породистых собак, что их свойство — быть как нельзя более кроткими с теми, к кому они привыкли и кого знают, но с незнакомыми — как раз наоборот.
— Знаю, конечно.
— Стало быть, это возможно, и поиски таких свойств в страже не противоречат природе.
— По-видимому, нет.
— Не кажется ли тебе, что будущий страж нуждается еще вот в чем: мало того, что он яростен — он должен по своей природе еще и стремиться к мудрости.
— Как это? Мне непонятно.
— И эту черту ты тоже заметишь в собаках, что очень удивительно в животном.
— Что именно?
— Увидав незнакомого, собака злится, хотя он се ничем еще не обидел, а увидав знакомого — ласкается, хотя он никогда не сделал ей ничего хорошего. Тебя это не поражало?
— Я до сих пор не слишком обращал на это внимание, но ясно, что собака ведет себя именно так.
— Это свойство ее природы представляется замечательным и даже подлинно философским.
— Как так?
— Да так, что о дружественности или враждебности человека, которого она видит, собака заключает по тому, знает ли она его или нет. Разве в этом нет стремления познавать, когда определение близкого или, напротив, чужого делается на основе понимания либо, наоборот, непонимания?
— Этого нельзя отрицать.
— А ведь стремление познавать и стремление к мудрости — это одно и то же.
— Да, одно и то же.
— Значит, мы смело можем допустить то же самое и у человека: если он будет кротким со своими близкими и знакомыми, значит, он но своей природе должен иметь стремление к мудрости и познанию.
— Допустим это.
— Итак. безупречный страж государства будет у нас по своей природе обладать и стремлением к мудрости, и стремлением познавать, а также будет проворным и сильным.
— Совершенно верно.
— Таким пусть и будет. Но как нам выращивать и воспитывать стражей? Рассмотрение этого будет ли у нас способствовать тому, ради чего мы всё и рассматриваем, то есть заметим ли мы, каким образом возникают в обществе справедливость и несправедливость? Как бы нам не упустить цели нашей беседы и не сделать ее слишком пространной.
На это брат Главкона сказал:
— Я по крайней мере ожидаю, что это рассмотрение будет очень кстати для нашей задачи.
— Клянусь Зевсом, милый Адимант, — сказал я, — значит, не стоит бросать это рассмотрение, даже если оно окажется длинным.
— Да, не стоит.
— Так давай, не торопясь, как делают это повествователи, займемся — пусть на словах — воспитанием этих людей.
— Это необходимо сделать.
[Двоякое воспитание стражей мусическое и гимнастическое]
— Каким же будет воспитание? Впрочем, трудно найти лучше того, которое найдено с самых давнишних времен. Для тела — это гимнастическое воспитание, а для души -мусическое[52]
— Да, это так.
— И воспитание мусическое будет у нас предшествовать гимнастическому.
— Почему бы и нет?
— Говоря о мусическом воспитании, ты включаешь в пего словесность, не правда ли?
— Я — да.
[Два вида словесности: истинный и ложный. Роль мифов в воспитании стражей]
— В словесности же есть два вида: один — истинный, а другой — ложный?
— Да.
— И воспитывать надо в обоих видах, но сперва — в ложном?
— Вовсе не понимаю, о чем это ты говоришь.
— Ты не понимаешь, что малым детям мы сперва рассказываем мифы? Это, вообще говоря, ложь, но есть них и истина. Имея дело с детьми, мы к мифам прибегаем. раньше, чем к гимнастическим упражнениям.
— Да, это так.
— Потому-то я и говорил, что сперва надо приниматься за мусическое искусство, а затем за гимнастическое.
— Правильно.
— Разве ты не знаешь, что во всяком деле самое главное — это начало, в особенности если это касается чего-то юного и нежного. Тогда всего более образуются и укореняются те черты, которые кто-либо желает там запечатлеть.
— Совершенно верно.
— Разве можем мы так легко допустить, чтобы дети слушали и воспринимали душой какие попало мифы, выдуманные кем попало и большей частью противоречащие тем мнениям, которые, как мы считаем, должны быть у них, когда они повзрослеют?
— Мы этого ни в коем случае не допустим.
— Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим его, если же нет — отвергнем. Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь признанные мифы, чтобы с их помощью формировать души детей скорее, чем их тела — руками. А большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо отбросить.
— Какие именно?
— По более значительным мифам мы сможем судить и о мелких: ведь и крупные, и мелкие должны иметь одинаковые черты и одинаковую силу воздействия. Или ты не согласен?
— Согласен, но я не понимаю, о каких более значительных мифах ты говоришь?
— О тех, которые рассказывали Гесиод, Гомер и остальные поэты. Составив для людей лживые сказания, они стали им их рассказывать, да и до сих пор рассказывают.[53]
—Какие же? И что ты им ставишь в упрек?
— То, за что прежде всего и главным образом следует упрекнуть, в особенности если чей-либо вымысел неудачен.
— Как это?
— Когда кто-нибудь, говоря о богах и героях, отрицательно изобразит их свойства, это вроде того, как если бы художник нарисовал нисколько не похожими тех, чье подобие он хотел изобразить.
— Такого рода упрек правилен, но что мы под этим понимаем?
— Прежде всего величайшую ложь и о самом великом неудачно выдумал тот, кто сказал, будто Уран совершил поступок, упоминаемый Гесиодом, и будто Кронос ему отомстил. О делах же Кроноса и о мучениях, перенесенных им от сына, даже если бы это было верно, я не считал бы нужным с такой легкостью рассказывать тем, кто еще неразумен и молод, — гораздо лучше обходить это молчанием, а если уж и нужно почему-либо рассказать, так пусть лишь весьма немногие втайне выслушают это, принеся в жертву не поросенка, но великое и труднодоступное приношение, чтобы лишь совсем мало кому довелось услышать рассказ[54]
— В самом деле, рассказы об этом затруднительны.
— Да их и не следует рассказывать, Адимант, в нашем государстве. Нельзя рассказывать юному слушателю, что, поступая крайне несправедливо, он не совершает ничего особенного, даже если он любым образом карает своего совершившего проступок отца, и что он просто делает то же самое, что и первые, величайшие боги.
— Клянусь Зевсом, мне и самому кажется, что не годится говорить об этом.
— И вообще о том, как боги воюют с богами, строят козни, сражаются—да это и неверно; ведь те, кому предстоит стоять у нас на страже государства, должны считать величайшим позором, если так легко возникает взаимная вражда. Вовсе не следует излагать и расписывать битвы гигантов и разные другие многочисленные раздоры богов и героев с их родственниками и низкими —напротив, если мы намерены внушить убеждение, что никогда никто из граждан не питал вражды к другому и что это было бы нечестиво, то об этом-то и должны сразу же и побольше рассказывать детям и старики, и старухи, да и потом, когда дети подрастут; и поэтов надо заставить не отклоняться от этого в своем творчестве. А о том, что на Геру наложил оковы ее сын, Гефест, который был сброшен с Олимпа своим отцом, хотевшим заступиться за избиваемую жену, или о битвах богов, сочиненных Гомером,—такие рассказы недопустимы в пашем государстве, все равно сочинены ли они с намеком или без него. [55]Ребенок не в состоянии судить, где содержится иносказание, а где нет, и мнения, воспринятые им в таком раннем возрасте, обычно становятся неизгладимыми и неизменными. Вот почему, пожалуй, всего более надо добиваться, чтобы первые мифы, услышанные детьми, самым заботливым образом были направлены к добродетели.
— Это имеет свое основание. Но если кто и об этом спросит нас, что это за мифы и о чем они, какие мифы могли бы мы назвать?
— Адимант, — сказал я, — мы с тобой сейчас не поэты, а основатели государства. Не дело основателей самим творить мифы—им достаточно знать, какими должны быть основные черты поэтического творчества, и не допускать их искажения.
— Верно. Но вот это — основные черты, каковы они в учении о богах?
— Да хотя бы так: каков бог, таким его всегда и надо изображать, выведен ли он в эпической поэзии, в мелической или в трагедии.
— Да, так и надо поступать.
— Разве бог не благ по существу и разве не это нужно о нем утверждать?
— Как же иначе?
— Но ведь никакое благо не вредоносно, не так ли?
— По-моему, так.
— А то, что не вредоносно, разве вредит?
— Никоим образом.
— А то, что не вредит, творит разве какое-нибудь зло?
— Тоже нет,