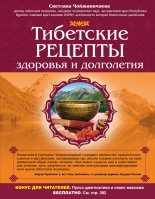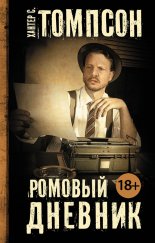Государство Платонов Андрей
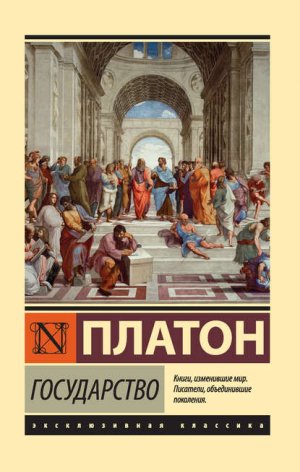
— Да прежде всего потому, что, раз уж на то пошло, разве не с богатыми людьми будут сражаться наши знатоки военного дела?
— Конечно, с богатыми.
— Так что же, Адимант? Разве тебе не кажется, что одному кулачному бойцу, превосходно подготовленному, будет легко биться с двумя не обученными этому делу, богатыми и тучными людьми?
— Но пожалуй, не с обоими зараз.
— Нет, именно так: от него зависело бы отбежать, затем, обернувшись, ударить первого, кто к нему с приблизится. А если он почаще повторит этот прием, да еще на солнце, в удушливый зной? Разве такой боец не одолеет и большее число подобных противников?
— Спору нет, удивляться этому не приходится.
— Но разве ты не считаешь, что у богатых людей больше умения и опытности скорее уж в кулачном бою, чем в военном деле?
— Считаю.
— Значит, наши знатоки военного дела, естественно, способны сражаться с двойным и даже тройным числом противников.
— Уступаю тебе: по-моему, ты говоришь правильно.
— Далее. Если они пошлют посольство в другое государство и скажут правду, то есть: "Мы вовсе не пользуемся ни золотом, ни серебром — нам это не дозволено, но ведь вам-то можно: значит, если вы будете вести войну в союзе с нами, вам обеспечена наша доля добычи", — думаешь ли ты, что в ответ кто-нибудь предпочтет выступить против крепких, поджарых собак, а не скорее вместе с ними — против тучных ц мягкотелых овец?
— Думаю, что не предпочтет. Ну а если и богатства остальных государств сосредоточатся в одном из них, смотри, не будет ли это опасно для государства, не имеющего богатства?
— Счастлив ты, если считаешь, что заслуживает названия государства какое-нибудь иное, кроме того, которое основываем мы.
— Но почему же?
— У всех остальных название должно быть длиннее, потому что каждое из них представляет собою множество государств, а вовсе не "город", как выражаются игроки[152]. Как бы там ни было, в них заключены два враждебных между собой государства: одно— бедняков, другое —богачей; и в каждом из них опять-таки множество государств, так что ты промахнешься, подходя к ним как к чему-то единому. Если же ты подойдешь к ним как к многим и передашь денежные средства и власть одних граждан другим или самих их переведешь из одной группы в другую, ты всегда приобретешь себе союзников, а противников у тебя будет немного. И пока государство управляется разумно, как недавно и было нами постановлено, его мощь будет чрезвычайно велика; я говорю не о показной, а о подлинной мощи, если даже государство защищает всего лишь тысяча воинов. Ни среди эллинов, ни среди варваров нелегко найти хотя бы одно государство, великое в этом смысле, между тем как мнимо великих множество и они во много раз больше нашего государства. Или ты считаешь иначе?
— Нет, клянусь Зевсом.
[Размер идеального государства]
— Стало быть, как раз это и служило бы нашим правителям пределом для необходимой величины устраиваемого ими государства; и соответственно его размерам они и определят ему количество земли, не посягая на большее.
— О каком пределе ты говоришь?
— По-моему, вот о каком: государство можно увеличивать лишь до тех пор, пока оно не перестает быть единым, но не более этого.
— Прекрасно.
— Стало быть, мы дадим нашим стражам еще и такое задание: всячески следить за тем, чтобы наше государство было не слишком малым, но и не мнимо большим — оно должно быть достаточным и единым.
— Легкую же мы им задали задачу!
— А еще легче будет им то, о чем мы уже упоминали, говоря, что потомство стражей, если оно неудачно уродилось, надо переводить в другие сословия, а значительных людей остальных сословий — в число стражей. Этим мы хотели показать, что и каждого из остальных граждан надо ставить на то одно ' дело, н которому у него есть способности, чтобы, занимаясь лишь тем делом, которое ему присуще, каждый представлял бы собою единство, а не множество: так и все государство в целом станет единым, а не множественным.
— Эта задача проще той.
— Кто-нибудь, возможно, найдет, дорогой мой Адимант, что все наши требования слишком многочисленны и высоки для стражей. Между тем всё это пустяки, если они будут стоять, как говорится, на страже одного лишь великого дела, или, скорее, не великого, а достаточного.
— А что это за дело?
[Роль правильного воспитания, обучения и законов-в идеальном государстве]
— Обучение и воспитание. Если путем хорошего обучения стражи станут умеренными людьми, они и сами без труда разберутся в этом, а так же и во всем том, что мы сейчас опускаем, например: подыскание себе жены и брак, а также деторождение. Ведь все это надо согласовать с пословицей: "У друзей все общее".[153]
— Это было бы вполне правильно.
— Да и в самом деле, стоит только дать первый толчок государственному устройству, и оно двинется вперед само, набирая силы, словно колесо. Ведь правильное воспитание и обучение пробуждают в человеке хорошие природные задатки, а у кого они уже были, благодаря такому воспитанию они становятся еще лучше — и вообще, и в смысле передачи их своему потомству, что наблюдается у всех живых существ.
— Это естественно.
— Короче, тем, кто блюдет государство, надо прилагать все усилия к тому, чтобы от них не укрылась его порча, и прежде всего им надо оберегать государство от нарушающих порядок новшеств в области гимнастического и мусического искусств. Когда ссылаются на то, что
- песнопение люди особенно ценят
- Самое новое, то, что певцы недавно сложили[154],
надо в особенности опасаться, что могут подумать, будто поэт говорит не о новом содержании песен, а о новом стиле напева, и именно вот это одобрить. Между тем такие вещи не следует одобрять и нельзя таким образом понимать этот стих. Надо остерегаться вводить новый вид мусического искусства — здесь рискуют всем: ведь нигде не бывает перемены приемов мусического искусства без изменений в самых важных государственных установлениях — так утверждает Дамон, и я ему верю.
— И меня присоедини к числу тех, кто ему верит, — сказал Адимант.
— Видно, именно где-то здесь надо будет нашим стражам установить свой сторожевой пост — в области мусического искусства.
— Действительно, сюда легко и незаметно вкрадывается нарушение законов.
— Да, под прикрытием безвредной забавы.
— На самом же деле нарушение законов причиняет именно тот вред, что, мало-помалу внедряясь, потихоньку проникает в нравы и навыки, а оттуда, уже в более крупных размерах, распространяется на деловые взаимоотношения граждан и посягает даже на сами законы и государственное устройство, притом заметь себе, Сократ, с величайшей распущенностью, в конце концов переворачивая всё вверх дном как в частной, так и в общественной жизни.
— Допускаю, что дело обстоит именно так.
— По-моему, да.
— Следовательно, как мы и говорили вначале, даже игры наших детей должны как можно больше соответствовать законам, потому что, если они становятся беспорядочными и дети не соблюдают правил, невозможно вырастить из них серьезных законопослушных граждан.
— Разумеется.
— Если же дети с самого начала будут играть как следует, то благодаря мусическому искусству они привыкнут к законности, и в полную противоположность другим детям эти навыки будут, постоянно возрастая, сказываться во всем, даже в исправлении государственного строя, если что в нем было не так[155].
— Это верно.
— И во всем, что считается мелочами, они найдут нормы поведения; между тем это умение совершенно утрачено теми, о ком мы упоминали сначала.
— Какие же это нормы?
— Следующие: младшим полагается молчать при старших, уступать им место, вставать в их присутствии, почитать родителей[156]; затем идет все, что касается наружности: стрижка, одежда, обувь и так далее. Или ты не согласен?
— Согласен.
— Но я думаю, было бы ни к чему определять все это законом: это нигде не принято, да такие постановления все равно не удержатся, будь они даже изложены письменно.
— Почему?
— В каком направлении кто был воспитан, Адимант, таким и станет, пожалуй, весь его будущий путь. Или, по-твоему, подобное не вызывается обычно подобным?
— Как же иначе?
— И я думаю, мы сказали бы, что от воспитания в конце концов зависит вполне определенный и выраженный результат: либо благо, либо его противоположность.
— Конечно.
— По этой причине я лично и не пытался бы пока что предписывать законы в этой области.
— Естественно.
— Но скажи, ради богов, отважимся ли мы устанавливать какие-либо законы, касающиеся рынка, то есть насчет тех сделок, которые там заключаются, а д если угодно, то и насчет отношений между ремесленниками, перебранок, драк, предъявления исков, назначения судей? А тут еще понадобится взыскивать и определять налоги то на рынке, то в гавани — словом, вообще касаться рыночных, городских, портовых и тому подобных дел.
— Не стоит нам давать предписания тем, кто получил безупречное воспитание: в большинстве случаев они сами без труда поймут, какие здесь требуются законы.
— Да, мой друг, это так, если бог им даст сохранить в целости те законы, которые мы разбирали раньше.
— А если нет, вся их жизнь пройдет в том, что они вечно будут устанавливать множество разных законов и вносить в них поправки в расчете, что таким образом достигнут совершенства.
— По твоим словам, их жизнь будет вроде как у тех больных, которые из-за распущенности не желают бросить свой дурной образ жизни.
— Вот именно.
— Забавное же у них будет времяпрепровождение: лечась, они добиваются только того, что делают свои недуги разнообразнее и сильнее, но все время надеются выздороветь, когда кто присоветует им новое лекарство.
— Действительно, состояние подобных больных именно такое.
— Далее. Разве не забавно у них еще вот что: своим злейшим врагом считают они того, кто говорит им правду, а именно, что, пока они не перестанут пьянствовать, наедаться, предаваться любовным утехам и праздности, им нисколько не помогут ни лекарства, ни прижигания, ни разрезы, а также заговоры, амулеты и тому подобное.
— Но это не слишком забавно: что уж забавного в том, когда верные указания вызывают гнев?
— Ты, как видно, не склонен воздавать хвалу таким людям.
— Нет, клянусь Зевсом.
— Следовательно, ты не воздашь хвалы и государству, которое все целиком, как мы недавно говорили, занимается чем-то подобным. Или тебе не кажется, что то же самое происходит в плохо управляемых государствах, где гражданам запрещается изменять государственное устройство в целом и такие попытки караются смертной казнью? А кто старается быть приятным и угождает гражданам, находящимся под таким управлением, лебезит перед ними, предупреждает их желания и горазд их исполнять, тот, выходит, будет хорошим человеком, мудрым в важнейших делах, и граждане будут оказывать ему почести.
— По-моему, такое государство поступает подобно больным, [о которых ты говорил], а этого я никак не могу одобрить.
— И тебя не восхищает смелость и ловкость тех, то с полной готовностью усердно служит таким государствам?
— Восхищает, но я делаю исключение для тех, кто обманывается на счет таких государств и воображает себя подлинным государственным деятелем, оттого что ею восхваляет толпа.
— Как ты говоришь? Ты не согласен с ними? Или, по-твоему, когда человек не умеет измерять, а множество других людей, тоже не умеющих этого делать, уверяют его, что он ростом в четыре локтя, он все же в состоянии не думать, что он таков?
— Это невозможно.
— Так не сердись на них. И верно, такие законодатели всего забавнее: они, как мы только что говорили, все время вносят поправки в свои законы, думая положить предел злоупотреблениям в делах, но, как я сейчас заметил, не отдают себе отчета, что на самом-то деле уподобляются людям, рассекающим гидру[157].
— Это верно, ничего другого они и не делают.
— Так вот, я считал бы, что в государстве, плохо ли, хорошо ли устроенном, подлинному законодателю нечего хлопотать о таком виде законов, потому что в первом случае они бесполезны и совершенно ни к чему, а во втором кое-что из них установит всякий, кто бы он ни был, в остальном же они сами собой , вытекают из уже ранее имевшихся навыков.
— Что же еще, — спросил Адимант, — остается у нас по части законодательства?
Тогда я сказал:
— У нас-то ничего, а вот у Аполлона, что в Дельфах, — величайшие, прекраснейшие и первейшие законоположения[158].
— Какие же это?
— О постройке святилищ, жертвоприношениях и всем прочем, что касается почитания богов, гениев и героев; также и о погребениях мертвых, и о том, что надо выполнять, чтобы милостиво расположить к себе тех, кто находится там, в Аиде. Подобные вещи самим нам неизвестны, но, основывая государство, мы и другому никому не поверим, если у нас есть ум, и не прибегнем ни к какому иному наставнику, кроме отечественного[159]: ведь в подобных вещах именно этот бог — отечественный наставник всех людей; он наставляет, восседая в самом средоточии Земли, там, где находится ее пуп[160].
— Прекрасно сказано! Так и поступим.
— Далее, сын Аристона, допустим, что государство у тебя уже основано. После этого, взяв какой-нибудь достаточно яркий светильник, посмотри сам — да пригласи и своего брата, а также Полемарха и всех остальных, — не удастся ли нам разглядеть, где там кроется справедливость, а где несправедливость, в чем между ними различие и которой из них надо обладать человеку, чтобы быть счастливым, все равно, утаится ли он от всех богов и людей или нет.
— Вздор, — сказал Главкон, — ты ведь сам обещал произвести такое исследование, считая, что с твоей стороны было бы неблагочестиво не прийти на помощь справедливости по мере твоих сил, любым способом.
— Ты верно напомнил, — сказал я, — так и надо поступить, но и вы должны мне помочь.
— Пожалуйста, мы готовы.
— Я надеюсь найти ответ вот как: думаю, что это государство, раз оно правильно устроено, будет у нас вполне совершенным.
— Непременно.
[Четыре добродетели идеального государства]
— Ясно, что оно мудро, мужествен но, рассудительно и справедливо[161].
— Ясно.
— Значит, при наличии того, что мы в нем обнаружим, ненайденным будет лишь то, что останется?
— Что ты имеешь в виду?
— Это так же, как бывает относительно любых четырех вещей, если мы разыскиваем среди них какую-нибудь одну: достаточно либо заранее знать, что она такое, либо же знать предварительно остальные три вещи; тем самым мы найдем ту, которую ищем, — ведь ясно, что она не что иное, как остаток.
— Ты правильно говоришь.
— Значит, и в нашем вопросе надо тоже так вести поиски, раз наше государство отличается четырьмя свойствами.
— Очевидно.
— И прежде всего, по-моему, вполне очевидна его мудрость, хотя дело с ней представляется несколько странным.
— Почему?
— То. государство, которое мы разбирали, кажется мне действительно мудрым—ведь в нем осуществляются здравые решения, не так ли?
— Да.
— Между тем эти-то здравые решения и суть ка
кое-то знание; невежество здесь не поможет, надо уметь хорошо рассуждать.
— Очевидно.
— А в государстве можно встретить много разнообразных знаний.
— Конечно.
— Так неужели же благодаря знанию плотничьего искусства государство следует назвать мудрым и принимающим здравые решения?
— Вовсе не из-за этого, иначе его следовало бы назвать плотницким.
— Значит, хотя государству и желательно, чтобы деревянные изделия были как можно лучше, однако не за умелое их изготовление можно назвать государство мудрым.
— Конечно, нет.
— Что же? За медные и другие такие же изделия?
— Все это тут ни при чем.
— И не за выращивание плодов земли, иначе государство можно было бы назвать земледельческим.
— Мне кажется так.
— Что же? Есть ли в только что основанном нами д государстве у кого-либо из граждан какое-нибудь такое знание, что с его помощью можно решать не мелкие, а общегосударственные вопросы, наилучшим образом руководя внутренними и внешними отношениями?
— Да, есть.
— Какое же и у кого?
— Это искусство быть всегда на страже: им обладают те правители, которых мы недавно назвали совершенными стражами.
— Раз есть такое знание, то что ты скажешь о нашем государстве?
— В нем осуществляются здравые решения, и оно отличается подлинной мудростью.
— А как ты считаешь, кого больше в нашем государстве — кузнецов или этих подлинных стражей?
— Кузнецов гораздо больше.
— Да и сравнительно со всеми остальными, у кого ость какое-нибудь знание и кто по нему так и прозывается, стражей будет всего меньше.
— Да, намного меньше.
— Значит, государство, основанное согласно природе, всецело было бы мудрым благодаря совсем небольшой части населения, которая стоит во главе и управляет, и ее знанию. И по-видимому, от природы в очень малом числе встречаются люди, подходящие, чтобы обладать этим знанием, которое одно лишь из всех остальных видов знания заслуживает имя мудрости.
— Ты совершенно прав.
— Вот мы и нашли, уж и не знаю каким это образом, одно из четырех свойств нашего государства — и как таковое, и место его в государстве.
— Мне по крайней мере кажется, что мы его достаточно разъяснили.
— Что же касается мужества — каково оно само и где ему место в государстве (отчего и называют государство мужественным) — это не так уж трудно заметить.
— А именно?
— Называя государство робким или мужественным, кто же обратит внимание на что-нибудь иное, кроме той части его граждан, которые воюют и сражаются за него?
— Ни один человек не станет смотреть ни на что иное.
— Ведь, думается мне, по остальным его гражданам, будь они трусливы или мужественны, нельзя заключать, что государство такое, а не иное.
— Нельзя.
— Мужественным государство бывает лишь благодаря какой-то одной своей части — благодаря тому, что в этой своей части оно обладает силой, постоянно сохраняющей то мнение об опасностях — а именно, что они заключаются в том-то и том-то, — которое внушил ей законодатель путем воспитания. Разве не это называешь ты мужеством?
— Я не совсем понял, о чем ты говоришь. Повтори, пожалуйста.
— Мужество я считаю некой сохранностью.
— Какой такой сохранностью?
— Той, что сохраняет определенное мнение об опасности, — что она такое и какова она. Образуется это мнение под воспитывающим воздействием закона. Я сказал, что оно сохраняется, то есть человек сохраняет его и в страданиях, и в удовольствиях, и в страстях, и во время страха и никогда от него не отказывается. А с чем это схоже, я мог бы, если ты хочешь, объяснить тебе с помощью уподобления.
— Конечно, хочу.
— Как ты знаешь, красильщики, желая окрасить шерсть в пурпурный цвет, сперва выбирают из большого числа оттенков шерсти одну только белую краску, затем старательно, разными приемами подготавливают ее к тому, чтобы она получше приняла е пурпурный цвет, и наконец красят. Выкрашенная таким образом шерсть уже не линяет, и стирка, будь то со щелочью или без, не влияет на цвет. В противном случае, ты сам знаешь, что бывает, если красят — все равно, в этот ли цвет или в другой — без предварительной подготовки.
— Знаю, как непрочна тогда окраска и как смешно она выглядит.
— Так вот учти, что нечто подобное делаем и мы по мере сил, когда выбираем воинов и воспитываем их при помощи мусического искусства и гимнастики. Мы не преследуем ничего другого, кроме того, чтобы они по возможности лучше и убежденнее восприняли законы — словно окраску: их мнение об опасностях и обо всем остальном станет прочным благодаря их природным задаткам и полученному ими соответствующему воспитанию, и эту окраску нельзя будет смыть , никакими сильными щелочами — ни удовольствием, которое действует сильнее халестрииского поташа[162] и золы, ни скорбью, ни страхом, ни страстью, вообще ничем из подобных едких средств. Вот подобного рода силу и постоянное сохранение правильного и законного мнения о том, что опасно, а что нет, я называю и считаю мужеством, если ты не возражаешь.
— Я нисколько не возражаю, потому что, мне кажется, то мнение об этом предмете, которое, хотя оно н правильно, возникло помимо воспитания, как это замечается у животных и у рабов, ты не считаешь законным и называешь как-то иначе, только не мужеством.
— Сущая правда.
— Стало быть, я согласен с твоим пониманием мужества.
— Для верного понимания согласись еще и с тем, что здесь говорится о мужестве как о гражданском свойстве. Как-нибудь в другой раз мы, если хочешь, разберем все это получше, ведь сейчас наши поиски касаются не мужества, а справедливости. О мужестве, по-моему, пока что достаточно.
— Прекрасно, — сказал Главкон.
— Остается рассмотреть еще два свойства нашего государства: рассудительность и то, ради чего и предпринято все наше исследование,—справедливость.
— Да, конечно.
— Как бы это нам раньше найти, что такое справедливость, и уж больше не возиться с рассудительностью.
— Я лично не знаю, но мне не хотелось бы выяснять, что такое справедливость, прежде чем мы рассмотрим рассудительность. Если хочешь сделать мне приятное, рассмотри сперва ее.
— Я-то хочу и даже должен, если не ошибаюсь.
— Так приступай.
— Да, обязательно. Рассудительность, с нашей точки зрения, более, чем те, предшествовавшие, свойства, походит на некое созвучие и гармонию.
— Как это?
— Нечто вроде порядка[163] — вот что такое рассудительность; это власть над определенными удовольствиями и вожделениями — так ведь утверждают, приводя выражение "преодолеть самого себя", уж не знаю каким это образом. И про многое другое в этом же роде говорят, что это — следы рассудительности. Не так ли?
— Именно так.
— Разве это не смешно: "преодолеть самого себя"? Выходит, что человек преодолевает того, кто совершенно очевидно сам себе уступает, так что тот, кто уступает, и будет тем, кто преодолевает: ведь при всем этом речь идет об одном и том же человеке.
— Конечно.
— Но мне кажется, этим выражением желают сказать, что в самом человеке, в его душе есть некая лунная часть и некая худшая, и, когда то, что по своей природе лучше, обуздывает худшее, тогда говорят, 'по оно "преодолевает самое себя": значит, это похвала; когда же из-за дурного воспитания или общества верх берет худшее (ведь его такая уйма, а лучшего гораздо меньше), тогда, в порицание и с упреком, называют это "уступкой самому себе", а человека, испытывающего такое состояние, — невоздержным.
— Обычно так и говорят.
— Посмотри теперь на наше новое государство и ты найдешь в нем одно из этих двух состояний: ты скажешь, что такое государство справедливо можно объявить преодолевшим самого себя, поскольку нужно называть рассудительным и преодолевшим самого себя все то, в чем лучшее правит худшим.
— Я смотрю и вижу, что ты прав.
— Множество самых разнообразных вожделений, удовольствий и страданий легче всего наблюдать у женщин и у домашней челяди, а среди тех, кого называют свободными людьми, — у ничтожных представителей большинства.
— Конечно.
— А простые, умеренные [переживания], продуманно направленные с помощью разума и правильного мнения, ты встретишь у очень немногих, лучших по природе и по воспитанию.
— Это верно.
— Так не замечаешь ли ты этого и в нашем государстве: жалкие вожделения большинства подчиняются там разумным желаниям меньшинства, то есть людей порядочных?
— Да, замечаю.
— Значит, если уж признавать какое-нибудь государство преодолевшим и удовольствия, и вожделения, и самое себя, так это будет наше государство.
— Совершенно верно.
— А разве нельзя, согласно всему этому, признать его и рассудительным?
— Вполне можно!
— И опять-таки, если уж в каком-нибудь государстве и у правителей, и у подвластных существует e согласное мнение о том, кому следует править, то оно есть и в нашем государстве. Или ты не согласен?
— Вполне и бесспорно согласен.
— Раз дело обстоит так, то кому из них присуща, скажешь ты, рассудительность — правителям или подвластным?
— Вроде бы тем и другим.
— Ну, вот видишь, мы, значит, верно предсказывали не так давно, что рассудительность подобна некой гармонии[164].
— И что же?
— Это не так, как с мужеством или мудростью: те, присутствуя в какой-либо одной части государства, делают все государство соответственно либо мужественным, либо мудрым; рассудительность же не так проявляется в государстве: она настраивает на свой лад решительно всё целиком; пользуясь всеми своими струнами, она заставляет и те, что слабо натянуты, и те, что сильно, и средние звучать согласно между собою, если угодно, с помощью разума, а то и силой или, наконец, числом и богатством и всем тому подобным, так что мы с полным правом могли бы сказать, что эта вот согласованность и есть рассудительность, иначе говоря, естественное созвучие худшего и лучшего в вопросе о том, чему надлежит править и в государстве, и в каждом отдельном человеке.
— Я вполне того же мнения.
— Хорошо. Мы обозрели эти три свойства нашего государства. А оставшийся неразобранным вид, тот, благодаря которому государство становится причастным добродетели, что он собой представляет? Впрочем, ясно, что это — справедливость.
— Ясно.
— Теперь, Главкон, нам нужно, словно охотникам, выстроиться вокруг этой чащи и внимательно следить, чтобы от нас не удрала справедливость, а то она .ускользнет, и опять все будет неясно. Ведь она явно прячется где-то здесь: ты гляди и старайся ее заметить, а если увидишь первым, укажи и мне.
— Если б я только мог! Скорей уж следовать за тобой, рассматривая, что мне укажут, — вот на что я тебе гораздо больше гожусь.
— Так следуй, помолившись вместе со мною.
— Я так и сделаю, а ты веди меня.
— А ведь верно, здесь непроходимая чаща, кругом темно и трудно хоть что-то разведать. Но все равно — надо идти вперед.
— Да, идем!
Вдруг, заприметив что-то, я воскликнул: "Эй, Главкон, какая радость! Пожалуй, мы напали на ее след, мне кажется, она недалеко от нас убежала!"
— Благие вести! — сказал Главкон.
— Однако и ротозеи же мы!
— Как так?
— Милый мой, она чуть ли не с самого начала вертится у нас под ногами, а мы на нее и не смотрим — просто смех! Это вроде того как иной раз ищешь то, что у тебя в руках: е вот и мы смотрели не сюда, а куда-то вдаль, где она будто бы от нас укрылась.
— Как это ты говоришь?
— А вот как: по-моему, в нашей беседе мы сами себя не поняли, то есть не сообразили, что уже тогда мы каким-то образом говорили именно о справедливости.
— Слишком длинное предисловие, когда не терпится узнать!