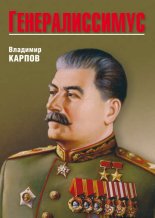Черчилль. Молодой титан Шелден Майкл

Прелюдия. Премьер-министр
Около полуночи в майское воскресенье 1941 года над Лондоном на фоне освещенного луной неба пронеслась громадная волна темных силуэтов самолетов. И там, где проносилась эта волна, раздавались взрывы и грохот обрушившихся стен. Огонь пожаров заливал улицы города, зарево вспыхнуло и над Вестминстерским аббатством, осколки ударили в башню Биг-Бена. Пожар охватил ту часть здания парламента, где располагалась палата общин, огонь пылал в помещении, где всегда горели самые жаркие споры. Сначала рухнула кровля, а затем перегородки. Град осколков, смешавшихся со штукатуркой, завалил обитые зеленой кожей скамьи — свидетелей многих знаменитых дебатов, продолжавшихся иногда по десять суток. Остались стоять только обгоревшие стены здания.
На следующий день после обеда, когда пожары еще продолжали полыхать на улицах города, и везде стоял горький запах дыма, Уинстон Черчилль подъехал к зданию парламента, чтобы оценить степень ущерба. Это была вторая весна войны против Адольфа Гитлера, и Черчилль только что отметил первую годовщину своего пребывания на посту премьер-министра Великобритании. К всеобщему изумлению, башня — хотя она и почернела от бесчисленных осколков — все же устояла. Биг-Бен продолжал отбивать положенное время. Поскльку авианалет происходил ночью, в здании парламента оставалось очень мало народу, и жертвами смертельной жатвы там стали только три человека, в том числе два полисмена. Однако во всем Лондоне число пострадавших людей составляло более трех тысяч убитых или раненых. Это была худшая ночь «блица» — воздушной кампании немцев против Англии.
Пробираясь сквозь завалы, Черчилль остановился возле обугленных балок и долго смотрел на почерневшие своды… Бледный свет солнца падал через обрушившуюся кровлю, освещая развалины кабинета, в воздухе все еще висела пыль. В том, что открылось взору Черчилля, не было ничего нового для него в методах врага. Конечно, с одной стороны, перед ним находились свежие развалины всего лишь одного знаменательного здания в том длинном списке уникальных памятников архитектуры, что пожрала бешеная фурия современной войны. С другой стороны, это было весьма символично — враг нанес прямой удар в самое сердце британской политической жизни. Гитлеровские бомбы угодили именно в тот дом, где заседало одно из самых важных и известных в мире демократических собраний. Как впоследствии высказался Черчилль: «Нашу старую палату общин разнесло вдребезги».
Но это была еще и личная потеря. Большую часть своей жизни премьер-министр провел в этой палате, почти сорок лет назад он начал свое продвижение с самого низа — еще совсем юношей с рыжими волосами, сияющими голубыми глазами и мальчишескими веснушками на лице. Он мог бы сказать: «Здесь я учился своему ремеслу». На этом полу стоял его отец — лорд Рэндольф Черчилль, объединившийся с Дизраэли против Гладстона. А в галерее для дам его (рожденная в Америке) мать — неукротимая Дженни — с гордостью слушала, как сын произносит первую речь в парламенте. Здесь он спорил со своими друзьями и противниками — с самых первых дней нового столетия. Здесь скрещивал шпаги с друзьями и врагами еще в начале века, когда в своих выступлениях он не уступал в остроте ума стоявшему у власти Джозефу Чемберлену, и в последующем, когда он в 1930-х годах ставил под сомнение отношение к Гитлеру младшего сына Чемберлена — Невилла.
Здесь он наслаждался минутами победы и стойко принимал удары поражений, произносил блистательные речи, а, случалось, нес полную чушь, выслушивал множество восторженных слов и негодующих выкриков недовольных. Он помнил тот знаменательный день в своей карьере, когда во время яростных дебатов противник швырнул в него толстый том — руководство для ведения прений. Книга угодила ему в лицо, пролилась кровь. Во время кризиса отречения 1936 года, когда он высказался в защиту Эдуарда VIII [1], шквал протестов обрушился на него, Черчилль был вынужден замолчать. Многие сочли, что его политическая карьера рухнула.
Как раз за три дня до того, как Гитлер задумал сбросить бомбы на это историческое здание, старый друг Черчилля и соперник с самых ранних дней — Дэвид Ллойд-Джордж, — произнес речь, в которой он обрисовал унылую картину того, как будет развиваться война. Это была его последняя речь. В ответном слове Черчилль противопоставил пессимизму Ллойд-Джорджа страстный призыв: «Я чувствую уверенность — мы не должны бояться бури, — сказал он в среду 7 мая. — Пусть она грохочет и неистовствует. Мы справимся с ней».
Никто не предполагал, что буря разыграется так скоро, и будет неистовствовать в том самом месте, где он произнес эти слова.
Теперь, глядя на разрушения, что принесло «огненное воскресенье», Черчилль почувствовал, как из глаз хлынули слезы. «Он не пытался их сдержать или смахнуть», — записал репортер, находившийся неподалеку. Замерев на некоторое время в лучах солнца, опираясь ногой на рухнувшую балку и сунув руку в карман пальто, он стоял словно статуя, каким-то чудесным образом выдержавшая бомбардировку.
Но уже через секунду, взяв себя в руки, премьер-министр решительно произнес: «Палата должна быть отстроена заново — точно такой, какой она была прежде».
А потом развернулся и осторожно двинулся к поджидавшей его машине мимо толпы людей, разгребавших завалы и сгоревшие бумаги. И при каждом шаге со всех сторон доносился названный потом «один из самых ужасных звуков войны — скрежет разбитого стекла». Однако Черчилль уже не выказывал никаких признаков разочарования или горечи. Он уверенно помахал рукой в ответ на приветственные возгласы узнававших его горожан.
История, как известно, любит победителей. Образ постаревшего торжествующего Черчилля, сложившего пальцы знаком «виктори» [2], долгое время перекрывал, оставляя в тени, — историю весьма энергичного молодого человека, который, быстро воспарив, занял весьма заметное положение на политическом небосклоне, но вынужден был покинуть его с разбитой вдребезги репутацией. Тем не менее, именно ранний период — наиболее колоритный в его деятельности — дает нам ключ к характеру выдающегося человека. То было время радостного воодушевления и устремления, время, полное драматических событий, политических интриг, личной храбрости и трагических ошибок.
Черчилль рассчитывал на более быстрый успех. Такому неутомимому и амбициозному человеку, как он, долгое ожидание всегда дается с большим трудом. Но к тому моменту, когда действительно наступил его час, — премьер-министру исполнилось шестьдесят пять лет. Зато он был более чем готов для деятельности и способен был предложить все, чего мир требует от героя (помимо обаяния и воодушевления молодости).
Нет сомнения, что великий человек, роняющий слезы на руинах парламентского прошлого, оказался лучшим лидером для того времени, потому что провел немало лет, подготавливая себя к этой деятельности. Был период в истории его жизни, — между двадцатью и тридцатью годами, во времена правления короля Эдуарда VII, — когда ему светил успех на мировой сцене, когда он обладал энергией и блеском молодости.
Но тяжелые испытания тех ранних лет выковали прочный стержень, стали сутью его характера. Именно благодаря этому он смог стать триумфатором Второй мировой войны. Деятельность молодого Черчилля подогревала мечта об успехе, — тот горючий материал, что позволил ему совершить эффектный политический взлет. Да, тот прорыв завершился драматическим провалом, отставкой Черчилля с высокого государственного поста. В сорок лет про него писали как о человеке, чьи лучшие дни остались позади.
Сам Черчилль признавался в старости: в те годы его так мало понимали, что в глазах многих людей он выглядел каким-то уродцем, которого с презрением и отвращением просто выбросили за борт. Но именно эти события оказались для Черчилля величайшим вызовом, ответом на который стала его дальнейшая жизнь и слава самого выдающегося государственного деятеля в новейшей истории Британии.
Вступление. Молодой титан
Уинстон Черчилль выдержал испытание на прочность, не сломался, споткнувшись в начале карьеры. Сознательно и вполне методично он из пылкого молодого человека становился героической личностью, потому что ясно осознал: настала эпоха «великих свершений».
Он выстроил свою карьеру как грандиозный эксперимент, чтобы доказать, что воля способна преодолеть все преграды, и целеустремленно следовал своим путем, не обращая внимания на неудачи и поражения, не прислушиваясь к беспощадным насмешкам тех, кто не разделял представлений о его высоком предназначении.
Многие современники Черчилля думали так же, как викторианский мудрец Томас Карлайл, что истории — это «биографии великих людей», однако принадлежал ли Черчилль к великим — всегда оставалось предметом самых жарких споров, а для некоторых остается под вопросом и по сей день.
А вот он сам почти никогда не сомневался относительно своего предназначения, и сам, без чьей-либо помощи, вознес себя на вершину и утвердился там как наиболее энергичный и неординарный политик Британской империи.
Движущая сила его характера — неуемный дух, неукротимая целеустремленность. Во многом формирование его характера было связано с романтическими идеалами, которые цвели пышным цветом во времена его юности, но и в старости эти идеалы не исчезли полностью. Мощная убежденность в личной воле сформировалась у него рано. «Я верю в личность», — провозгласил он в одном из своих первых выступлений на политической арене.
И тем самым завизировал четкое представление о том, что героизм мировых лидеров — не широкие жесты или безликая система. Суть их характеров в том, что они способны перекраивать историю.
«Мы живем в эру великих событий и маленьких людей, — сказал он, — чтобы не оставаться рабами своих собственных систем, надо, хладнокровно анализируя ошибки, снова и снова прилагать огромные усилия.
Отдельные мелочи политических платформ и манифестов никогда не были особенно важны для него, наибольшее значение он придавал тому, как энергично и решительно поступают выдающие лидеры, отвечая на вызов истории. С самого начала критики видели в нем жаждущего власти эгоиста, наделяя его ярлыками, вроде «олицетворение неуживчивости» или «темная личность первого класса». А он считал себя одаренным, творческим человеком с высокими устремлениями и решительными поступками. «Ничтожные люди, — доказывал он, — позволяют событиям тащить их за собой. А мне нравится то, что происходит и, если ничего не происходит, мне нравится делать так, чтобы все происходило».
Как отметил один из политических противников, ухо Черчилля было самым чувствительнейшим образом настроено на то, «чтобы улавливать звук сигнальной трубы истории». Уинстон отчетливо слышал этот звук в героической истории его предка — Джона Черчилля, первого герцога Мальборо, победителя в битве при Бленхейме в 1704 году [3]. Уинстон называл его «олимпийской фигурой», объясняя это тем, что герцог никогда не принял бы участие в сражении, где не смог бы выступить победителем, и никогда не стал бы штурмовать крепость, которую не смог бы взять. Воодушевление Черчилля уходит своими корнями и в честолюбивые устремления Бенджамина Дизраэли — политика, способствовавшего в свое время карьере его отца. И высказывание Уинстона относительно одного из самых выдающихся качеств Дизраэли можно полностью переложить на него самого: «Он любил страну романтической страстью».
Подобно молодому Дизраэли, он искал поддержку в страстной натуре лорда Байрона — мощного романтика, который сам творил свою собственную героическую жизнь. И даже в старости Черчилль поражал восхищенных поклонников, цитируя наизусть целые куски из поэм великого поэта. Он мог декламировать его часами, что стало открытием и предметом восхищения даже для его дочери Сары во время поездки в 1945 году: «Мой отец отдыхал и даже черпал силы, цитируя часами «Чайльд Гарольда» Байрона, а потом ему хватало полчаса, чтобы поспать». Когда в 1941 году Франклин Рузвельт предложил название для коалиции союзников «Объединенные нации», Черчилль быстро согласился и тотчас привел весьма уместные строки из Байрона о битве при Ватерлоо.
Черчилль не был человеком, который любит пускать пыль в глаза. С юношеских дней его притягивал Байрон и как пример невероятно деятельной личности, и как образец человека, поглощенного идеями. Он настолько проникся строками великого поэта, что они буквально пропитали его душу и мозг, так что оказывались у него всегда под рукой, когда требовалось подвести итог, дать определение той или иной идее или событию.
Одно из самых его выдающихся высказываний 1940 года, горькие слова о грядущих жертвоприношениях: «Мне нечего предложить вам, кроме крови, тяжкого труда, слез и пота», — всего лишь парафраз строки Байрона. Юный Черчилль рассматривал жизнь и деятельность поэта как величайшее приключение, борьбу за свободу и горделивое видение — они подпитывали его собственное воодушевление, служили примером высоких устремлений.
У них было много общего, начиная от аристократического происхождения и включая неожиданные выходки. Пусть и с большой разницей во времени, но они оба учились в Харроу. Того и другого завораживала загадка взлета и падения Наполеона, оба выставили небольшой бюст величайшего французского полководца на письменном столе. Черчилля в особенности завораживали поэтические строки Байрона относительно необузданных притязаний Наполеона (лихорадочных по своей сути, — как описал поэт). В промежутке между двумя мировыми войнами Черчилль стал членом Байроновского общества. Тогда же — в 1906 году — ему удалось приобрести 17-томное издание работ Байрона, которое он считал одной из самых ценных вещей, когда-либо купленных им. В его единственном романе «Саврола», изданном в 1906 году, выдуманное государство служит фоном для демонстрации неординарных выходок молодого протагониста Байрона, доблестного борца за свободу и романтика. Характер и склад своего героя автор описывает как «страстный, благородный, дерзкий».
Подобно Байрону, Черчилль также стал хроникером своей собственной истории. В серии книг, написанных с небывалой скоростью в двадцатилетнем возрасте, он описал свои приключения солдата и военного корреспондента. «Когда мне было 25 лет, — заметил он в старости, — я верил, тому, что писали в книгах, как откровениям Моисея». Благодаря лавине этих прозаических произведений из пяти книг и многочисленным газетным статьям, все в Британии знают назубок героические деяния молодого человека на трех континентах в промежутке между 1895 и 1900 годами. Он жил, как и полагается жить герою исторических книг — сражался вместе с бенгальскими уланами на границе Индии, выслеживал вместе с испанской армией повстанцев на Кубе, поднимался вверх по Нилу, чтобы принять участие в последней великой кавалерийской атаке британской армии в девятнадцатом столетии [4]. И, конечно, всем не менее известна самая драматическая страница его жизни — попадание в плен к бурам в Южной Африке [5], а затем побег и путешествие в сотни миль по вражеской территории [6]. «Он был действующим лицом своих романов, и описал все это».
Округлое лицо юного Черчилля не очень соответствовало мрачной чеканности поэтического облика байроновского героя. Но его воодушевление искупало эти недостатки. Он наслаждался рискованными ситуациями, обожал эффектные жесты, не слишком отягощал себя размышлениями о случившихся неудачах и поражениях. И он всегда поднимал планку для продвижения на более высокую ступень. Его путь освещал огонь, зажженный его отцом, чей запальчивый характер с постоянными взлетами и падениями и, наконец, ранняя смерть в 45 лет, — служили серьезным основанием для того, чтобы примеривать судьбу лорда Байрона на лорда Рэндольфа.
«Судьбы этих двух людей очень похожи», — написал редактор «Субботнего обозрения» в 1895 году о Рэндольфе и английском поэте вскоре после смерти отца Черчилля. «Мистер Мэтью Арнольд сказал про лорда Байрона, что это один из самых английских поэтов после Шекспира. И точно так же будет верным, если мы скажем, что со времени Кромвеля не было столь же мощного английского политика, как лорд Рэндольф Черчилль». Это высказывание, несмотря на явное преувеличение, произвело на Уинстона огромное впечатление. Впоследствии, отдавая должное редактору газету, он написал, что это «лучшая статья об отце из всех, что были о нем написаны».
Юный Уинстон пропитался политическим романтизмом Байрона до мозга костей. И многие из его современников эдвардианского времени отчетливо осознавали это влияние. Поклонники Черчилля видели в нем реформатора, призванного улучшить жизнь обычных людей, его высказывания и поведение напоминали им те времена, когда герои-победители выступали поборниками и защитниками слабых. Как заметил один из редакторов газеты, стиль и манера поведения молодого Черчилля вызывали в памяти «топот копыт лунной ночью, лязг клинков у дорожной заставы. Это было как порыв романтического ветра в застоявшейся политической атмосфере». Друзья говорили о нем: «Его мир спроектирован по лекалам героических времен. И он говорил на этом же языке».
Поверив в себя как в героя, Черчилль делал все, чтобы и другие воспринимали его таковым. Строки стихов Байрона, полные страсти, силы и энергии, его политический идеализм пришпоривали воображение молодого человека, определяя его видение мира и то, как этот мир должен воспринимать его самого.
Романтизм Черчилля не ограничивался рамками государственных дел. Биографы часто опускают тот факт, что его волновали вопросы любви. Они рисуют его как молодого человека чрезвычайного неловкого в обращении с женщинами, и утверждают: не стоит придавать значения его случайным, редким попыткам ухаживания — он-де всего лишь отдавал дань принятому в то время, соблюдал формальности. В реальности все выглядит иначе. Без всякой стыдливости или признаков неопытности, он, еще будучи подростком, стал завзятым поклонником красоток мюзик-холлов Лондона.
Однажды из-за этого он даже стал участником скандала в Имперском театре, защищая этих красоток от суфражисток.
«А где еще англичанин в Лондоне встретит радушный прием? — вопрошал девятнадцатилетний Уинстон Черчилль у своих приятелей перед тем, как его изгнали вон. — Кто всегда готов принять его с улыбкой, и выпить вместе с ним? Кто приветливее этих леди?»
Будучи человеком средних лет, Черчилль, вспоминая о той мятежной выходке, отозвался о ней вполне иронически, однако назвал ее «первым публичным выступлением». Между двадцатью и тридцатью годами он настойчиво ухаживал за самыми красивыми женщинами того времени и произвел на каждую из них такое неизгладимое впечатление, что, даже отказавшись выйти за него замуж, они остались его самыми преданными друзьями до старости. И все три запомнили его не как зеленого юнца, неуверенного в себе молодого человека, а как совершенно сформировавшегося мужчину. Мужчину, который играл в поло, любил посещать картинные галереи и музеи, часто бывал на спектаклях в Вест-энде, жадного книгочея и страстного поклонника женской красоты.
Молодая элегантная красавица Консуэло Вандербильт (ставшая после замужества его кузиной), описывая Уинстона тех лет, «пылкого и полного энергии», — говорила, что «он всегда стремился получить от жизни как можно больше — в спорте, любви, приключениях или политике».
Он был столь «страстным», что когда решил, наконец, жениться, то провел целую неделю вдали от своей невесты: отправился в отдаленный замок в Шотландии, где его ждала не менее преданная и не менее влюбленная в него молодая девица, чтобы услышать от него объяснение, почему он принял такое решение. Я отведу должное внимание описанию насыщенной сложными эмоциями поездки несколько позже, однако заранее хочу отметить, что это будет сделано впервые.
Будучи холостяком, он пытался играть роль денди: брал с собой тросточку для ходьбы, надевал блестящий цилиндр, крахмальные воротнички, фрак. Из кармашка свисала, как и положено, цепочка для часов. Его вкусовые пристрастия распространялись, в том числе, и на нижнее белье — оно всегда было самым дорогим и сшито из шелка самого лучшего качества. «Это чрезвычайно важно для моего самоощущения», — говорил он в оправдание своих расходов. Что весьма типично для него — отдавать предпочтение самым дорогостоящим вещам — лучшему шампанскому и прекрасным сигарам. «Не было ни одного дня в жизни, — вспоминал он, — когда бы я не мог заказать бутылку шампанского для себя и другую — для друзей».
Даже в самом начале своей карьеры его выражения и остроты привлекали к нему внимание. В 1900 году, когда он почти победил на выборах в парламент, Уинстон дал такое определение политическим кандидатам: «собираясь встать, они хотят сесть и при этом намереваются солгать».
Молодой человек также весьма едко отзывался о нравах сверкающего блеском эдвардианского времени, когда о женщинах судили по количеству драгоценностей, которыми они были увешаны, словно троянская Елена. Когда кто-нибудь из друзей отмечал, что та или иная молодая красавица заслуживает, по крайней мере, двух сотен кораблей, Черчилль отвечал: «А на мой взгляд, вряд ли она заслуживает больше китайской лодчонки или, в лучшем случае, канонерки».
В пятьдесят лет Черчилль подвел итог своей политической деятельности той поры «Ранние годы», заставив читателей удивляться и поражаться, как этот — пусть и выдающийся в свое роде молодой человек, но еще не женатый, еще не проверенный как политический деятель, сумел пробиться в первые ряды в той системе, где продолжали главенствовать солидные и весьма опытные мужи. В следующих главах я попытаюсь разобраться в том, как Черчилль — после его отставки — наметил путь к возращению: от делающего первые шаги политика к выдающемуся политическому деятелю. Это путешествие началось в 26 лет и закончилось к 40 годам.
В последних главах истории, когда новое столетие ознаменовалось первым вооруженным нападением со стороны Германии, все взгляды были прикованы к нему — он тогда исполнял обязанности первого лорда адмиралтейства и готовил флот к военным действиям. В те бурные дни он оставался самым молодым человеком в правительстве и многие надеялись, что именно он станет премьер-министром.
Но уже через год все пошло наперекосяк. Один за другим рушились его планы, или же повисали в воздухе, не получив должной поддержки. Друзья повернулись к нему спиной, а враги объединились, чтобы сбросить его. Слишком, слишком поздно молодой человек понял, что возлагал надежды на тех, кто намеревался столкнуть его, и что его великие идеи пока не имеют точки приложения.
Его обвинили в неудаче Галлиполийской кампании в Средиземном море, британская пресса величала его человеком «опасным для страны», и он, в конце концов, потерял то место, что занимал в правительстве. Немецкие журналисты насмехались над ним, предлагая именовать его «графом Галлиполийским» (Earl of Gallipoli), и даже более — современным Люцифером по той причине, что он «пал с небес — как прекрасная утренняя звезда — одного из лондонских сезонов». В 1915 году он отправился во Францию, чтобы сражаться в окопах, смиренно приняв звание майора. [7]. Поражения открывали ему новые возможности для достижения успеха, но сначала ему пришлось, испытывая мучительную боль, просидеть долгие годы на скамье запасных игроков.
А между взлетом и падением ему удалось выстроить современный морской флот, попробовать провести коренные социальные реформы (сражаясь и с теми, кто не считал такие реформы достаточно радикальными), преодолеть серьезные опасности, нажить могущественных противников и приобрести несколько друзей, влюбиться несколько раз, стать мужем и отцом, раздражать и вызывать восхищение двух британских монархов, осознать всю мощь германской военной машины, когда он принял участие в маневрах с кайзером Вильгельмом. Он рисковал своей жизнью в воздухе, обучаясь мастерству пилота, утвердил наказание для злостных убийц, и встретил лицом к лицу убийственный шквал артиллерийского огня на Западном фронте.
Кипучий, полный энергии, он упивался своими талантами искусного политика, тем, что способен переиграть более зрелых и более опытных противников. Его потрясающее умение — как члена законодательного органа — преодолевать бюрократические препоны и политические помехи, чтобы как можно быстрее добиваться желаемого, поражало одинаково и тех, кто им восхищался, и тех, кто его критиковал.
Встретив с открытой душой новый реформаторский дух эдвардианской эпохи, он вознамерился взорвать свежими подходами старые проблемы.
Профессиональные и личные разочарования становились для него школой обучения, осознания важности такой добродетели, как терпение, и понимания всей опасности, что таит в себе самонадеянность.
В дружбе он высоко ценил верность и опасался предательства.
К сорока годам он хорошо понимал, как высоко может вознести его талант и как глубоко он может пасть. Политические пристрастия его со временем менялись, но постоянным оставалось твердое следование декларации, принятой в молодости: «Я верю в личность». Постижение сути этой личности и есть главная цель данного биографического исследования.
За все время жизни — от 30 ноября 1874 года, когда премьер-министром был Дизраэли, до 24 января 1965 года, когда музыка группы «Битлз» стала главным экспортным товаром Британии — Уинстон Черчилль сыграл немало ролей на политической сцене. Если бы он умер в сорок лет, — когда удача изменила ему, а юность уже осталась далеко позади, — все равно описание его жизни могло бы стать одним из самых замечательных в истории столетия: как трагическая драма крушения амбиций. К счастью для нас, есть еще и другая часть его жизни.
Часть I. 1901–1905 гг
I. Новый мир
Холодной зимней ночью — когда свершался переход от предыдущего столетия к новому — молодой человек двадцати шести лет, сидя в душном вагоне поезда, писал письмо, обращенное к прекрасной женщине. Из окна вагона открывался вид на бесконечные, занесенные снегом степные просторы под необъятным звездным куполом неба. Он находился более чем в четырех тысячах миль от дома, страшно устал и испытывал чувство одиночества. Последней станцией был Сент-Пол, город в штате Миннесота, а впереди — граница с Канадой.
«В поезде на Виннипег, — записал Уинстон Черчилль черными чернилами, затем в самом вверху листа добавил дату, — 20 января 1901 г. — и, минуя приветствие, начал просто, — Памела…».
Он обращался к девушке, которая стала величайшей любовью его юности. Отдавая дань ее красоте и обаянию, он объявил Памеле, что она «ярчайшая звезда на небосклоне лондонского общества».
И, действительно Памела считалась в Англии одной из самых заметных фигур в светском обществе. А еще Уинстон признавался (когда их знакомство только завязалось), что она «необъяснимым образом завораживает его». К величайшему сожалению, очень многие мужчины испытывали те же самые чувства, что и он.
Почти за два года Уинстон отправил ей огромное количество писем, полных пылких признаний. «Моя любовь сильна и глубока, — уверял он в одном из писем. — Ничто не сможет ее поколебать».
Они познакомились в Индии, когда им было по двадцать два года. Уинстон служил в 4-м Собственном Королевы гусарском полку, а Памела была дочерью колониального чиновника. Как-то они вместе отправились в поездку на слонах, потом пообедали у нее в доме, а затем перебрасывались вежливыми фразами на вечеринках. И только полтора года спустя, когда оба вернулись в Англию, Уинстон понял, что влюбился. Но обворожительную красавицу с блестящими темными волосами, соблазнительными зелеными глазами и фигуркой фарфоровой статуэтки осаждали толпы поклонников. Она неизменно становилась центром притяжения на каждом балу и постоянно проводила время в окружении блестящих мужчин. Позже один из ее друзей так отозвался о беззаботном времяпровождении красавицы: «она плела самую блестящую золоченую паутину тех дней».
Пытаясь противостоять соперникам, Черчилль старался произвести на Памелу впечатление силой своих слов. Однажды утром почтальон доставил к ее дверям увесистую бандероль с его произведением «Саврола», а также письмо, в котором автор излагал идею книги — как «зеркало» его собственного ума и представлений. Он писал, что будет признателен, если она окажет честь и прочтет текст. Когда ни этот, ни другие подобные приемы не помогли ему одолеть соперников, он увеличил ставку. «Если ты выйдешь за меня замуж, — написал он несколько месяцев спустя, — я завоюю мир и положу его к твоим ногам».
Сам Уинстон воспринял столь экстравагантное обещание вполне серьезно, но Памелу Плоуден оно не тронуло. Время шло, и Черчилль вновь вернулся к прежним приемам, пытаясь завоевать сердце красавицы письмами, и ждал очередного удачного момента, чтобы произвести на нее впечатление. Во время Англо-бурской войны в Южной Африке, (где англичане сражались за золото, алмазы и империю против независимых голландских поселенцев), отделенный от любимой тысячами миль, Черчилль подпитывал свое чувство, вглядываясь в три портрета Памелы, которые он носил в особом бумажнике. Находясь в плену у буров, он в конце 1899 года писал ей из Претории записки, полные храбрости и юмора: «В новой среде, полной ярких событий, часто думаю о тебе».
Бедственное положение, в котором он оказался, ничего не изменило в отношениях, но тронуло ее. Когда его мать сообщила девушке, что Уинстону удалось бежать из тюрьмы и что он остался жив, Памела ответила телеграммой в два слова: «Слава богу!»
Ободренный тем, что, вернувшись, он стал героем, Уинстон решился снова попытать счастья. «Никто не поймет ее так, как я», — уверял он мать девушки. В погожий октябрьский день 1900 года он снова сделал ей предложение. И выбрал для этого подходящее столь возвышенному моменту место. Его друг, графиня Уорвик, пригласила Памелу провести у нее уик-энд — в родовом великолепном средневековом замке. Высоко вознесенные вверх башни с бойницами выглядели декорациями, и полный надежд искатель руки пригласил Памелу поплавать по не менее волшебной в своей красоте реке Айвон, которая протекала под стенами замка. Пока они просто скользили на лодке по глади реки, все шло прекрасно. И он решился. Отказ сразил его и разбил сердце.
И все же, даже после этого отказа, покидая Англию в декабре, чтобы прочесть лекции о Южной Африке в организованном для него турне по Канаде и Соединенным Штатам, — Уинстон по-прежнему считал: Памела — «единственная женщина, с которой я могу быть счастливым». Теперь, три месяца спустя после сделанного им предложения руки и сердца, — в вагонном купе, которое освещала тусклая лампочка, он писал ей очередное письмо. И пока поезд мчался по северной Миннесоте к канадской границе, романтическое признание под стенами замка все более представлялось ему дурным сном. Наверное, ему казалось, что письмо, отправленное с другого конца земного шара, каким-то образом размягчит сердце и убедит несговорчивую девушку.
Он уже стал международной знаменитостью, «удивительным парнем», который умеет и сражаться, и писать. Его будущее выглядело ослепительным. Газеты в Виннипеге отмечали его приезд как одно из главнейших событий, и неслыханная толпа — такую прежде никогда не удавалось собрать, — ожидала его перед лекцией. Набранное черным жирным шрифтом сообщение о его выступлении в виннипегском театре гласило: «Уинстон Спенсер-Черчилль. Война, какой я ее видел». Цены на билеты, которые сначала продавались за десять центов, взлетели до полутора долларов.
Рядом с его романом «Саврола» в витринах магазинов Виннипега были выставлены «Из Лондона до Ледисмита через Преторию» — историю его борьбы за свободу в Южной Африке, и двухтомник «Речная война» — описание британской кампании в Судане, где он тоже отличился незаурядной храбростью. О последней книге, вышедшей в 1899 году, американский военный корреспондент Ричард Хардинг Дэвис написал: «Такую работу следовало бы ожидать от генерала, прослужившего долгие годы в Египте, прежде чем он сменил меч на перо и описал подлинные события своей жизни. Но для второго лейтенанта, который пробыл на Ниле ровно столько, чтобы едва успеть покрыться загаром пустыни, — это истинное откровение» [8].
Уинстон пообещал Памеле завоевать весь мир и положить к ее ногам, а он относился к числу мужчин, которые убеждены, что сумеют этого добиться. Но пока что она повергла его наземь. И сейчас, независимо от того, где она находилась, Памела продолжала дразнить его воображение, ее образ преследовал молодого человека, и он по-прежнему пребывал в уверенности, что она должна занять свое место в том будущем, которое ему виделось. «Если то, что есть между нами, — писал он из поезда, — не окрепнет, мы утратим его навсегда».
Главным препятствием, стоявшим у них на пути, были деньги. Все ожидали, что такая выдающаяся красавица, как Памела, должна выйти замуж за весьма состоятельного мужчину с впечатляющим будущим. «Она должна стать женой богатого человека», — вежливо утверждал полковник Джон Брабазон — командир Черчилля в гусарском полку [9], когда узнал, что Памела не собирается выходить замуж за его подчиненного.
Вообще-то Уинстон — внук графа Мальборо, — надеялся, что должен унаследовать какое-то количество денег. Однако лорд Рэндольф оставил в наследство только долги, а мать Уинстона, которую он так любил, чрезвычайно общительная женщина, умела только тратить. (Друзья говорили о Дженни: «Для нее жизнь начинается не меньше, чем с четырех десятков пар обуви».)
Огромной удачей для семейства стала женитьба герцога Мальборо на Консуэло Вандербильт — дочери американского миллионера. В результате чего Санни получил в приданое несколько миллионов долларов. Санни — кузен Уинстона — или, как его полагалось величать, — Чарльз Ричард Джон Спенсер-Черчилль, 9-й герцог Мальборо. Пару лет — пока еще Консуэло не родила в 1897 году первого из двух сыновей — Уинстон считался следующим по линии, кто должен унаследовать титул и все богатства, включая и родовое поместье — дворец Бленхейм. Но он не выказывал особого интереса к тому, чтобы стать просто герцогом, когда перед ним открывалось столько дорог к славе.
Даже его собственная бабушка — наследие викторианских времен, носившая по-прежнему кружевные чепчики и пользовавшаяся слуховой трубкой, — не считала его достойным наследником потомственного титула. Слишком уж он был амбициозным и самоуверенным с ее точки зрения. Свекровь, герцогиня Фанни, можно сказать с порога, объявила молодой невестке: «Ваша первейшая обязанность — родить ребенка, и это должен быть сын, ибо мне невыносимо даже подумать, что герцогом станет этот выскочка Уинстон».
Большинство считало, что у Санни колючий характер, но Уинстон всегда был его преданным другом и старался видеть в нем только самое лучшее. «Мы с Санни были как родные братья», — напишет позже Черчилль. В свою очередь молодой герцог гордился своим кузеном и был счастлив предоставить тому возможность появляться во дворце Бленхейм в любое удобное время, когда только заблагорассудится.
К тому времени у Уинстона появилась новая работа, но она никоим образом не обеспечивала его в финансовом отношении. А если точнее, вообще не приносила ни пенни. В начале октября молодой герой Бурской войны успешно начал свою политическую карьеру. Он выиграл на выборах от манчестерского предместья Оулдем и занял место члена палаты общин от партии консерваторов. Победа Черчилля стала сигналом победного шествия партии в осенних выборах 1900 года, и его, когда он явился в палату в феврале, сразу приняли как восходящую политическую звезду, которая должна оживить деятельность партии. В этих новых обстоятельствах желание сделать повторное предложение Памеле выглядело вполне уместно. Но и эта попытка оказалась безрезультатной. Похоже, его новая работа не показалась столь уж привлекательной для невесты.
Близкий друг Памелы, ее наставница в светской жизни леди Грэнби, впоследствии герцогиня Ратленд, и мачеха Памелы (поскольку ее родная мать задолго до того умерла от укуса змеи в Индии), не колеблясь ни секунды, советовали девушке дождаться предложения от более подходящего кандидата. Черчилль догадывался о том, что эти советчики не расположены к нему. Еще до отъезда в Африку он писал Памеле, пытаясь разобраться в их отношениях: «Для женитьбы необходимы два условия — деньги и согласие родственников с обеих сторон». Не в состоянии добиться согласия, он предпринимал усилия, чтобы доказать, насколько удача сопутствует ему. И сразу после возвращения с войны вынашивает честолюбивые замыслы.
Как и полагалось члену палаты после выборов, он провел встречи, рассказывая о Бурской войне, по крайней мере, в двух десятках городов, и хвастался, что должен получить около двух тысяч фунтов за этот тур. Желающих послушать его в ноябре оказалось так много, что пришлось устроить повторное выступление. И, конечно, именно поэтому он надеялся существенно пополнить свои доходы от тура в Америку. Поездка началась в декабре. И вот теперь локомотив увлекал его к заснеженному Виннипегу.
В котелке и стильном двубортном пальто с отделанным мехом воротником, Черчилль прибыл в Виннипег в понедельник, 21 января 1901 года около полудня. Его приветствовала небольшая группа организаторов. И в том числе с иголочки одетый местный финансовый магнат, исполнявший обязанность вице-губернатора. Температура упала до десяти градусов по Фаренгейту, пронзительный холодный ветер мел по улицам снег, и настроение в городе было мрачное. Но виной тому стала не метель, не погодные условия. Местные жители давно привыкли к холоду.
Причина крылась в последних новостях, которые легли тенью на этот отдаленный форпост империи. «Четырнадцать сотен миль от любого британского городка», — воскликнул по этому поводу Черчилль. Набранные огромными шрифтами заголовки, как готовые обрушиться каменные глыбы, изменили привычный ход жизни: «КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ ПРИ СМЕРТИ, ОНА ДОЖИВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ».
Новость об ухудшении здоровья королевы, — ей исполнился 81 год — уже успела широко распространиться за последние несколько дней, а теперь, когда все осознали близость конца, стало ясно, что с ее уходом нарушится и устоявшийся, привычный порядок. «Это выглядело так, словно некий монстр повернул ход истории, — писал известный историк. — Большая часть населения даже не представляла периода, когда бы королева Виктория не правила ими».
Ее смерть выглядела как одно из самых значительных событий, даже для тех, кто находился рядом с нею, кто имел возможность видеть, что она страдает и мучается не менее самого обычного человека. «Ее последние часы, — как заметил герцог Аргайлл, — вызывали такое ощущение, будто тонет огромный трехпалубный корабль. При этом она сохранила способность шутить перед тем, как затонуть».
Еще до отправления в Канаду, Черчилль видел первые сообщения о том, что королева при смерти, и даже упоминал об этом в письмах к Памеле. И хотя он не знал всех подробностей происходящего у него на родине, тем не менее, он был способен представить, какие изменения могут произойти в поствикторианском мире.
Вполне возможно, считал Уинстон, что парламент распустят и что ему в самое ближайшее время снова придется вступить в предвыборную борьбу. А это также означало, что придется отменить тур и потерять деньги, которые он мог получить за свои выступления. Несмотря на столь неудачно сложившиеся обстоятельства, он пытался небрежно шутить, обращаясь к Памеле: «Только посмотрите, как смерть королевы осложнила мои планы. Ее смерть взбудоражила не только нацию, но также и Уинстона».
Однако эта историческая драма для намеченного выступления в театре Виннипега — города, где проживало только пятьдесят тысяч жителей, — обернулась весьма удачным образом. На вечернюю лекцию Черчилля было продано более тысячи билетов, поэтому к обычным стульям пришлось приставлять добавочные в конце зала и перед оркестровой ямой. Для этих канадцев, живших так далеко и от узкого круга королевской семьи, и от аристократического общества, и членов палаты, сын лорда Рэндольфа — Уинстон Черчилль — выглядел связующей нитью, непосредственным представителем правящего класса империи. И каждый готов был потратить даже больше доллара только для того, чтобы послушать выступление человека, проделавшего пять сотен миль и предоставившего им возможность поговорить с ним именно в тот момент, когда величайшие перемены уже накрывали их с головой.
То громадное внимание, с которым встретили его лекцию, воодушевило Черчилля, поскольку его лекции по ту сторону границы проходили не столь успешно, как он надеялся. Выступления в Британии принесли ему доход, и он надеялся выручить намного больше в Америке. Однако его надежды не оправдались, и он получил чуть не вполовину меньше того, что заработал на родине. В некоторых городах публики в зале было маловато, слушала она рассеянно, а то и откровенно недоброжелательно, иной раз имело место и то, и другое. Например, в Вашингтоне из кассового сбора его выручка составила всего лишь пятьдесят долларов, в Балтиморе — тридцать пять, а в Хартфорде сумма выглядела просто позорно — десять долларов!
Многие американцы немецкого или голландского происхождения отождествляли себя с бурами, боровшимися за независимость, поэтому они без всякой симпатии взирали на молодого человека, который прославился тем, что сражался на стороне колониальной державы.
Что же касается американских ирландцев, то они вообще питали застарелую ненависть к англичанам, и Черчилль отчетливо видел, насколько враждебно они настроены. «… в Чикаго меня встретила крикливая толпа», — вспоминал он. Только один раз аудитория разразилась аплодисментами на выступлении Черчилля, когда он для иллюстрации использовал во время лекции «магический фонарь», демонстрируя диапозитивы с грозными фермерами-бурами, вооруженными до зубов для предстоящей схватки. В ответ Черчилль заметил, что разделяет их восхищение воинской доблестью поселенцев, однако ему хотелось бы напомнить об одном факте: что у него лично не было возможности любоваться голландскими воинами с безопасного расстояния. «Вы правы, аплодируя им, но вам не доводилось встречаться с ними лицом к лицу».
Надо отметить, Черчилль уже давно доказал, что обладает способностью направлять возмущение толпы в нужное русло. Во время октябрьской предвыборной кампании кто-то из собравшихся решил поиздеваться над его молодостью и выкрикнул: «А твоя мамочка знает, что ты здесь?» На что Уинстон тотчас отозвался: «Да, сэр, и более того, когда после подсчета голосов, назовут имя избранников, моя мама узнает, что я буду в списке».
Тур Черчилля в Америку организовал весьма претенциозный менеджер — майор Джеймс Понд, — тоже герой (он получил Медаль Почета во время Гражданской войны). У старого вояки была привычка расписывать в самых радужных тонах и с самыми пышными преувеличениями будущие успехи того или иного лекционного турне. А когда оказывалось, что надежды не сбылись, он весьма пространно и дотошно объяснял, почему результаты оказались столь плачевными. Один из его самых знаменитых клиентов — Марк Твен, однажды сказал другому лектору: «Если ты получишь хотя бы половину того, что тебе обещает Понд, вознеси хвалу Господу, потому что с другими подобного не случалось». Черчилль осознал горькую правду слишком поздно: при продаже билетов майор забирал львиную долю себе. Уинстон устроил ему скандал и пригрозил прервать поездку, хотя она подходила к середине. Что касается майора («вульгарного янки-импресарио», — как именовал его Черчилль), то он в свою очередь негодовал из-за того, что клиент живет на широкую ногу и расходует слишком много, так что счета так и сыпятся со всех сторон.
«Вы представляете, что вытворяет этот юный нахал? — сетовал майор в разговоре с друзьями. — Каждое утро он выпивает за завтраком пинту шампанского, а я должен оплачивать это!»
Противостояние достигло кульминации в декабре, когда они прибыли в восточную часть Канады. Черчилль решил, что должен воспользоваться некоторым преимуществом — ведь он оказался почти в родных пенатах, и объявил наглому янки, что не поедет снова в Штаты, дабы завершить тур, если не получит приличный гонорар. Это заявление Черчилль сделал 27 декабря во время лекции в Оттаве. Майор был чрезвычайно удивлен, что его клиент возмущается, и решил надавить на него.
Майор выглядел как библейский патриарх — широкие плечи, длинная седая борода, — когда он с высоты своего роста, вытянув палец, словно указывал на грешника, потребовал от Черчилля (который был всего лишь пяти футов и восьми дюймов роста), чтобы тот продолжил тур во что бы то ни стало. На что молодой человек невозмутимо ответил, что отменяет выступление, которое должно было состояться в Онтарио.
— Понд, я не приду на выступление, — объявил он. — Зачем мне это? За лекцию в Оттаве я получил всего лишь 300 долларов!
— Ты отказываешься от выступления в Брантфорде? — уточнил майор.
— Да… и от всех других, где бы то ни было, на прежних условиях.
Старый вояка не привык к непослушанию. Он получил Медаль Почета за отличие в жесткой схватке с бандой конфедератов-рейдеров под предводительством Уильяма Квонтрилла — безжалостного противника, — и, конечно, не собирался уступать юному Черчиллю просто так. [10].
Он слил свои жалобы и недовольство прессе, и вскоре газеты по обе стороны границы выставили Понда несчастной жертвой неблагодарного английского аристократа, которого ничто не волнует, кроме денег, и который бесчестно нарушает принятые обязательства. «Уинстон Черчилль не пользуется в нашем городе популярностью», — написал канадский репортер после того, как явившиеся на лекцию граждане получили компенсацию. Но это все равно испортило им вечер.
«Твое заявление прессе принесло изрядный ущерб», — сердито втолковывал Черчилль своему импресарио. Впрочем, тот и сам быстро сообразил, что поднятая им волна становится неподконтрольной и это грозит не только его собственной репутации, но и всем лекционным поездкам, которые он организует.
Так в противостоянии двух героев войны — старого и нового, — старый вынужден был уступить требованиям Черчилля и увеличить гонорар за выступления.
«Нам удалось прийти к мирному разрешению вопроса… но на моих условиях, — гордо отчитывался о случившемся Уинстон в письме матери, — и я намереваюсь продолжить поездку».
Скрипя зубами, он согласился снова на изнурительное расписание выступлений в Мичигане, Иллинойсе, Миссури и Миннесоте, прежде чем вернуться в Канаду для встречи в Виннипеге. В самом конце ему так и не удалось добиться выплаты гонорара, причитавшегося за последние лекции.
Но чего он не смог изменить, так это тот сильно навредивший ему образ, что создал Понд вместе с газетчиками. Это было особенно прискорбно, учитывая, насколько Уинстон дорожил мнением одной особы, присутствовавшей в данный момент в Канаде.
Когда его противостояние с Пондом стало притчей во языцех, он как раз остановился в особняке генерал-губернатора в Оттаве, и среди присутствовавших там гостей находилась и Памела Плоуден. Она приехала навестить подругу — леди Минто — жену генерал— губернатора.
Разумеется, Черчилль задолго до того узнал о том, что Памела будет в той же самой точке Канады, куда должен приехать и он. А поскольку до поры до времени тур проходил вполне успешно, он надеялся еще раз воспользоваться возможностью продемонстрировать девушке, что его успех не случаен и что ему рано или поздно удастся уладить вопрос с деньгами. А вместо этого, когда он приехал к лорду и леди Минто в элегантный Ридо Холл, турне расползалось по швам, а его самого швыряло на волнах критики из-за того, что он осмелился спорить с Пондом.
Во время краткого свидания Памела была с ним вежлива, но держалась отстраненно. «Хороша как всегда и судя по всему счастлива», — к такому выводу пришел Уинстон после встречи с девушкой, которая два месяца назад ответила ему отказом. «Мы не затрагивали болезненные точки», — единственное, что он мог сообщить матери в очередном письме, где описывал разговор с Памелой. А ведь он надеялся, что Памела увидит его во всем блеске славы, станет свидетельницей его триумфа, того, с каким восторгом принимает канадская публика юного лектора, а также осознает, что поток долларов на каждой лекции не иссякает. И вот, благодаря глупой выходке Понда, триумфальное шествие оказалось сорванным. Мрачнее тучи Черчилль покинул Оттаву, а Памела вскоре вернулась к своей обычной светской жизни в Лондоне. Старый майор — а он умер через три года после того тура, — даже не подозревал, насколько он навредил юному англичанину.
В этом долгом и длинном путешествии по Северной Америке до Виннипега часть неприятностей, помимо ссоры с импресарио, была вызвана его поведением. Например, грубость по отношению к посетителям отеля в Сент-Поле. Но местные газетчики, не сделав ни малейших попыток разобраться, в чем суть происшедшего, тотчас обрушились на Черчилля, называя его первостатейным хамом, и сочли, что его поведение вызвано мальчишеской бравадой. Многих американцев и в самом деле раздражала бросающаяся в глаза самоуверенность Черчилля, его чрезмерная гордость Британской империей, и они нашли, за что ухватиться, чтобы обрушиться с упреками. Даже доброжелательный Рузвельт [11] сразу почувствовал неприязнь к юноше, когда они встретились — это произошло через неделю после приезда Черчилля. А позже Рузвельт критиковал молодого политика за то, что тот выказывал «откровенное стремление заполучить дешевое восхищение». Ему хватало своих президентских хлопот, чтобы терпимо относится к «хулиганствующему проповеднику». Дочь Рузвельта, Элис Рузвельт Лонгуорт, когда ее спросили (к тому времени она была уже в преклонном возрасте), почему отец так пренебрежительно отнесся к Черчиллю, ответила: «Потому что они были очень похожи».
Несмотря на то, что Виннипег с его близлежащими городками не сулил ничего особенного, именно в этом месте состоялось лучшее выступление Черчилля, поскольку он наконец получил возможность обратиться к обширной и доброжелательно настроенной аудитории. Он почувствовал прилив воодушевления, когда, подъехав в снежном полумраке к театру, увидел человек пятьсот, ожидавших возможности получить билеты на стоячие места. Несколько человек заметило экипаж, но узнать Уинстона было трудно — так плотно он запахнулся в новое меховое пальто, купленное во второй половине того же дня в магазине Компании Гудзонова залива на Мэйн-стрит. Оказавшись за кулисами, Уинстон тотчас бросился к занавесу, чтобы посмотреть в щелочку на собравшихся в зале. Как уверял впоследствии директор, такого количества народу в театре не было никогда: пришли люди самых разных сословий. Представители высшего класса удобно устроились в ложах, а рабочий люд теснился вдоль задней стены. Сливки общества, расположившиеся ближе всего к сцене, производили внушительное впечатление. Черчилль даже пошутил: «Мужчины облачились в вечерние наряды, а леди «только наполовину».
«Толпа будоражила его», — написал Черчилль про своего героя Савролу, и нет сомнения, что то же самое волнение охватывало его, когда гас свет, распахивался занавес, и он выходил на сцену. После бурного взрыва аплодисментов, которыми встретили появление лектора, Черчилль начал рассказывать, как он — военный корреспондент — прибыл в Южную Африку, как попал в плен при нападении хорошо вооруженного отряда буров на британский бронепоезд, и как сумел бежать через три недели. Полностью поглощенная драматическим описанием событий, аудитория, затаив дыхание, внимала тому, как Черчилль использовал созвездия, чтобы сориентироваться в незнакомой местности, как буры напрасно пытались обнаружить его следы. На счастье Уинстона, ему встретилась рабочие, которые тайно поддерживали британцев, и они предоставили беглецу временное убежище. Несколько дней он прятался в угольной шахте.
«Компанию мне составили только белые крысы с розовыми глазками. Однако, — продолжал он, обращаясь к замершей толпе, — меня каждый день снабжали свежими газетами, и я каждый день читал сообщения буров о том, как меня ловили в очередной раз, переодетого то так, то эдак. В умах людей о бурах сложилось представление как о людях грубых и невоспитанных, и при всем моем уважении к представлениям интеллигенции и к их воображению, должен признать как журналист, что газеты буров ничем не отличаются от тех, что выпускает цивилизованный мир».
Уинстон то острил, то затрагивал самые тонкие струны в душах людей, постоянно держал их в напряжении, описывая, как ему удалось тайком пробраться и спрятаться в поезде, который направлялся в португальскую Восточную Африку. И только там — измотанный и изрядно потрепанный, но уже свободный, — он обратился в британское консульство.
Даже в момент выступления, чувствовалось, что Уинстон смакует переживания, доволен своей ловкостью и тем, что добился успеха, несмотря на препятствия. «Даже звезды помогали мне, — обмолвился он, — указывая путь в полной темноте». Когда он закончил речь, когда затихли последние аплодисменты, наверное, кто-то из сидевших в зале призадумался, что еще оставили для него звезды про запас? К 26 годам Черчилль успел столько сделать, что этого хватило бы на несколько жизней.
А текущие события шли своим чередом. И нет сомнения, что Уинстон ждал чего-то из ряда вон выходящего. Ведь из новостей на газетных полосах он уже знал про болезнь королевы, а это означало серьезные грядущие перемены в самое ближайшее время. Он даже зачитал перед аудиторией последнюю сводку о состоянии ее здоровья, и когда поздней ночью лекция закончилась, многие думали, что, проснувшись утром, они узнают, что Виктория умерла.
Не желая упустить самые последние новости, встревоженный Черчилль в сопровождении помощника губернатора отправился в губернаторскую резиденцию, чтобы провести там ночь. Он был желанным гостем, пел дифирамбы городу Виннипегу. «Великий город, — восклицал он, — и жизненно необходим для будущего империи. Западная часть Канады — это британский хлебный магазин, и когда я вернусь, то непременно сообщу избирателям моего округа, что говорил с теми, кто снабжает их хлебом. Эти слова, — как он потом запишет с чувством удовлетворения, — заставили слушателей просто раздуться от гордости».
На следующий день — в час дня — в Виннипег пришло телеграфное сообщение из Оттавы, что королева умерла в своем доме на острове Уайт. «Наша добрая королева умерла», — так начиналось одно из объявлений. Колокола начали траурный перезвон, когда Черчилль уже шел к станции. По лекционному расписанию он должен был покинуть город вскоре после двух часов пополудни на поезде по Большой северной железной дороге. Ему надо было снова возвращаться в Штаты. Кое-кто из продавцов уже выставлял в витринах магазинов портреты королевы в траурной рамке. А на главной городской площади уже успели задрапировать бюст королевы, что возвышался напротив здания муниципалитета.
Черчилль был тронут мгновенным откликом на случившееся. «Этот город, находившийся так далеко в снегах, — заметил он позже, — склонил головы и приспустил флаги». Он уже получил сообщение о том, что парламент не будет распущен, а это означало, что он может довести до конца лекционное турне, которое должно было продлиться еще десять дней. Для него был забронирован билет на пароход, отплывавший из Нью-Йорка в начале февраля. И за два месяца напряженной работы он в итоге должен был получить на руки 1 600 фунтов, вместо намеченных, как он надеялся, 5 000. Но когда он подвел итог тому, что заработал за прошедшие два года — лекциями и гонорарами за напечатанное, — то счел окончательную сумму вполне достаточной. «Я горжусь тем, — писал он матери, — что не найдется ни один другого человека из миллиона, кто бы в моем возрасте мог заработать 10 000 фунтов меньше, чем за два года, не имея никакого первоначального капитала».
Эти деньги чрезвычайно пригодились ему в течение нескольких лет, пока он пытался утвердиться в качестве наиболее заметной фигуры в палате общин.
Теперь, как ему представлялось, у него было все для того, чтобы приобрести вес у молодого наследника королевы Виктории, — короля Эдуарда VII — талант, амбиции, кураж, связи, немного удачи и одна-две счастливых звездочки. Только Памела — или кто-то, похожий на нее, — ускользал из наброска этой картины.
Один из нью-йоркских репортеров, якобы пытаясь прояснить историю с побегом Уинстона в Южной Африке, спросил: «Говорят, что некая голландская девица влюбилась в вас и помогла бежать. А вы сами утверждаете, что это была рука Провидения. Что же на самом деле является правдой?» Черчилль, не мешкая ни секунды, ответил: «Иногда это одно и то же!» — и засмеялся тому, как удивительным образом соединились любовь и звезды.
II. Семейные дела
Спустя пять лет после гонки за приключения в различных частях земного шара, оставив за спиной более шести тысяч миль дороги, измученный Черчилль ночью 10 февраля 1901 года вернулся домой. Уютные комнаты уже были готовы к его приезду в величественном терракотового цвета здании в Мэйфере — фешенебельном районе Лондона, — которое арендовал кузен Санни. Уинстона поджидали кипы писем и газет, которые надо было рассортировать и прочитать. Он счел, что заслужил право предаться лени на несколько недель, чтобы наверстать упущенное на любовном фронте и восстановить тот прежний образ жизни, что он вел в Лондоне — в этом «пропитанном дождями сердце современного мира» — как называл Лондон Герберт Уэллс.
А еще приятно было пережить почти забытое удовольствие — ложиться спать и просыпаться в одной и той же кровати. «Я выступал не менее часа, а то и более каждый вечер, исключая субботы, случалось, что и по два раза в день, и мне почти не удавалось дважды лечь спать в одном и том же месте».
Но вот он под крышей родного дома. И у него была надежда насладиться не только коротким отдыхом. Когда король Эдуард, в своей мантии, подбитой горностаем, распахнул двери парламента, одетый в траурный костюм Уинстон тоже пришел отдать дань королеве. А после обеда он уже давал клятву верности как новый член парламента. И выждав всего неделю, подготовил первую речь. Как правило, очень редко кто из новичков позволял себе высказаться так скоро, обычно проходили месяцы, а то и годы, прежде чем они решались на то, чтобы обратиться к палате. Но Черчилль не мог ждать, когда начнут поступать проценты от вложенного капитала, чтобы после этого привлечь к себе внимание. Нет, он намеревался нарушить привычное течение прений, ворвавшись в зал заседаний как торнадо. В конце концов, он уже привык за последнее время выступать и перед гораздо большей аудиторией, так что вряд ли его устрашит пристальное внимание членов парламента.
Однако это все-таки была не совсем обычная аудитория. Палата общин была местом, где выступали самые блестящие ораторы страны, изощренные спорщики, знавшие все приемы риторики, те, кто оттачивал свое умение и мастерство, выступая в прениях в течение многих лет. Самые видные члены палаты выступили с первой речью тогда, когда Уинстон еще карапузом ползал под столом. Лидер палаты общин — худощавый, невозмутимый, никогда не теряющий присутствия духа, патриарх Артур Бальфур, выиграл первые выборы еще до рождения Уинстона. В течение долгих лет за ним утвердилась и продолжала сохраняться репутация изощренного спорщика, чьи мгновенные реплики могли в пух и прах разбить доводы оппонента.
На скамье оппозиционеров восседал Герберт Асквит — общепризнанный мастер сорока девяти лет, барристер (адвокат высшего ранга), закончивший Оксфорд. Из-за прямого, методичного стиля выступлений он заслужил у своих приятелей либералов прозвище «кузнечный молот».
Во время лекционного турне Черчилль не раз убеждался, что может держать внимание слушателей, хорошо закрутив интригу выступления, но теперь ему предстояло доказать, насколько ловко он владеет умением строить доказательства. Но он готовился к этому уже много лет, и провел немало дней, оттачивая доводы и возможные ответные реплики, хранил все в памяти, осознавая, что ничто не должно пропадать зря. Стоя в своей комнате перед зеркалом, он представлял, что обращается к членам палаты. И это стало для него самым излюбленным способом подготовки к выступлению. «Весь день, — вспоминали друзья, — можно было слышать, как из его спальни доносятся громогласные восклицания, перечисление тех или иных сведений, сопровождаемых гулким стуком по мебели». Все у него должно было быть совершенным, начиная с лацканов длинного сюртука и заканчивая его манерой, сжав кулак, выбрасывать его вперед.
Из предосторожности он решил написать шпаргалку — главные тезисы речи — и держать ее на всякий случай в руке. Но вообще он доверял своей способности запоминать и держать в памяти нужные вещи. «Стоит мне раза четыре прочитать опубликованную статью, — как-то похвастался он перед скетчрайтером парламента, — и она настолько врезается в память, что я могу тотчас свободно процитировать ее без ошибок или искажений».
Несколькими годами ранее он изложил свои взгляды на ораторское искусство в статье «Стропила для риториков», в которой приходит к выводу, что во всех исторически значимых речах выступавшие использовали общие слова в особенном ритме, чтобы нужные идеи образовывали единый неизгладимый из памяти образ (откладывались в памяти целиком). В особенности его привлекал Уильям Дженнигс Брайан, подвергавший в 1896 году страстной критике золотой стандарт: «вы не натянете на бровь рабочего этот терновый венец, вы не распнете человечество на зототом кресте». Со времени взросления и до преклонных лет Черчилль настраивал зрение и слух на то, чтобы улавливать яркие сопоставления и неожиданные сравнения, а затем переносить их в эссе, «лозунги партии и кредо для всей нации». Он гордился своей известностью молодого человека, готового к рискованным затеям, но ему также хотелось, чтобы в нем уважали и эрудита. Конечно, Уинстон не раз сожалел, что не получил должного — университетского — образования, но он всегда оставался самым лучшим педагогом для себя, и использовал самым лучшим образом возможность читать то, что хочется. В политических сражениях он не гнушался использовать вроде бы затертые сведения, подкрепляя их новейшими сведениями и фактами, вникая в проблему глубже, чем его противники. Пока другие политики собирали данные из различных статей, разбросанных в газетах, или обсуждали вопрос с кем-то на вечеринках, Уинстон перерабатывал целые шкафы книг. Описывая свои первые шаги на политическом поприще, Уинстон — сам не без удивления — отмечал, что он «жил с Синими книгами (представляющими из себя собрания дипломатических документов или иных материалов, издаваемых для представления парламенту, а также разным парламентским комиссиям) и засыпал, обнимая энциклопедии». Те, кто был близок ему, сомневались, что он позволял себе много спать. «Его работоспособность, — писал современник, — была просто чудовищной, соизмеримой только с его не менее колоссальной страстностью. Даже не могу себе представить, когда он отдыхал или спал».
18 февраля члены парламента возвращались с обеда, чтобы начать вечернюю сессию. Асквит и Бальфур заняли свои обычные места. Газовые лампы, спрятанные за стеклянными панелями, мягко освещали узкую комнату дебатов, в конце которой возвышалось кресло спикера с балдахином, посередине располагался длинный стол с книгами, а по бокам — дубовые скамьи.
Дебаты следовало заканчивать к полуночи — правда, случалось, что они затягивались намного позднее, — и многие из посетителей считали, что помещение лучше всего выглядело именно в ночное время с «отблесками света, полное теплоты, горячности и движения». Когда стало известно, что сын лорда Рэндольфа собирается выступить, пять рядов скамеек с обеих сторон стола тотчас оказались заняты, точно так же, как и все места на галерее, предназначенные для журналистов и гостей. Войдя в комнату, Черчилль почувствовал, как все взгляды обратились в его сторону. И никто не спускал глаз, пока он шел на свое место, сжимая в руках небольшой листок бумаги с написанными от руки тезисами. Один из репортеров счел, что молодой человек «выглядел как выглядит новый актер на сцене, где вот-вот начнется репетиция, и от которого ждешь чего-то необычного». Пожелание Уинстона занять угловое место во втором ряду позади правительственной скамьи было принято, — на этом месте члены палаты привыкли видеть его отца.
Уинстон был счастлив этим незримым сопоставлением с лордом Рэндольфом, чей мраморный бюст, украшая фойе, находился буквально в нескольких шагах. Свою первую речь Черчилль весьма мудро решил произносить в очень спокойной манере, избегая выделения повышением тона каких-то отдельных моментов из соображений красноречия. Друзья и родные советовали ему, что лучше всего выбрать что-то одно, в чем он лучше всего разбирался, и в сдержанной, скромной манере спокойным тоном изложить данный факт. Поскольку Бурская война все еще продолжалась, он решился обратиться именно к этой теме, к тому, что необходимо как можно скорее прийти к общему соглашению и заключить мир.
В первую очередь следовало в зародыше погасить возможное сопротивление, а потом браться за самых твердолобых политиков, разбивая их доводы. Это была бы разумная стратегия, но он нашел другой способ — более естественный и убедительный — описать все происходящее в понятных и доступных пониманию каждого — самого обычного — человека в стране. «Буры были вынуждены, — сказал он уже ближе к концу речи, — из-за оскудевающих ресурсов двинуться навстречу все возрастающим трудностям, которые не просто накатываются волнами, но поднимаются как морской прилив». Он четко и ясно обозначил, что у него нет ни малейшего желания оскорбить или унизить противника или стереть их с лица земли. Но надо сделать все для того, чтобы их сопротивление причиняло им массу трудностей и становилось для них пагубным, в то время как сдача и прекращение сопротивления должно проходить как можно проще и быть окружено почетом».
Необходимо принять и осознать, что другая сторона имеет свое чувство долга, которое необходимо понимать и уважать. «Если бы я был буром, — сказал он, — не сомневаюсь, что тоже бы сражался на поле боя». Это заявление вызвало возгласы протеста среди тори, но сбалансированный подход, выбранный им, завоевал поддержку тех, кто выступал против войны — на противоположных скамьях. В заключительной части выступления, отойдя в сторону от политической темы, он решил выразить благодарность памяти отца в самых теплых и искренних выражениях сыновнего благоговения (его слова потом широко цитировали). Он не стал называть лорда Рэндольфа по имени, но от этого его обращение становилось еще более действенным, — он тем самым обращался к тому, что все уже заведомо знали. «Я не могу сесть, — сказал он, обведя взглядом забитое людьми помещение, — после того, как закончил свою речь, продолжавшуюся 45 минут, — не сказав, насколько я благодарен членам палаты за доброжелательность и терпение, с которыми они выслушали меня, и я догадываюсь, что это не только из-за меня лично, но благодаря тому блистательному прошлому, о котором многие уважаемые члены и по сей день хранят память».
В общем и целом это был многообещающий дебют и многие сочли выступление успешным. «Дейли Телеграф» отметила, что Черчилль «оправдал высокие ожидания», а «Дейли Экспресс» сочла, что он «сумел удержать внимание битком забитой людьми палаты»… К концу выступления он по-прежнему держался очень хорошо, но потом ему пришлось скрестить руки на груди, чтобы скрыть нервозность. Некоторые обозреватели сосредоточились в основном на описании того, как молодо он выглядит, что его вообще можно принять за «парня лет восемнадцати». Другие были разочарованы: в прессе они читали о его невероятных приключениях, а во время выступления не увидели ничего героического, проступили только какие-то отдельные штрихи той авантюрной фигуры. «В палате общин были десятки людей, которые более соответствовали идеальному образу смельчака и путешественника, — объяснял один из репортеров, — Возможно, виной тому портной, который не сумел подчеркнуть достоинства молодого человека, но когда он сегодня поднялся, нашему взору предстал не подтянутый, крепко сложенный солдат — именно таким, каким мы представляли его себе, — а вялый старшеклассник». Не способствовало улучшению впечатления и то, что молодой человек испытывал сложности в произношении пяти букв!!! Он боролся с этим дефектом годами, следуя советам специалистов и без конца повторяя скороговорки, типа: «Во дворе трава, на траве дрова…!» (в английском оригинале — The Spanish ships I cannot see, for they are not in sight, «испанские корабли я видеть не могу, потому что их нет на виду»).
Недооценить Черчилля было легко. Но те, кто успел узнать его получше, осознавали: за тем, что доступно взору, скрывается нечто большее. Они-то знали, что под тесным двубортным сюртуком Черчилля скрывается шрам на плече. Военный врач в пыльной палатке полевого госпиталя вырезал у него часть плоти после битвы при Омдурмане. И это была не его личная рана. Один молодой офицер жестоко страдал от того, что впоследствии назовут «шокирующим сабельным разрезом на его правой руке». И ему требовалась трансплантация. Черчилль согласился выступить донором и отдать ему часть кожи. Так называемая операция была проделана предельно простым способом: врач бритвой срезал нужный кусок — без всякой анестезии. «Это была адская боль!».
Уинстон редко касался этой темы, но в храбром поступке не было ничего от «вялого старшеклассника». А, например, описывая обычный пикник, который организовала палата общин, он прибегал к таким преувеличенным выражениям, как: «утомительный и воодушевляющий», «ужасный, щекочущий нервы и изысканный».
Часть гостей, что с особенным вниманием слушали выступление Черчилля, имели возможность наблюдать за ним, стиснутые со всех сторон рядами сидений, за медной мемориальной доской, которая занимала довольно много места на галерее, отведенной для гостей женского пола. Мать Черчилля пришла в сопровождении Консуэло Мальборо и других женщин из клана, чтобы оказать сыну поддержку. Но согласно установленным правилам, всю эту группу — с глаз долой — усадили так, чтобы их закрывала довольно внушительного размера декоративная металлическая решетка. В этой части галереи было темновато. И все это пространство — так называемую «секцию для избранных» — заполняли солидные дамы в шелках и атласе, в шляпах с перьями — и только спикер имел право заглянуть туда. Но для тех, кто не имел возможности зайти к ним, они казались расплывчатыми пятнами, и, как писал один из современников, «выглядели, словно потускневшее лоскутное одеяло».
Дженни Черчилль отлично знала это место. Она частенько приходила сюда послушать Рэндольфа, когда он находился в зените славы и когда у него выдавались особенно удачные дни. Она привыкла к тому, что эти места для женщин на галерее неудобные и даже унизительные, и пыталась высказать свое неудовольствие: «Все упрятано на восточный манер от взора мужчин, — написала она в 1908 году, — пятьдесят, а то и более женщин вынуждены толпиться в темной, тесной маленькой клетке, которую невежливые правительственные чиновники отвели для нас. Леди в первом ряду, стиснутые со всех сторон, упирающиеся коленями в металлическую решетку, с вытянутыми вперед шеями и вывернутыми самым неестественным образом головами, чтобы хоть что-то услышать, должны были испытывать благодарность за то, что удостоились такой чести. Те же, кто располагался во втором ряду — полностью зависели от учтивости тех, кто был перед ними, и иной раз могли получить хороший тычок. А остальные вообще должны были полагаться на свое воображение или просто перебраться в маленькую заднюю комнатку, где они могли пошептаться и выпить по чашке чая». Когда в 1885 году Герберта Гладстона, сына премьер-министра, спросили, нельзя ли провести на галерею отдельное освещение, тот выступил против этого. Согласно официальным отчетам о дебатах, проведенных в парламенте, он объяснил, почему принял такое решение: «леди приходят, чтобы услышать и увидеть, что происходит в парламенте, и я не думаю, что газовые фонари прольют больше света на суть дела. В эту запись не включено мнение женщин, сидящих в полутьме. Для многих холостяков, заседающих в парламенте, скрытая полумраком галерея для женщин превращалась в некий куртуазный символ. С вычурной трогательностью, один из эдвардианских авторов описывал, как молодой член парламента после того, как выступил с яркой речью, получил письмо. «Прочитав записку, он поднял взгляд к галерее и улыбнулся, сияющим сквозь решетку глазам». Слуги, сновавшие по коридору между «чайными комнатами» и «клетками», довольно часто выполняли и другую работу — переправляли записки от членов парламента наверх, к женщинам, на которых они хотели произвести впечатление.
Предполагалось, что женщины будут сидеть на галерее молча. По меньшей мере четыре надписи, призывающие к молчанию, были прикреплены на стенах галереи. Но шепотки, доносившиеся то с одной, то с другой стороны, всегда привлекали внимание Дженни. Она считала, что эти женщины — самые лучшие проводники, отмечающие изменчивость фортуны политиков, выступавших внизу, и всегда очень прислушивалась, что говорят эти «проводницы», планируя, кого им пригласить на очередной званый ужин, а молодые красотки высматривали того, чье сердце им следовало покорить. У нее был прекрасный слух и, к удивлению своих друзей, она могла передавать подслушанный разговор с поразительной точностью выражения и даже мимики.
— Это и есть мистер…? — восклицает хорошенькая блондинка, обращаясь к своей соседке.
— Одолжите мне, пожалуйста, лорнет. Да, это он. Не могу поверить, что мы сегодня будем вместе ужинать! (Ш-ш-ш, — останавливает ее родственница выступающего).
— С нами обращаются так ужасно! Мне кажется, я должна послать ему записку с церемониймейстером. (Ш-ш-ш!). — И я могу сразу же получить ответ — это так удобно! (Ш-ш-ш!) — Что это за мерзкая женщина, которая все время шикает на меня?!
Дженни, вместе с внушительной гвардией ближайших родственниц, приехала пораньше, чтобы подбодрить сына и выказать ему поддержку.
Вместе с Консуэло — графиней Мальборо (как всегда увешанной драгоценностями Вандербильдов), она привела за собой четырех тетушек Уинстона во всем их аристократическом убранстве. Это были младшие сестры лорда Рэндольфа — Корнелия, Розамунда, Фанни и Джорджиана — все умопомрачительно красивые и все удачно вышедшие замуж. Наибольшим уважением Уинстона пользовалась Корнелия — леди Уимборн, состоятельная и влиятельная в политическом мире хозяйка дома. Ее приглашение на ужин в лондонский особняк с видом на Грин-парк, — ценилось очень высоко. И сама Дженни, и ее родственник с хорошими связями, вовремя, незаметно, но деятельно помогали продвигаться Уинстону так, что политические противники могли только горько восклицать: «Да, за душой Уинстона ничего нет. Его счастье, что у него за спиной стоит такая умнейшая в Англии женщина. Вот что на самом деле стало залогом его успеха!»
Дженни тоже использовала свое влияние в поддержку Уинстона. С ее обаянием и знанием общества, она облегчала его заграничные путешествия и помогала удовлетворить политические амбиции дома, для чего достаточно было произнести нужное слово в нужное время, подталкивая к этому наиболее влиятельных редакторов газет, государственных деятелей или военных. «Она не пропустила ни одной веревочки, за которую нужно было дернуть, ни одного камня, который можно и нужно было перевернуть, и ни одной неиспробованной котлеты», — шутил Черчилль в зрелом возрасте.
Когда ему в 1898 году до зарезу нужно было заполучить какую-нибудь должность в армии лорда Китченера в Судане, он первым делом обратился за помощью к Дженни. «Ты умная, тактичная, и красивая, — писал он ей, — и сумеешь обойти все препятствия», имея в виду, что матери придется нажать на все кнопки, начиная от принца Уэльского и кончая самыми низшими чиновниками. Хотя такт не был самым сильным ее местом, но в том, что касалось красоты и ума, в этом ей нельзя было отказать. Дочь торговца и спекулянта с Уолл-стрит, который потерял состояние так же быстро, как и приобрел его, она росла в Нью-Йорке и Париже. В двадцать лет она вышла замуж за Рэндольфа — к величайшему огорчению всех ее родственников, надеявшихся на более богатого жениха. С первых же дней совместной жизни начались столкновения двух абсолютного непохожих характеров: гордого, неуравновешенного мужа и страстной, темпераментной молодой жены. Где бы она ни появилась, головы всех тотчас в полном восхищении поворачивались вслед за ней.
Потерявший голову, ослепленный ею в первые же дни, лорд Россмор задумчиво сказал на старости лет: «Многие светские красавицы появлялись и исчезали, но, думается, мало кто из них, разве что две-три, могли сравняться с нею». Одна из внучек королевы Виктории описала Дженни такой, какой она только что появилась в Лондоне, — «всплеск красоты»… У нее были огромные темные глаза, подвижный, хорошо очерченный рот, с насмешливо загнутыми уголками, блестящие, иссиня-черного цвета волосы». Марго Асквит описывала, что ее будто удар молнии сразил, когда она впервые увидела леди Рэндольф: «У нее был крутой, как у пантеры, лоб, широко расставленные глаза, которые смотрели сквозь вас; она настолько обворожила меня, что я шла следом, пока не наткнулась на человека, который мог бы сказать, что это за особа». Она околдовывала и мужчин, и женщин своим экзотическим видом. Кто-то, восхищаясь, назвал Дженни «тропической красавицей», и, чтобы усилить этот эффект, она носила сверкающие браслеты и бриллиантовую звезду в волосах, которая всякий раз испускала сноп искр, как только она вскидывала голову.
На одном из запястий у нее была изящная татуировка в виде змейки — работа Тома Райли (лучшего художника по тату), и временами она ловила чей-то потрясенный взгляд не верящего своим глазам человека. Но змейку было не так просто заметить. Как уверяла «Нью Йорк Таймс» в номере от 30 сентября 1906 года: «Мало кто догадывается о том, что на левом запястье есть искусно сделанная татуировка — ее скрывает широкий браслет, который она неизменно надевает с вечерним платьем».
Ей нравилось шокировать людей, и она знала, что некоторые даже ждут, что она скажет или выкинет что-нибудь из ряда вон выходящее. Ей — как американке — уже заранее предоставлялось право на большую свободу в этом старомодном мире установленных традиций, и она говорила такие вещи в таких случаях, когда, в общем, намного разумнее было бы придержать язык за зубами. Сначала предубеждение англичан возмущало ее, но со временем она стала смотреть на вещи проще и даже научилась извлекать из своего происхождения максимальную выгоду. В первые годы своего замужества она восклицала: «В Англии, как и в Европе, на американок смотрят как на странных и даже слегка ненормальных существ с привычками и манерами, напоминающими то ли краснокожих индианок, то ли гаитянок. И поэтому считается, что она способна на любую, самую дикую выходку. Если она хотя бы просто хорошо причесана, одета и говорит, как полагается говорить воспитанному человеку, все бывают поражены и «тактично» отмечают при знакомстве: «Никогда бы не подумала, что вы американка».
Ее нелегко было осадить. Однажды, когда она намеревалась углубить знакомство с Бернардом Шоу и пригласила его на ланч, он отправил резкий ответ, с весьма расплывчатой ссылкой на то, что он как вегетарианец не хочет сидеть за одним столом с теми, кого он называл, «плотоядными людьми». Телеграмма, отправленная им, начиналась со слов: «Конечно нет!», а потом он добавил: «Что я такого сделал, что вызвало нападение на мои всем хорошо известные привычки?» Дженни тотчас поставила его на место, ответив: «Ничего не знаю про Ваши привычки: надеюсь, что они не так ужасны, как Ваши манеры».
Скромный и умеренный Бернард Шоу был ей менее симпатичен, чем его надменный и капризный соперник в театральном мире Оскар Уайльд. У нее были излюбленные места в текстах его пьес, и как-то она заспорила с каким-то гостем, когда цитировала эти строчки и никак не могла убедить, что автор этих строк — именно Оскар Уайльд. Дженни заключила пари, и отправила драматургу записку с просьбой, чтобы он засвидетельствовал ее правоту. Уайльд ответил незамедлительно: «Какие мужчины глупцы! Им следует прислушиваться к тому, что говорят умнейшие женщины, и любоваться их красотой, а когда, как в данном случае, женщина одновременно наделена и острым умом и красотой, то надо просто признать, что она служит источником вдохновения». Да, продолжал поэт и драматург, она совершенно точно процитировала именно его строки, когда говорила друзьям: «Единственная разница между святым и грешником в том, что у всякого святого есть прошлое, а у каждого грешника — будущее».
Несмотря на то, что в самый ранний период светская жизнь отнимала у нее большую часть времени и она не могла уделять ни Уинстону, ни второму сыну — скромному и исполнительному Джеку — много внимания, Дженни была столь нежно любящей, столь полной воодушевления, что сыновья просто обожали ее. Конечно, их огорчала ее порывистость и непредсказуемость, — никогда не знаешь, почему и по какому поводу у нее вдруг резко изменилось настроение. Дженни могла забыть про день рождения, оставить письмо без ответа, внезапно объявиться и тотчас не менее внезапно исчезнуть, так что иной раз у сыновей оставалось ощущение, что это некое мимолетное видение, а не реальный человек. Чтобы не застревать на обидах и негодовании, Уинстон пытался утешиться, доказывая, что на самом деле Дженни — неуловимая и бесплотная «принцесса фей».
Ее мало занимали маленькие мальчики, в отличие от молодых людей. Именно в юношеском возрасте Уинстон вдруг осознал, что у него есть пылкий и горячий союзник, на которого он может положиться. Он полностью принял вовлеченность матери в светскую жизнь (абсолютно бесполезное для него занятие) — и неизменно восхищался ее готовностью бросать вызов всем условностям. Ему страшно нравились ее дерзость, верность, проказливая улыбка, легкий смех. Истоки независимости ее характера он находил в ее вольнолюбивом отце, который отваживался на самые смелые и рискованные операции в жестоком и беспощадном мире финансистов с Уолл-стрит. Эта отвага восхищала Уинстона. Разглядывая в более позднем возрасте фотографии нью-йоркского дедушки Леонарда Джерома, Черчилль заметил: «Какая мощь! По сравнению с ними — я выдрессирован!».
Близкие подруги завидовали Дженни, и не только потому, что в свои 47 лет (когда Уинстон произнес первую речь) она по-прежнему выглядела молодой и красивой, но и потому, что спустя пять лет после смерти лорда Рэндольфа она вышла замуж за одного из самых привлекательных холостяков Англии, к тому же моложе ее почти на двадцать лет. Заядлый спортсмен, приятнейший в обхождении, Джордж Корнуоллис-Уэст не был выдающимся человеком, но Дженни очаровала его атлетическая фигура, усы военного, крепкий подбородок и светлые глаза. Он выглядел намного старше своих лет, а на самом деле был всего на две недели старше Уинстона. Когда Джордж в конце 1890-х годов влюбился в Дженни, он подумал: «Ей ни за что не дашь больше тридцати, а ее живость и очарование только подтверждают это впечатление моложавости».
Он был родом из хорошей семьи, но ему не выпало удачи как-то проявиться самому. Родители Джорджа пришли в ярость, что он не пытается выгодно жениться, и остановил свой выбор на хорошенькой вдове, весьма стесненной в средствах, да к тому же на двадцать лет старше его. Они подняли такую протестную волну, что, как написали в одной газете, это была почти «светская война», которая разразилась между леди Рэндольф и матерью Джорджа. Что касается большей части друзей Дженни и родственников, все они пришли на свадебную церемонию, состоявшуюся в июле 1900 года. Но скамьи в церкви, что отвели для родственников жениха, остались пустыми. Как правило, подобного рода браки становились причиной большого скандала, и неудивительно, что Дженни вдруг осознала, что ее подвергли остракизму со стороны большей части светского общества. Даже принц Уэльский отговаривал ее выходить замуж за Джорджа. Тем более показательна мера ее чрезвычайной значимости в аристократическом обществе, если и сам принц и другие лица из этого же круга в конечном итоге смирились с ее выбором, пришли на бракосочетание или же прислали подарки.
Дженни прекрасно осознавала, как сильно она рискует и что ее второе замужество может стать очень коротким. И в то же время она нисколько не сомневалась, что должна доиграть эту пьесу до конца. Впоследствии красавец-мужчина Джордж скажет о ней: «Если ее привлекало нечто прекрасное, она должна была завладеть этим: ей просто хотелось, чтобы у нее это было, и ей никогда даже в голову не приходило остановиться и подумать, каким образом она будет расплачиваться». Похоже, Джордж сам не осознавал, но он оказался таким «чем-то прекрасным», чего она возжелала, и ни он, ни она не дали себе труда задуматься, а как же они будут жить вместе? «Конечно, романтические отношения не могут длиться вечно, — соглашалась Дженни с друзьями, — но почему не получить того, чего хочется, даже если потом придется за это расплачиваться и кто-то станет несчастным?»
В американских газетах писали, что свадебная церемония в церкви Св. Павла в Найтсбридже выглядела чрезвычайно угнетающе. Джордж заметно нервничал у алтаря, в то время как леди Рэндольф «просто упивалась происходящим и самой собой». Да, Дженни была создана для того, чтобы веселиться и наслаждаться жизнью. Санни повел новобрачную, а Уинстон сделал все, чтобы выказать матери радость — встретил ее в церкви с широко раскинутыми для объятий руками. Без всякого энтузиазма он встретил это замужество, но ему не хотелось огорчать мать, и он сразу заявил, что не сделает ни малейшей попытки отговорить Дженни от принятого решения. Самое главное, писал он ей, «твое счастье — главный и самый важный советчик».
Чего опасались друзья и близкие, в том числе и Уинстон, то и произошло — Дженни пожалела о случившемся. Но в первые годы она действительно была счастлива, и с гордостью произносила вместо «леди Рэндольф Черчилль» — «миссис Джордж Корнуоллис-Уэст». А вообще-то по-настоящему расплатился за ее опрометчивый поступок только Уинстон. Ее нашумевшая свадьба последовала в июле — менее, чем три месяца спустя после предложения, которое он сделал Памеле Плоуден. У Памелы было много серьезных оснований, чтобы сказать «нет», но замужество Дженни стало последней каплей. Вряд ли молодой девушке хотелось стать невесткой столь неординарной и противоречивой натуры, как Дженни. Если бы она согласилась стать женой Черчилля, это означало, что она должна была принять и весь груз ответственности не только за его личные притязания и амбициозные планы, но и за всю семью, в состав которой она должна была войти, — то есть принять столь выбивающихся из обычного ряд светских дам Дженни и Консуэло, но и других не менее импозантных дам, которые в феврале восседали в галерее, чтобы своими глазами увидеть, как юный отпрыск из рода Черчиллей озарил своим первым явлением палату общин.
Так что для Уинстона не стало неожиданностью, когда спустя несколько недель он, встретив Памелу в Лондоне, обнаружил, что ее взгляд на их отношения не переменился. Она была счастлива видеть его в числе своих друзей, но ничего более. Только одна вещь изменилась со дня их последней встречи, как он в отчаянии написал матери: «она была еще красивее».
III. Рожденный для противостояния
За несколько лет до того, как он выиграл выборы в парламент, Черчилля пригласил на ланч старый викторианский политик, карьера которого уже шла к закату — «копия Фальстафа», так называли Джимбо. Сэр Уильям Вернон Харкорт имел слабость, глядя поверх золоченой оправы очков, «выкладывать парламентские секреты» впечатлительному молодому человеку, завоевавшему благосклонное внимание старика. При росте Харкорта в шесть футов и три дюйма, вся громадная масса его тела колыхалась и дрожала, когда он смеялся собственным шуткам, которые пересказывал из года в год много лет подряд. Но Черчилль был настроен самым серьезным образом и искренне наделся выяснить что-нибудь относительно будущего: «Какие события могут произойти в ближайшее время»? — допытывался он у старика.
— Мой дорогой Уинстон, — отвечал сэр Уильям, — опыт долгой жизни научил меня: на самом деле ничего не происходит.
Он поддразнивал юношу только отчасти. Долгое время сэр Уильям наслаждался благополучием жизни в самое благоприятное для Британии столетие, когда страна достигла экономической и военной мощи, и на склоне лет уже не осознавал, что нынешний мир далеко не тот, который сэр Лестер Дедлок из диккенсовского «Холодного дома» описал как «мир, заботливо обернутый тончайшей хлопковой тканью и лучшей шерстью. Он уже был не способен слышать порывы огромного мира снаружи и не видел, как тот обращается вокруг солнца». Намного пристальнее, чем остальные молодые люди его поколения, Черчилль вглядывался, как на хорошо организованный порядок окружающей его действительности, в котором он возрос, набегают волны из огромного мира, и уже был готов поймать и использовать в своих целях пока еще невидимый прилив новых событий.
В 1920 году, вспомнив и процитировав выражение Харкорта, Черчилль добавил: «… до нынешнего момента, как мне кажется, все текло беспрерывно… Спокойное течение реки с ее водоворотами и порогами, по которой мы привыкли плыть, казалось бесконечно далеким от того мощного водопада, которым она завершалась и в который нас швырнуло со страшной силой и с завихрениями которого мы сейчас изо всех сил боремся».
А в 1901 году нетерпеливому молодому Черчиллю горизонты будущего омрачало лишь то, что вожжи управления страной все еще держали в своих руках многочисленные старики-викторианцы. Даже в их собственной партии самые верхние ряды заполняли седобородые Мафусаилы, начиная с олимпийца премьер-министра лорда Солсбери, принадлежавшего к семейству Сесилов, которое примыкало к правящей партии еще со времен Елизаветы. Весьма проницательный государственный деятель — в лучшие свои годы, — Солсбери становился все более тяжеловесным, дряхлел и все более отдалялся от текущих дел. Он уже дышал с превеликим трудом и постоянно засыпал, сидя в кресле. После его смерти в 1903 году, когда он упал с кресла, врачи вынесли вердикт: «… заражение крови из-за язв на ногах». Единственное упражнение, которое он выполнял в течение многих лет — езда на огромном допотопном трехколесном велосипеде — предельно медленно и осторожно по асфальтированной дорожке вокруг поместья в окружении слуг, которые подталкивали его, если дорога шла вверх.
«Он получал огромное удовольствие от езды, — записал какой-то из гостей премьер-министра в Хэтфилде, — но неизменно ужасался, когда на него выскакивали сидевшие в засаде многочисленные внуки, воспринимавшие это забавной игрой. Двух проказников с огромными кружками полными воды, устроившихся возле стены, где проходила велосипедная дорожка, обнаружили их мамаши».
У него уже вошло в привычку засыпать в палате лордов, голова его медленно опускалась и борода ложились на грудь. Карикатурист из «Панча» предположил, что вывести старика из состояния дремоты способен разве что духовой оркестр. Как-то во время долгой официальной церемонии, когда он, привычно смежив веки, дремал, его взгляд вдруг различил улыбающегося молодого человека, стоявшего над ним. Повернувшись к сидевшему рядом, он прошептал: «Что это за юноша?» «Это ваш старший сын», — ответил сосед. Таким вот — с ослабевшим зрением и страдающим от забывчивости, — был премьер-министр в последние годы. Прежний честолюбивый личный секретарь Солсбери — лорд Керзон — никак не мог понять, почему старый политик отказывается уйти в отставку, и в частных беседах критиковал его: «курьезный, влиятельный, непонятный, с острым умом, мешающий продвинуться наверх другим к вершинам власти». Еще в самом начале своей деятельности Черчиллю довелось отужинать с Солсбери в компании с другими молодыми политиками и по дороге домой один из них рассуждал о том, как это можно занимать столь высокое положение, будучи почти трупом. Все давно знали, как только Солсбери покинет свой пост, его место тотчас займет Артур Бальфур — добропорядочный, но заносчивый племянник. (Рассказывали, что во время визита в Нью-Йорк, узнав, что крыши высотных домов жаропрочные, Бальфур пренебрежительно произнес: «Какая жалость!» Желая сохранить за кланом Сесилов возможность управлять делами даже после смерти, премьер-министр ввел в администрацию огромное число родственников, включая зятя — первого лорда адмиралтейства, так что газетчики стали называть правительство «Отель Сесилов» — безразмерный». Бальфур — один из трех племянников, занимавших ответственнейшие места, в ответ на критику ледяным тоном ответил: «Спартанские женщины отдавали всех сыновей служению на благо страны. Маркиз Солсбери, непревзойденный патриот, посвятил и племянников этому делу».
Еще до того, как Черчилль выиграл на выборах и занял место в парламенте, он приложил немало сил, чтобы заручиться добрым отношением Солсбери. Он посвятил ему «Речную войну» и отправил ее с письмом, написанным в самых почтительных выражениях, воспевая лидера как одного из тех, «под чьим мудрым руководством консервативная партия получила такую большую власть и добилась процветания нации». Что еще важнее, в первые годы в палате общин он, не тратя время понапрасну, установил самые тесные и дружеские отношения с младшим сыном лорда Солсбери, лордом Хью Сесилом. Это было весьма предусмотрительно с его стороны — наладить крепкие связи с Хью, чье положение позволяло ему после следующих перемещений в «Отеле Сесила» стать почетным членом семьи.
К сожалению, он с некоторым опозданием осознал, что Линки — таково было уменьшительное имя Хью — не имеет ни малейшего желания идти по стопам отца. Он был слишком поглощен самим собой, чтобы стать реальным союзником для кого бы то ни было. Большую часть времени он проводил, повышая свою эрудицию и наслаждаясь всеми удобствами для продолжения научной деятельности в Хэтфилде, где имелась огромная библиотека с коллекционными старинными книгами и рукописями. Там он имел возможность после окончания учебы в Оксфорде в полном уединении усердно заниматься сугубо научными исследованиями. И хотя он разделял пристрастие Уинстона к драматическим произведениям и восхищался историческими изысканиями, у него полностью отсутствовали какие-либо честолюбивые политические планы и вкус к тем лакомым кусочкам власти, которыми обладало семейство.
Преданный англиканец, он тянулся к духовенству, а вместо этого вынужден был отсиживать положенное время в палате общин и принимать участие в официальных заседаниях, которые отвлекали чудаковатого юношу от того, к чему он на самом деле стремился всей душой. Сначала Линки отнесся к Черчиллю с подозрительной осторожностью, его отталкивала излишняя порывистость и «чувствительность, опирающаяся скорее на слова, чем на нечто действительно основательное». Его больше привлекали конкретные факты, чем полет фантазии. Однажды, когда кто-то попытался обратить его внимание на удивительной красоты закат, Линки, взглянув в ту сторону, отвернулся и сухо ответил: «Да, ужасно безвкусно!» Только исключительно романтические представления, к которым был так склонен Черчилль, могли сподвигнуть его на весьма ошибочное представление, что союз с сыном Сосбери принесет какие-то плоды. Только при романтическом воображении Черчилля педантичный хрупкий Линки, которого его современники описывали как юношу с морщинами старца, мог преобразиться в воодушевленного соратника, который пойдет вместе с ним по дороге славы.
Уинстон видел в нем нового решительного рыцаря, «настоящего Тори, вынырнувшего из XVII столетия», — как он позже объяснял, — который присоединится к нему в битве за омоложение консервативной партии. (Другие, кто меньше симпатизировал Линки, считали, что правильнее было бы называть Хью «аскетом из четырнадцатого века».) Даже его собственные братья дали ему уменьшительное прозвище Линки, поскольку подшучивали, что он «выпал из эволюционной линии». Со временем воодушевление Черчилля и его тонкая лесть все же победили предубеждение молодого Сесила. Он и небольшая горстка других молодых членов парламента — из аристократических семейств — один из них, Йэн Малкольм, весьма приметная фигура в светском обществе (вскоре он обручится с дочерью актрисы Лилли), лорд Перси и достопочтенный Артур Стэнли, — образовали кружок независимых, задумавших внести новые идеи и свежие веяния времени в партию тори. Желая заварить кашу покруче и как можно сильнее взбаламутить воду, Уинстон с большой гордостью распространял название кружка, который с его легкой руки стал зваться «хулиганами». Он убеждал своих друзей в группе, что они должны развивать в себе «бесценные для политика качества — жажду набедокурить».
В какой-то степени воодушевляющим примером для этого стал сэр Рэндольф — отец Черчилля, который в 1880 году входил в четвертую партию — небольшую группу политических «застрельщиков». Какое-то — очень недолгое время, — к ней примыкал и Артур Бальфур, впоследствии называвший это «ошибкой юности». Политические интриги не особенно занимали друзей Черчилля. Более всего им нравилось вести бесконечные споры после ужина. На других членов парламента самое сильное впечатление производило то, что «хулиганы» образовали нечто вроде «суперклуба», многие из них в кулуарах обсуждали, что на плечи мистера Малкольма возложили почетную задачу: оплачивать ужины участников этого клуба».
Обычно группа собиралась в четверг вечером в гостиной, но случалось, что они отправлялись на уик-энды в Бленхейм или какой другой аристократический замок. Консуэло описывала эти «хулиганские ужины» в Бленхейме, которые затягивались до глубокой ночи из-за увлекательных выступлений Уинстона. (В отличие от самого красноречивого оратора Уинстона, Хью Сесил был терпеливым и благодарным слушателем. «Я не наскучил вам?» — как-то спросил словоохотливый друг. — «Еще нет», — вежливо ответил Хью.)
На какое-то время герцогиня Сазерленд, — а она была всего на несколько лет старше Уинстона, — стала своего рода музой группы. Она приглашала «хулиганов» в свой замок в Шотландии и устраивала роскошные вечеринки в лондонском особняке — Стаффорд-Хаусе. И в бальной зале, где горели тысячи свечей в сверкающих подсвечниках, она не шла, а словно бы, без всяких усилий, скользила по сияющему паркету меж гостей, и неизменно становилась центром всеобщего внимания. Кто-то оставил описание ее внешности — «тонкая, как тростинка, с золотистыми волосами, собранными в простой узел, с нежной, прозрачной кожей, как у перламутровой океанской раковины». Разумеется, кое-кто из ее гостей недоумевал, что она такое нашла в Уинстоне? Кто-то даже пустил слух, что Черчилль «топчется в свите трех герцогинь», что он ухитрился расплескать шампанское на подол леди Элен Стьюарт, блондинки и одной из богатейших наследниц, возле которой увивался весь вечер. (Леди Элен — или Птичка, — как ее называли домашние — была еще одной кузиной Уинстона и другом детства).
На самом деле имела место обоюдная привязанность: герцогиня жаждала обожания, а Черчилль отдавал дань ее красоте. Но с самого начала ее чрезвычайно притягивал его ершистый характер. Ей уже было мало устраивать роскошные незабываемые вечера, ей хотелось, чтобы о ней говорили не только как о светской женщине, которая так замечательно выглядит. Она хотела выступить в роли социального реформатора, жаждала протянуть руку помощи рабочему люду, помогать им добиваться лучших для проживания домов, обеспечивать медицинским обслуживанием и в приеме на работу. Один из ее проектов — восстановить здание прядильной фабрики в Шотландии, где производили твид. К величайшему огорчению, герцогиню (ее первое имя было Миллисент) — подняли на смех и стали называть в прессе не иначе как «надоедливая Милли». Не обращая внимания на нападки и насмешки, она продолжала свою деятельность, находя утешение в небольшой группе защитников ее начинаний. И среди таковых — самым последовательным и убежденным ее сторонником был Уинстон Черчилль, который писал письма в «Таймс», воспевая ее энергичность и укоряя анонимных критиканов, которые «пытались глумиться над герцогиней».
Ей нравилось бросать вызов наиболее реакционно настроенным представителям аристократии, и она была не прочь понаблюдать, как молодые хулиганы сотрясают кресла, в которых восседают члены партии тори. «Если ничего не представляющая из себя герцогиня способна выступить пропагандистом подобного рода идей, — заявила она несколько лет спустя, — то я приложу все усилия, чтобы стать таковой». Ее муж, который был намного старше, — она вышла за него замуж в семнадцать лет, — конечно же, не разделял интереса Милли к Черчиллю и его последователям. Он считал, что это неподходящие люди для дружбы с ними, и пришел в сильнейшее раздражение, узнав, что жена отправила приглашение Хью и Уинстону на очередную вечеринку. Герцог потребовал, чтобы она отменила приглашение. Однако старый герцог все-таки сменил гнев на милость, и Миллисент несколько лет спустя с удовольствием описала это происшествие, поскольку была удивлена тем, как повели себя ее юные друзья. Она доверительно признавалась: «У меня по сей день хранятся письма, которые они написали в ответ.
Я храню их, потому что они так наглядно показывают разницу в темпераментах двух людей. Хью Сесил написал: «Моя дорогая Милли, я все понимаю и очень сожалею. Окажи любезность, скажи мне, пожалуйста, в какой из дней на следующей неделе ты будешь свободна и сможешь позавтракать со мной?»
Что касается Уинстона, который был начисто лишен всем известной учтивости Сесила, то его письмо было написано в столь резких выражениях, что я даже засмеялась. Он заявил, что ноги его не будет в моем доме, пока жив старый герцог».
Чтобы заявить о своей политической независимости, молодые хулиганы несколько раз встречались с прежним либеральным премьер-министром лордом Роузбери, иногда проводя уик-энды в его загородных домах в Суррее и Бакингемшире. Черчилль сумел превратить обычный загородный визит в настоящее приключение — он отправился туда на недавно приобретенном автомобиле, хотя сел за руль совсем недавно, и не успел прибрести надлежащих навыков вождения. К тому же автомобиль оказался очень шумный. Поэтому никто из «хулиганов» не пожелал составить ему компанию. «Боюсь, не напугал ли я ваших лошадей грохотом автомобиля, — написал Уинстон после одного из визитов лорду Роузбери. — Я ведь только пока учусь вождению, — а это один из самых тягостных и опасных периодов».
Роузбери угощал гостей ужинами, не скупился на вино и наслаждался сознанием того, что младший сын старого Солсбери — долгое время бывшего его политическим противником, а потом сменившего его на посту премьер-министра, — обращается к нему, чтобы набраться политического опыта и знаний. Что касается Хью Сесила, то он все-таки стеснялся своих приятелей-хулиганов, достаточно вольно толкующих представления о гостеприимстве. Черчилль говорил, что их друг испытывал массу неудобств на светских вечерах из-за их выходок. Более того, щепетильный и утонченный Хью очень часто вынужден был извиняться за хулиганов: «Мои коллеги — с сожалением должен признаться — вели себя прескверно», — писал он гостям.
Однако Черчилля эти визиты будоражили, и не только потому, что отец был отчасти в дружеских отношениях с лордом Роузбери. Ему нравилось слушать воспоминания, как продвигался отец по служебной лестнице, и как сын, который гордился славным прошлым отца, он испытывал признательность к лорду за то, что тот чтил память Рэндольфа. Во время вечеринок, на которые помимо хулиганов было приглашено немало других гостей, Роузбери довольно часто перебивал спорящих и, театральным жестом указывая на Уинстона, произносил: «Умоляю вас, не будем принимать никакого решения до тех пор, пока не выскажется этот молодой человек». Кое-кто из гостей попытался обратить это в шутку. Однако Роузбери мог позволить себе подобный тон еще и потому, что искренне восхищался юным другом, развитым не по годам. Многие из числа его приятелей соглашались с ним во мнении относительно сына Рэндольфа: «На этих молодых плечах покоится голова умудренного человека».
В присутствии Роузбери Уинстон чувствовал, как отдаленное прошлое, где жил и действовал его отец, словно бы становится ближе, а кроме того и другие весьма отдаленные во времени события, повороты и изгибы истории ощущались совсем иначе. «Прошлое выглядывало из-за его спины, — писал он позже, — и часто выступало его советником и помощником, на которого он мог опираться». Уинстона чрезвычайно привлекала история, и он постоянно пытался внести в текущие события аромат и величие ушедшего времени. Когда он «садился на любимого конька, его голос становился глубоким и более мелодичным, и слушавшие его неожиданно для себя переживали момент особенной близости с прошлым, поражаясь, как далеко простираются его сведения о нашем острове».
Уинстона прямо-таки ослепляла элегантность дома лорда Роузбери и его бесценное собрание. Одна из картин особенно привлекала его внимание: «Вчера я пережил совершенно необъяснимое состояние перед картиной «Наполеон», — писал он Роузбери. — Возможно, это вызвано его личностью, однако я вдруг испытал такое чувство, словно бы украдкой заглянул в кабинет, где он работал и вышел незадолго до моего появления только потому, что не желал быть увиденным».
Что неудивительно — ведь Черчилль лепил в своем воображении образ Наполеона, основываясь на чтении книг, поэтому он был буквально ошеломлен, когда вдруг его герой — полный жизни — взглянул на него с полотна Жака-Луи Давида «Император Наполеон в кабинете Тюильри». Картина была написана за три года до Ватерлоо. Роузбери купил ее в 1880-е годы после необыкновенно удачной женитьбы на наследнице Ротшильда, что дало ему возможность приобретать любые ценные произведения искусства, какие вздумается.
Было известно, что Роузбери репетировал выступления, стоя перед этим и перед другим портретом — даже превосходящим его размерами — «Джордж Вашингтон» кисти Гилберта Стюарта (правда, назывался он «Портрет землевладельца»). «Он использовал их в качестве хорового сопровождения», — подшучивали члены семьи. Описание того магического действия, что испытал Черчилль перед портретом Наполеона, вызвало в свою очередь искреннее и чистосердечное (что ему было вовсе не свойственно) признание самого Роузбери: «Иной раз, — ответил политик, — мне кажется, что он настолько живой, что вот-вот шагнет с картины».
Похоже, Черчилль надеялся, что поездки в особняк Роузбери и в замок Бленхейм вдохновят хулиганов на более серьезные поступки и дела. Однако его друзья рассматривали такие выезды за город как развлечение и отнюдь не намеревались что-то менять в жизни. Они совершенно не разделяли его страстного увлечения великими личностями. И тем более у них не было ни малейшего желания, собравшись «могучей кучкой», обрушиться на самоуверенных лидеров партии тори.
В любом случае, лорда Солсбери нисколько не волновало наличие такой группы молодежи. Более того, он вообще не принимал их всерьез, потому что знал: никакой реальной опасности хулиганы не представляют. Наверное, по той причине, что слишком хорошо знал своего сына. По мнению Йэна Малкольма, этот премьер-министр выбрал чрезвычайно верный способ реагировать и освещать деятельность хулиганов. Высмеивая их, он предложил переименовать группу: «Хулиганы — вдогонку за младшим сыном». Новое определение сразу прилипло, что давало повод многим тори воспринимать группу как объект для насмешек. Черчилль пытался сохранить хорошие отношения с экстравагантным Хью даже после того, как хулиганы распались и каждый пошел своим путем. Но в течение года, когда группа собиралась особенно часто, Уинстона огорчало стремление друзей праздно проводить время и тратить его на пустяки. Дилетант в политике, Хью был в восторге, когда в разговоре возникал какой-то сложный, запутанный вопрос, требующий рассмотрения с нескольких точек зрения, — ему казалось, что только он в состоянии понять его. На полном серьезе, — примерно как другие рассуждали о войне и мире, — он со всей страстью обрушивался на тех, кто выдвигал постановление, позволяющее вдовцу жениться на сестре жены. Даже тридцать лет спустя Черчилль недоуменно качал головой, вспоминая, сколь яростно сопротивлялся этому параграфу Хью, за что получил грубоватый титул: «Билль о женитьбе на сестре усопшей». (Этот вопрос обсуждался так долго, что Гилберт и Салливан даже придумали забавную рифму к законопроекту: «Он прибьет в сосновой роще Билль о женитьбе на сестре усопшей».)
Весной 1901 года, когда холостяк Хью развивал бурную деятельность, предупреждая палату общин о вредоносности законопроекта, разрешающего вдовцам жениться на сестрах покойной жены, что превратит священный институт брака в племенную ферму, Уинстон готовился к штурму одного из важнейших пунктов законодательства, взяв на вооружение слова лорда Байрона: «Я родился оппозиционером». Черчилль был готов повторить драматическую судьбу своего кумира. И он намеревался продемонстрировать Солсбери и другим, что не собирается оставаться в рядах «заднескамеечников» (рядовых членов парламента) — место, которое ему отводили.
Суть вопроса заключалась в том, как правительство намеревается реформировать армию, авторитет которой сильно поколебался в результате многочисленных поражений в Бурской войне. Все сознавали, что реорганизация необходима и что для этого необходимо уволить некомпетентных офицеров и отменить устаревшие нормы. Как позже заметил Герберт Уэллс: «Нашу империю под насмешливое улюлюканье всего мира едва не разбила горстка фермеров — и отголоски тех событий мы ощущаем и по сей день. И начинаем задаваться вопросами…».
К тому моменту, когда в мае 1902 года наконец-то было подготовлено мирное соглашение, война «Вечернего чая» — как ее вначале именовали, считая, что она закончится быстро, унесла двадцать две тысячи солдатских жизней.
Ошибки излишне самоуверенных политиков и еще более самоуверенных военных на всех уровнях стали причиной того, что война затянулась надолго. Что и вызывало стремление Черчилля объяснить, насколько война была «бесславна в своем проведении и отвратительна по результатам». Командование, прославившееся в «малых войнах» королевы Виктории десятилетиями ранее, оказалось неспособным осознать, насколько армия плохо подготовлена к ведению войны в новых условиях, когда она столкнулась с новыми видами оружия и непривычной тактикой, применяемой бурами. Генерал сэр Редверс Буллер совершил так много ошибок на начальном этапе, что, став олицетворением полной некомпетентности высших чинов, получил едко-насмешливое прозвище «сэр Реверс Буллер» (Sir Reverse Buller, то есть «сэр Неудача Буллер»). Во время одной из скучных перепалок в парламенте относительно того, сколько лошадей и мулов было отправлено войскам в Южную Африку, ирландский член парламента Тим Хили отрезвил многих, развеяв их иллюзии, когда, поднявшись, задал вопрос министру: «А разве достопочтенный джентльмен не получал сводки о том, сколько ослов отправлено в Южную Африку?»
Черчилль осознал, что правительственный план реформы армии — всего лишь пышный и разорительный маскарад, только видимость преобразований, что и сумел показать в своем выступлении на прениях в палате общин. Это было часовое выступление — самое блестящее в его карьере — мощное, конкретное и прозорливое. Он выступал так, словно был закаленным в дискуссиях ветераном, а не новичком, который перешел порог здания всего год назад. И речь шла об экспедиционных силах, которые предполагалось выставить для противодействия угрозе со стороны какой-либо враждебной державы в Европе. Правительственные чиновники предполагали, что эти войска в течение нескольких дней смогут нанести молниеносные и внезапные удары по противнику, а затем с триумфом возвратиться назад. Черчилль считал, что планируемые силы окажутся слишком малочисленными, чтобы быть эффективными.
«Европейская война будет не чем иным, — предупреждал он, — как жестокой, тяжелой борьбой, которая, даже если мы и вкусим горькие плоды победы, потребует в течение нескольких лет огромного мужества всей нации, полной остановки мирного производства и сосредоточения всех жизненных сил на одном общем устремлении». В отличие от других членов парламента, Черчилль на своей шкуре испытал, что такое война, и прекрасно понимал кошмарные последствия новейших приемов ведения сражений. Столкновения в Южной Африке — всего лишь намек на те массовые убийства, которые ожидают армии в будущем, — утверждал он как человек, имеющий военный опыт. — В реальном конфликте будущие экспедиционные силы просто потонут как в болоте. Намного мудрее истратить деньги на морской флот, именно в морских силах — залог безопасности самой Британии и ее империи. Он набросал яркую картину беспощадной действительности, давая ясно понять, что те времена, когда король годами разыгрывал военные ходы, словно управлял фигурами на шахматной доске, безвозвратно канули в прошлое. Сейчас, когда могучие державы начинают подпирать друг друга… когда ресурсы науки и цивилизации исчерпали все, что могло бы смягчить яростный напор, европейская война закончится с обращением в руины побежденных и с полным истощением сил победителей… Войны народов всегда бывают более ужасными, чем войны королей.
Эти прозорливые слова многие члены кабинета сочли всего лишь риторическим приемом, и попытались от них отмахнуться, но другие отнеслись к ним очень серьезно. Даже вечно сонный государственный деятель викторианских времен сэр Уильям Харкорт, отбросив свое извечное благодушие, — с потрясенным видом озирал ничем не приукрашенную картину, написанную крупными мазками рукой молодого человека. Конечно, он не был полностью согласен с теми выводами, что делал Черчилль, но одно Харкорт осознал с абсолютной ясностью — именно голос молодого человека будет греметь со всей мощью в ближайшие годы. На следующий день он отправил письмо, поздравляя Уинстона с необыкновенным успехом блистательной речи, которая «станет залогом Вашего успешного будущего, фундаментом, который невозможно будет поколебать». Речь Черчилля не произвела должного впечатления на Артура Бальфура. Его работа, как лидера палаты, заключалась в том, чтобы добиться одобрения и поддержки выдвинутого плана, а критические замечания Черчилля порождали лишь брожение в умах и сомнения в разумности реформ.
Убедительное большинство поддержало Бальфура, но все равно он не смог сдержать возмущения из-за выходки своенравного коллеги и говорил своим друзьям, что Уинстон «ошеломил его невероятным чванством», что своим выступлением он продемонстрировал полное убожество оппозиции, которая способна лишь на эффектные жесты. Бальфур утверждал, что в речи Черчилля отсутствуют серьезные доказательства, она не подкреплена аргументами — это всего лишь эффектный жест и чистая самореклама, Большая часть спича, с его точки зрения, — «облаченный в блестящую мишуру типично юношеский протест молодого смутьяна».