Смута Теплов Юрий
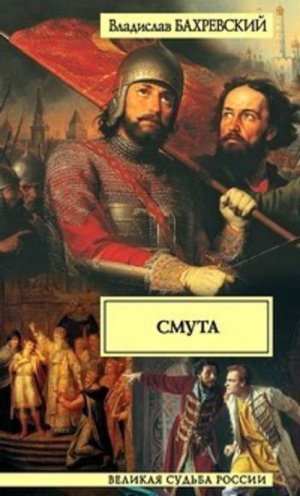
– Учитель! – У Тихона глаза блестели. – Подай надежду: верно ли я понял, люди опамятуются?
– Завтра опамятуются, а послезавтра забудутся… Людям жить, нам крест нести.
Тихон поник, и Александр тоже смутился духом.
– Столько монастырей, столько храмов, но ты сам говорил, что не отмолить нам всем одного Борисова греха? – Не отмолить. – Иринарх вздохнул и глаза закрыл. – В монастырях тоже люди.
– Рассказывают, тебя утеснял прежний игумен. По два часа держал босым на морозе против келии своей…
– Обо мне болел, – сказал Иринарх. – Я свои сапоги нищему отдал. Стал босым ходить. Игумен обо мне печалился, и был я здрав и весел, а вот побежал в Ростов спасти честного человека от правежа и поморозил ноги. Три года пропадал в язвах, ходить не мог.
– Не уразуметь! Никак не уразуметь! – воскликнул пылкий Тихон. – Ты же доброе хотел сделать, а Бог наказал.
– Наказал. За гордыню наказал.
– Помоги мне, отче! – преклонил голову Александр. – Наваждение одолело. Молюсь ли, книгу ли святую читаю – стоит перед глазами родной дом, батюшка с матушкой, сестрички. А еще вишни грезятся: то белые, в цвету, в пчелах, а то уж в спелости, как облитые стоят, ягоды аж черны, и во рту будто косточку языком перекидываю туда-сюда.
– А меня до сих пор матушка во сне окликает: «Илья! Илья!» В Ростове себе снюсь, в лавке своей. Уж так торгую хорошо! Весь товар раскупили, последнее хотят взять, а я не уступаю, боюсь остаться с пустыми ларями. Я из дома в голод ушел, в Нижний, три года у крестьянина богатого работал. Скопил двадцать рублей, вернулся в Ростов, лавку открыл…
– Потому, знать, и выбрали тебя в келари, что знаешь деньгам счет, – поддакнул Александр.
Старец тихонько засмеялся.
– Поставили с охотой, с еще большей охотой прогнали… Явился мне в видении святой Аврамий, наш, Ростовский. Тот, что сокрушил жезлом идола Велеса и воздвиг на капище обитель Богоявления. С жезлом явился. Дал подержать. Царь Иван Грозный с тем жезлом на Казань ходил. Два слова всего и молвил: «Благословляю. Раздавай». Я и роздал из монастырской казны сколько успел. – Улыбнулся, головой покачал. – А тебе вишни снятся… То жизнь мирская тоскует в нас.
Тихон вскрикнул, будто кипятком его обожгли, схватил кнут старца, принялся сечь себя.
Иринарх же был кроток, перекрестился и заснул.
И увидел с соколиного с высокого лёта зеленую землю, с городами да с церквами. И спросил неведомо кого: «Чья эта земля?» И ответили ему: «Русская». И потом явилась в небе литера «Л» иноземного письма, сапогом. Придвинулась в черной туче к Москве. И блеснули, и пали на город не молнии – стрелы и сабли. И кровь потекла, пенясь, по улицам, и запылала та буква-сапог багровым огнем. Огонь сошел на церкви, на города. Вся земля русская обернулась кострищем, поверх кострища был пепел, и ярый огонь проступал через него языками. И горела земля. И стала черной как уголь.
Проснулся Иринарх и сказал:
– Видел сон о погибели Русской земли. Литва придет и погубит.
Взял у Тихона свой кнут, бил себя почем зря, не жалея силы, пока не изнемог, не обеспамятовал.
Испугался инок Александр, выдернул из стены цепь, на которой сидел, как сидели в той застенной келии и Тихон, и сам Иринарх. Побежал инок к игумену, рассказал о видении старца.
Пришел игумен под окно, молил Иринарха отвориться и пойти к царю. Иринарх же нисколько не упорствовал, отвязался от стенной цепи, от пеньков, снял камень, семь вериг заспинных, оповцы, поясные связни и, оставшись налегке, обвитый девятисаженной цепью, взял палицу свою да поклонный крест и отправился с иноком Александром в Москву. Пешком.
Пришли они в Успенский собор. Помолился Иринарх великим московским чудотворцам Петру да Ионе и стал спрашивать попов, как царя увидеть, слово ему сказать. Попы показали Иринарху на царского стражника сына боярского Симеона. Симеон же не мешкая доложил государю о подвижнике…
Стиснуло душу Василию Ивановичу тоской, будто ждал этого прихода. Дрогнул, да не спрятался. Велел сказать монахам, чтоб шли в Благовещенскую церковь, и сам туда пришел.
И оробел. Вспомнил тот жуткий миг, когда отводили его от плахи, когда всякая жилочка в нем дрожала и всякая мышца тряслась. И теперь его одолел озноб.
– Благослови, отче! – поклонясь затворнику в пояс, попросил Василий Иванович.
Иринарх, гремя цепью, приблизился, перекрестил царя, поцеловал. Василию Ивановичу полегчало, облобызал он монаха троекратно, приготовился слушать.
– Пришел правду тебе сказать, – объявил Иринарх со вздохами. – Видение мне было, царь. Видение о царстве твоем.
Шуйский торопливо глянул через плечо – много ли ушей? – но в храме были Иринарх с Александром, да духовник царя, да страж Симеон.
– Говори, – разрешил.
– Погибнет Русское царство. В прах рассыплется. Литва на тебя придет.
Шуйский слушал, наклоня голову, петушком. Но глаза его стояли, как стоят озера под осенним серым небом, ожидая льда.
Иринарх бросил на пол свою палицу. Палица загромыхала, но монах, не смутясь наделанным шумом, встрепенувшимся Симеоном, снял поклонный крест, а был крест во всю грудь, и водрузил на царя.
– Стой, как стоят храмы Божии. Покосишься на какой бок – сверзишься. Ты стой, а я за тебя помолюсь.
Шуйский, благодарно кивая, сложил руки на поклонном Иринарховом кресте.
– Благослови, отче, царицу.
– Где же она?
– В своих покоях. Я тебя отведу.
Взял старца под руку, Александр под другую, и пошли они в Терем, на самый Верх.
Марья Петровна не испугалась, хоть и суровы были железа на подвижнике и гремели очень. Ничего-то она не боялась, потому что имела в душе каждодневную тайную радость – царица. И всякое-то дело у нее теперь: яства ли кушать, вышивать ли, Богу молиться – царское.
Иринарх осенил Марью Петровну крестным знамением, она к руке его приложилась и, когда прикладывалась, услышала ласковое слово, исторгнутое от доброго сердца:
– Ты царя жалей. Кроме тебя да меня, его никто не пожалеет.
Василий Иванович, не зная, как угодить строгим гостям, поднес им два полотенца. Иринарх не принял дара.
– Возьми Бога ради! – чуть не со слезами взмолился государь.
И тогда, к изумлению царицы, подвижник снял с царя свой поклонный крест и завернул его в полотенца.
Царь был смущен, но провожал гостей из палаты до самого двора, приказал дворецкому:
– Попотчуй странников драгоценных. Как самых высоких послов попотчуй. И лучше… И снаряди их в путь. И дай им мой возок и моих лошадей.
Всего день был в Москве Иринарх. День, да у царя. Но мчали его к Борису и Глебу без ночных станов, меняя лошадей. То ли ради почести, то ли чтоб скорее с глаз долой, чтоб о пророчестве знали царь, да Бог, да затворник.
Подмазал-таки пятки Иринархов келейник Тихон. Когда поляки осадили Троице-Сергиев монастырь, крепился, но, как Сапега пошел на Калязин, снял с себя цепь в двадцать саженей и ушел искать покойное место. На Русской-то земле, в смуту?
Те двадцать саженей принял на себя Иринарх. Обвился цепью и стал как в чешуе железной. Благословляя Тихона, одно просил исполнить:
– Кто побежит от тебя, кликни – его жду к себе.
С Тихоном в Святых воротах столкнулся и отпрянул инок Корнилий, совсем юный. Он-то и явился под окна келии Иринарха, и с ним иноземец, прозванный смешливыми Никола Мели Емеля – Николо де Мело. Испанец, патер, некогда начальствовал над миссионерами Восточной Индии. Домой надумал возвращаться через Россию и угодил на Соловки. То было при царе Борисе. Царь Дмитрий Иоаннович узнал о несчастном слишком поздно. Когда патер, радуясь освобождению, прибыл в Москву, прах царя Дмитрия уж был развеян из пушки. И поехал Никола не в Испанию, а во глубину России, в Борисо-Глебский монастырь.
– Старец, – с укоризною сказал де Мело Иринарху, – ты денно и нощно умерщвляешь свою плоть. Пощади молодого, не запирай его от жизни. Он ничего еще не видел.
– То не я зову Корнилия, Господь зовет, – ответил Иринарх. – И ты напрасно думаешь, что из нашего затвора не видно жизни. Ах, кабы по-твоему было!
– Я слышал, святой отец, что тебе открыто будущее, но стоит ли будущее великолепия дня нынешнего? – возразил испанец. – Велика ли польза знать чужое завтра? Знаешь ли ты свое?
Иринарх благословил иноземца поклонным своим крестом.
– Одно Бог открывает, другое закрывает. Тот, кого ты ждешь, в двух наслегах[5] от монастыря. В моей келии он будет через неделю.
Де Мело вздрогнул: он ждал избавления от прихода Сапеги. Сотворил молитву про себя, спросил:
– Скажи, святой отец, когда я буду дома?
– Никогда, – ответил Иринарх. – Молись. Господь милостив.
И было видно – страдает.
Знал Иринарх – ограбят пришлые люди монастырь и его, грешного старца, ограбят, но молился. Втроем молились. Спали стоя по два часа. Всю ночь бичевали себя, весь день пели Господу славу, но ни единой буквы не переменилось в Голубиной Книге Судьбы.
Сапега, побитый Скопиным-Шуйским под Калязином, ограбил Ростов, а его ротмистр Сушинский – Борисо-Глебский монастырь. У ротмистра был приказ поглядеть, как без хлопот взорвать твердыню. Сапега, потративший больше года, и без успеха, на осаду Троице-Сергиева монастыря, готов был развеять в прах всякую крепкую стену в Русском царстве. Сушинский, докладывая, помянул о трех монахах, сидящих в стене на цепях и обвешанных железом и каменьем.
– Я вошел к ним, а они за Шуйского молятся. А между тем монах Николо де Мело, которого мы освободили, сказал, что самый старый из них ходил к Шуйскому и предрек погибель и ему, и всей Московии. Я пригрозил им, но этот самый Иринарх, на котором одной только цепи саженей с тридцать, сказал мне, чтоб я о себе молился и плакал.
– И вы молились, ротмистр? – спросил Сапега, взгляд его был тяжел, как ядро. – Мне известно, что вы не только ограбили монастырскую казну и монахов, но и утаили в свою пользу девять десятых награбленного. Мне также известно, ротмистр, что вы были зачинщиком разрушения серебряной раки Леонтия в Ростове. Вы народ на нас подняли, ротмистр, весь народ. Я обязательно навещу провидца, он был прав. Ваша судьба решена. Вас, ротмистр, повесят.
Приехал Сапега в Борисо-Глебский монастырь и пошел прямо к Иринарху в стену. И как увидел сидящего в цепях, так и воскликнул:
– Благослови, батько!
Иринарх благословил польского воителя ласково, пенек свой для сидения подставил.
– Как сию муку великую терпишь? – изумился Сапега.
– Бога ради терплю. И темницу мою светлую, и муку радостную.
– Сказали мне, что за царя Дмитрия Бога не молишь, а все за Шуйского.
– Аз в России рожден и в России крещен. И аз за русского царя Бога молю.
Сапеге всего-то было тридцать три года, но война состарила его на все пятьдесят, а тут улыбнулся, поглядел на своих весело.
– Правда в батьке великая! В коей земле жити, тому и царю прямити. Мне, батько, сказывали, что тебя пограбили.
– Приехал пан лют Сушинский. Пограбил весь монастырь, не токмо меня, грешного старца.
– За то пан Сушинский повешен. – И спросил, смутясь: – Ты вроде будущее сказать можешь?
Иринарх притих и припал вдруг к плечу Сапеги, совсем как старый отец к дорогому сыну.
– Полно тебе в России воевать! Возвратись в свою землю. Верь не верь, сердись не сердись. В твоей воле – можешь прибить, но я и Шуйскому правду сказал.
– Говорят, ты предрек ему погибель?
– Чего тебе о Шуйском печаловаться, о себе послушай: если не изыдеши из Руси или опять придешь на Русь, то убиен будешь.
– Суров ты, батько! – усмехнулся Сапега, но тотчас о Сушинском вспомнил. – Чем тебя наградить? Я такого крепкого и безбоязненного не встречал ни у себя в Речи Посполитой, ни в Московии.
– Я Святому Духу не указчик, – ответил Иринарх. – Я от Святого Духа и питаюсь. Как тебя Святой Дух научит, так и сотворишь по его святой воле.
– Прости, батько.
Поклонился Сапега подвижнику, поглядел на Александра с Корнилием и ушел. Монастырь не тронул. Прислал Иринарху пять рублей.
Когда князь Михайла Васильевич Скопин-Шуйский стоял в Александровской слободе, томя народ русский непоспешанием, Иринарх прислал князю просфору с иноком Александром.
– Что же твой старец врагов жалует? – спросил Скопин строго, помня, что Иринарх благословил Сапегу.
В молодые годы люди строги чрезмерно, а князь от роду был двадцати трех лет. Инок Александр поклонился.
– Пан Сапега хотел взорвать монастырь. Где тогда были русские рати? Не видя спасения, старец Иринарх выставил против войска кротость и твердость. При поляках Бога молил за царя Шуйского, а Сапеге сказал, чтоб домой шел.
Скопин помягчел, принял просфору. И рек ему инок Александр:
– Вот тебе наказ старца Иринарха: «Дерзай! Господь Бог да поможет тебе! К Троице ступай не мешкая. Гроздь выстояла и вызрела. Тебе плоды собирать».
И князь Михайла Васильевич пошел к Троице-Сергиеву монастырю, скоро и Москва, трезвоня, торжествовала избавление, да недолгим было торжество. Князь Михайла умер, царя Шуйского свели с престола, Россия разбрелась во все стороны, и в Кремле сели поляки.
У высших чинов спина гнется перед еще более высшим легко и скоро, поклонились и полякам и шведам. У народа спина лошадиная, согнуть нельзя, сломать можно…
Посылал Иринарх просфору в Ярославль князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, приказывал вести рати к Москве.
И, как приспело время, князь Пожарский и гражданин Минин со всеми русскими дружинами пошли освобождать от иноземщины, от вихлястых предателей государыню Москву.
Поход – дело громадное, но не посмели воеводы пройти мимо Иринарха. Иной крюк прямей, чем дорога гладкая да прямоезжая.
– Сколько же на тебе всего, господин наш?! – изумился Кузьма Минин.
– Куда меньше, чем грехов, висящих на нас виснем. Мы и не видим их, слепцы горемычные! – Снял Иринарх с груди своей поклонный крест. – Даю вам на время. Как будете в Москве, так пришлю за ним. Держите крепко, а я верижки мои покамест подержу.
И вздохнул старец, и улыбнулся.
– Тяжелее цепей, каменьев, пеньков – мой сон, посланный мне Господом. Уж ложь-то вся догорела в костре. Пора птице ворохнуться.
– Какой птице? – не понял Минин.
– Русской птице. Фениксу.
…За поклонным крестом ходил в Москву все тот же инок Александр. В те поры на царстве был нежнощекий, но истинный, избранный всей Русскою землей царь Михаил.
Царю Михаилу старец Иринарх просфоры не послал… Забыл. Но забыл ли? Может, о младенце Иване помнил? О Маринкином сыне, повешенном ради кровного родства с Тушинским вором, ради матери-императрицы? Был младенец Иван четырех лет от роду.
Обвивался Иринарх цепями до самой смерти. Ко Господу он отошел 13 января 1616 года. Из шестидесяти восьми прожитых лет тридцать восемь он был в затворе и в веригах. Чудес при гробе его, при возложении на больных крестов и цепей совершилось тринадцать.
Книга вторая
Марина Мнишек и Вор
Под окнами топотала по-звериному тяжкая человеческая ненависть. Хрустело, ухало, переламывалось. То ли дерево, то ли кости.
– О Россия!
Марина Юрьевна бесстрашно вглядывалась в слюдяной зрачок оконца, пытаясь понять, что же происходит во дворе. В шубе, в шапке, с пистолетами в обеих руках, в комнату вбежал сам сандомирский воевода.
– Марина! Отпрянь от окошка! Не дай господи – выстрелят. Здесь все злые. Вся страна – злая. Спрячься!
– От судьбы? Где мне от нее спрятаться, благородный мой батюшка? Укажите место.
Марина Юрьевна говорила нарочито покойно, не отводя глаз от окна.
В доме было холодно, и Марина Юрьевна куталась в беличью шубку.
– Из-за чего драка, отец?
– Наши ломали на дрова колья в изгородях, хозяева домов объединились и напали…
– Чью голову осенила столь блестящая мысль? Как еще избы не разобрали… Я выйду к народу.
– Дева Мария, останови безумно отважную! – крикнул петушком старый Мнишек. – Они убьют тебя!
– Меня?! – Марина Юрьевна по-царски медленно подняла и до того высокие свои брови. – Меня? Свою императрицу?
Пошла к двери, мимо схватившегося за сердце отца, мимо белых от страха комнатных слуг и всяческих прихлебаев, приготовлявших дом к осаде.
Фрейлина Барбара Казановская тотчас же последовала за госпожой, и уже через минуту обе вышли на крыльцо.
– Все, кто целовал крест во имя мое, государыни, царицы всея Руси, остановитесь!
В морозном воздухе слова звенели как серебро. Драгуны отхлынули друг от друга. Марина Юрьевна сошла на очищенную от снега дорожку и без тени опаски приблизилась к толпе русских.
– Я, царица ваша, умираю от холода. Привезите дров!
Лицо государыни сияло белизною и нежностью, не нарумяненная, не набеленная, нездешний человек, высо-о-о-окий человек! Царица. На одежде ни золота, ни яхонтов, но осанка – золота величавее, глаза светят ярче, чем заморские камешки. Царица!
Спохватившись, мещанин, стоявший перед Мариною Юрьевной, сдернул шапку и пал на колени.
Вечером над огромным холодным домом, куда упекли царицу, над всеми трубами стоймя стояли дымы. Ярославские мещане нарочно выходили поглядеть.
– Теперь, чай, отогреются! Морозили бы у себя в Москве, коли греха не боятся, – говорили кто посмелей, а совсем смелые прибавляли: – Мы царице захолодать не дадим. Великое дело – дровишками поделиться.
– Она хоть и не нашей земли человек, но царица-то русская! Миром помазанная!
Марина Юрьевна сидела на полу, на медвежьей шкуре. Так удобнее было смотреть на огонь в печи. Единственное, что ей нравилось в их огромном деревянном доме, – изразцовая печь. Изразцы были украшены зелеными травами, синими цветами, но это был целый мир, в котором Марина Юрьевна гуляла глазами и душой.
Сегодня царицу заворожил огонь. Упершись локтями в шкуру и положа голову на ладони, она смотрела в печь.
Пламя металось над охапкою дров, словно скрывая от глаз обуглившиеся, подернутые пеплом поленья. Но силы таяли, поленья распадались на угли, и все чаще черное да серое проступало сквозь сникающий огонь.
«То не дерево сгорает, – сказала себе Марина Юрьевна, – то сгорают мгновения моей жизни».
Сердце у нее дрожало от сокровенных даже в одиночестве, перед самою собой, никогда не выплаканных слез. Ей шел восемнадцатый год, а жизнь была вся в прошлом. Поле вызрело, скошено, даже снопы свезены на овин. Остались дожинки.
От жара пылали щеки, но Марина Юрьевна даже пошевелиться не желала.
Никто, даже Господь Бог, не сможет у нее отнять того, что свершилось. Она, Марина из Самбора, дочь сандомирского воеводы Юрия Мнишка и Ядвиги, урожденной Тарло, – во веки веков царица великого государства русских и иных многих народов, коим и числа никто не знает.
– Во веки веков! – прошептала Марина Юрьевна и уже не увидала ни печи, ни огня.
Перед внутренним взором, как по реке, плыли витиеватое золото, тяжелая парча, холеные конские крупы, блистающие доспехи…
Мозг, отдаваясь видениям, увещевал в ней саму явь, саму жизнь: «Если все ничтожные минуты нынешнего подневольного бытия заместить в себе великими счастливыми минутами прошлого, то явью станет прошлое. Надо только восстановить прожитую жизнь, мгновение за мгновением… Прошлое неизмеримо драгоценнее, выше и нынешнего ничтожного существования, и веющего безнадежностью – будущего».
Марина Юрьевна увидела себя девочкой, в колыбели. Она, нынешняя, почти восемнадцатилетняя, склонялась над кружевами, из которых сияло розовое личико.
«Но ведь это было наяву! – Восторженный ужас сжимал сердце. – Это было в Самборе!»
Она «помнила», как склонялась над колыбелью, над красавицей крошечкой. Над собой?
Марина Юрьевна повернулась на спину и, трогая руками густую медвежью шерсть, ощутила себя в дремучем лесу.
«Дева Мария! Из-под самого солнца – во тьму, в медвежий край. Навеки!.. Дева Мария! Как же нещедро отпустил мне Господь жизни. В Самборе я все только ждала, когда она сбудется, моя жизнь… И было моей жизни со 2 марта по 17 мая – два месяца и две недели…»
Марина Юрьевна попыталась нахмурить свой чистый, прекрасный лоб, но морщинок так и не собрала и закрыла глаза, гоня прочь нынешнее.
Мнишки явились в Польшу из Моравии при короле Сигизмунде I. Гнездо Мнишков в Великой Кончице. Дед Марины Юрьевны его милость пан Николай за службу Сигизмунду пожалован должностью коронного подкормия и краковского бургграфа. Он получил два староства, луцкое и сокольское, и округлил свое состояние женитьбой на Каменецкой, дочери саноцкого каштеляна. Мнишки не только пустили корни на польской земле, но и преуспели. Дочь пана Николая Екатерина вышла замуж на Николая Стадницкого, бургграфа Краковского королевского замка. Варвара, блиставшая красотою, имела трех мужей. Она была за Лукой Нагурским, за Яном Фирлеем, краковским воеводой, и, наконец, по очередному вдовству, за Яном Дульским – великим коронным казначеем.
– Господи! Что они, мои тетушки, казначейши, каштелянши, воеводши, передо мной – государыней, царицей? – Марина Юрьевна поднялась и не хотела, но глянула-таки в печь. Красные угли дышали жаром. На коленях подползла к печи и, набрав в грудь воздуха, дунула на угли что было мочи. Пламя взлетело радостное, послушное.
Это был знак – судьбы. Знак чуда. И так ей стало горько и постыло – засмеялась. Шевельнулась мыслишка: может, и впрямь – жив-здоров государь Дмитрий Иоаннович. Но она была царицей, она знала: слухи о спасении – отчаянная злоба врагов Шуйского. Для одного человека двух спасений чересчур много. Нашли неубиенного. О Россия!
Марина Юрьевна затворила печь и, не зная, чем заняться, окинула взором загнанной волчицы свою хоромину – гроб свой. Низкий потолок, окна как глаза татарина, прищурились. Вдоль стен лавки. В простенках на деревянных гвоздях – полотенца с красными петухами, с красными бабами в кокошниках. Узкий стол. Пяльцы. Прялки. В углу икона Казанской Богоматери. Дощатая перегородка. За перегородкою высоченная постель и божница над изголовьем.
«Хоромина. Здесь только спать. Бесчувственно, беспробудно. Пока земля не очнется от зимы, а мир от злого наваждения».
Что-то пыхнуло в ней, как давеча огонь над углями. Подбежала к иконе, забралась на лавку, поцеловала Казанскую, великую святыню русскую, в самый краешек, благоговея.
– Царица Небесная, пощади! Не оставь!
Сошла с лавки, торопливо позвонила в колокольчик. Явилась Барбара Казановская.
– Пусть приготовят постель.
– Ваше величество, вы не поужинали.
– Не хочу… Пани Барбара, милая! Найдите мне такую колдунью, чтоб навеяла на нас, узников, и на все царство Русское сон длиною в столетие, пока на северном нашем небе планеты переменят место и станут счастливо.
Уже укрывшись одеялом, Марина Юрьевна спросила:
– Чем батюшка занят?
– Пан воевода в кругу ближайших. У дверей охрана. Окна пан воевода приказал завесить.
– Батюшка обожает тайны. У него, наверное, созрел план побега или же план – высватать мне старика Шуйского.
– У Шуйского есть невеста. Объявленная.
– Чем несбыточнее дело, тем у батюшки больше огня в очах. Ступайте, пани Барбара. Я попробую заснуть в моем несчастье и проснуться счастливой.
Фрейлина перекрестила царицу и бесшумно удалилась.
Марине Юрьевне хотелось поскорее нырнуть в свои грезы, да из головы не шел отец. Об отце она знала не все, но многое.
Вместе с братом Николаем он служил при дворе Сигизмунда Августа. В Польше о той службе двух мнений не было: братья прислуживали до омерзения. Молва настойчиво приписывала отцу и дяде кражу королевских сокровищ в Кнышине. Об этих временах в доме забыто. Зато не было, кажется, дня, когда б отец так или иначе не помянул о походе с королем Стефаном Баторием на Москву. За этот поход Мнишек получил в награду староства саноцкое и сокольское. Позже он был радомским воеводой, а в год ее рождения – самборским и еще через год – сандомирским.
…После московского ужаса отец из величавого стал суетливым. Никогда не говорит о дне 17 мая, но плачет и казнит себя за то, что не отправил королю и кредиторам деньги, которых было у него в Москве столько – хоть Краков купи.
О матушке, о ясновельможной пани Ядвиге вздохнула. Матушка почитала отца за выскочку, за безумца, за хвастуна, но любила без памяти. Нарожала своему герою поровну: пятерых сыновей, пятерых дочерей. Начала дочерью и кончила дочерью. И обеих любила ревнивой деспотичной любовью, не скрывая этой странности от других детей. Анна, старшая, была выдана за Петра Шишковского, войницкого каштеляна, младшая, Евфросинья, за Иордана Закличина, доброго шляхтича, но среди сильных мира сего человека даже не третьей статьи… Марина Юрьевна мерила людей по своей мерке. Ее братья, старшие Ян и Станислав и младший Франциск, учились в Италии, Николай и Сигизмунд в Париже, но она, не обласканная, плохо ученная, отданная отцом на заклание, – невеста беглого, сомнительного царевича, – стала для семьи талисманом и золотым ослом.
Матушка над своими италийскими парижанами порхала, как бабочка, рядилась во французское, почитая свой вкус за безупречный.
Марина Юрьевна не удержалась, просмаковала свою первую серьезную стычку с матушкой. Пани Ядвига давала бал по случаю как раз приезда из Парижа Николая и Сигизмунда. Не перед матерью, конечно, но и перед матерью тоже ей хотелось вызова. Втайне, на свои деньги она пошила платье из глубокого, будто малахит, китайского шелка. Пани Ядвига возвела к небу очи и руки.
– Ты как жук, Марина! К твоему ли беленькому личику болотная зелень? Ты же совершенно зеленая! Немедленно сними это и оденься в розовое. Ты – роза, а не лягушка.
– Матушка, – сказала Марина, чувствуя, как леденеют ступни, – мне пятнадцать! Что бы я ни надела – прекрасно, ибо мне пятнадцать! Я никогда не стану одеваться как все. Пусть все одеваются как я.
– У тебя тон и жесты королевы, доченька! – Пани Ядвига приласкала дочь, которая никогда не искала ее материнской близости: ждала, когда мать опомнится, и дождалась. – Сегодня будет на балу тот, русский.
– Царевич? – спросила Марина, и у нее перехватило дыхание.
– Всем очень хочется, чтобы он был царевичем. Особенно пану Мнишку.
Отца осенила мысль заплатить долги, черпнув полной мерой из казны Московского царства! За все пятнадцать лет управления самборским староством пан воевода ни гроша не дал в королевскую казну. Деньги шли на строительство и на украшение самборского дворца. Но Сигизмунду Вазе тоже были нужны деньги, и очень. Король потребовал с Самбора недоимки без всяких проволочек. Под тяжестью «экзекуции декрета» пан Мнишек продал имение, но двадцать восемь тысяч золотых погасили лишь четвертую часть долга.
Марина Юрьевна зажмурила глаза: зачем ей теперь перебирать это мелочное прошлое? Она желала и ждала от себя иных воспоминаний. Но что-то все мешало… Поднялась, задула лампаду. Стучало сердце. В окна сыпался, как снежная пыль с елок, – свет русской луны.
…Увидала себя в день свадьбы в алмазном венце. Водопад волос и вместо брызг бесценные бриллианты. Она нарочно распустила волосы – смотрите, глупые русские бабы, краснеющие, если из-под убруса выглянет колечко или прядь. Вот она где, ваша красота! Смотрите на свою царицу и будьте как она! Венцом же гордилась перед иноземными державами, перед Речью Посполитой. Венец стоил семьдесят тысяч золотых – ровно столько, сколько отец задолжал королю.
Марина Юрьевна чуть скосила глаза, она и тогда, в тот великий день, скосила глаза, чтоб посмотреть на шествие, которое все было за ее спиной, но, скосив глаза теперь, она увидела тесаное бревно с янтарными разводами вокруг сучков.
Перед глазами встало небо предпоследнего дня свадьбы и жизни… На небо ей показал Дмитрий. Тучи стояли горой, и посреди горы зияла черная пещера. К пещере двигался огромный гривастый лев. Потом появился великан. Великан вел верблюда. И все они сгинули в черном, как преисподняя, зеве. Туча скоро распалась, растаяла, но в небе явился город, такой явный, будто его нарисовал художник. С зубчатыми стенами, с башнями. Над городом клубился черный дым.
– Дарю тебе и это! – сказал Дмитрий.
Она вздрогнула, ей почудилось в словах кощунство.
– Что ты даришь мне?
– Небесный град. Сей образ Истамбула, который я положу к твоим ногам уже в нынешнем году.
Она хотела сказать ему: не надо трогать неба, – но не сказала. Она назначила на завтра, на 17 мая, маскарад и не хотела, чтобы государь, насторожась и взяв в голову ее слова, поубавил пыла и фантазии. Праздники с оглядкой рождают самую несносную скуку. Но когда люди изображают веселье, а сами цепенеют при каждом громком возгласе и неосторожном звоне шпор – страшно.
Марина Юрьевна сбросила с себя одеяло. Жарко, душно, все мысли не о том! Надо вспоминать по порядку. Каждый взгляд, каждую вещь, все слова, все прикосновения, вкус блюд, цвет неба, запах воздуха…
– Подарки! – пришло ей в голову. – Надо начать с подарков.
22 ноября 1605 года. Краков, королевский замок в Вавеле. Обручение. Дмитрий прислал ей подарки, и она – боже мой, несносная гордыня юницы и шляхтянки – ведь как следует не посмотрела царское подношение во славу ее красоты и благородства. Она, глупая, удушала в себе радость, чтобы не уронить достоинства. А достоинство, царское достоинство, в искренности. Подарки она подержала в руках тайно, ночью, при свече. Как вор! Дмитрий прислал ей самое дорогое и удивительное, что было у него. Иконку Пресвятой Троицы на золотой массивной бляхе. В золотых гнездах оправы сидели прекрасные камни, окруженные сиянием крошечных алмазов.
Марина Юрьевна силилась вспомнить саму икону и не видела ее. Тогда она почитала себя ревностной католичкой и смотрела на православные святыни с превосходством.
Ее поразил камень «Нептунус» – голубой алмаз со дна морского, и прежде всего стоимостью – шестьдесят тысяч золотых. Ради озорства она его даже под мышку положила: «Я дороже на шестьдесят тысяч!» Будь «Нептунус» теперь, смотрелась бы в него день напролет: ведь он хранил и дарил свет неведомого мира. Дмитрий хотел, чтоб каждый подарок поражал воображение, и каждый подарок поразил, да только не ее. Золотое перо с рубинами, с тремя жемчужинами величиною с голубиное яичко! Подумаешь! У государей в сокровищницах не такое хранится. Теперь ей было горько вспоминать свое глупое пренебрежение. У каких государей? В каких сокровищницах? Ни одна невеста в мире не получала столько сказочной красоты, сколько Дмитрий поднес ей, не царевне. А ведь Сигизмунд предлагал ему царевен…
Марина Юрьевна сильно, властно взмахнула рукой над лицом, отбросила ненужное.
Подарки посол царя Дмитрия канцлер и думный дьяк Афанасий Власьев подносил перед обедом. Подарки принимала супруга беязского воеводы, а благодарил за честь каштелян маточский. Рубиновое перо восхитило и короля, и шведскую королеву, а она – нахмурилась! Потом была поднесена чаша червонного золота, вся в рубинах и алмазах. Сюда бы чашу, в Ярославль, квас пить… Золотой ларец, в ларце жемчужное ожерелье – самое скромное из подношений. А ведь каждая жемчужина для простого шляхтича – состояние.
Всех позабавил золотой пеликан с рубинами на груди, но еще более ларец черного дерева. По краям его на позолоченных пластинах стояли серебряные трубачи и барабанщики. В центре же был слон, на слоне башня, на башне золотые часы. Власьев подгадал поднести эту драгоценную утеху за мгновение до боя часов. Едва ларец водрузили на стол, как большая стрелка стала на 12, трубачи затрубили, барабанщики ударили в барабаны, слон принялся покачивать хоботом. Король зааплодировал, а шведская королева поднялась со своего места.
…Марина Юрьевна застонала от возмущения. Она и теперь не подарки вспоминала, но впечатления коронованных особ.
«Да будь же ты царицею наконец!» – с яростью приказала себе.
А что же дарили после часов? Власьев представил или корабль, или богиню Диану. Кажется, сначала был золотой корабль, наполненный жемчужными нитями, весом в 4018 лотов. Жемчужины величиной были с мускатный орех. А сам корабль без нитей стоил сто тысяч.
Нет, все-таки сначала поднесли Диану. В Диане Марина Юрьевна узнала себя. В ту ночь, когда она пришла со свечой смотреть подарки – смешно! – но ведь перед зеркалом, сбросив рубашку, сравнивала… Бедра и живот – были как срисованы, а грудью богиня-охотница уступала. Впрочем, Париса в той потаенной комнате не нашлось. Не нашлось и второго оленя с коралловыми рогами. На олене восседала Диана. Точеные копытца, глаза из янтарей… На церемонии шведская королева – после корабля или после Дианы? – даже прибегла к флакончику с нюхательной солью.
– У меня от сокровищ голова кружится!
А Власьев, как магрибский маг, творил чудо за чудом. Четыре сорока соболей были безупречны качеством меха и красотою. Парча, восемнадцать головных уборов, четыре нитки персидского жемчуга, белого как молоко. Одна из этих нитей была так тяжела, что ее нарочно поднесли дамам и дали подержать.
Уж не ради ли ее сокровищ король Сигизмунд, когда она садилась за стол, привстал и снял шляпу!
По левую руку от короля место заняла шведская королева. По правую сидела она, невеста и уже почти царица, а возле нее сел королевич Владислав. Серьезный голубоглазый девятилетний мальчик. Рядом с кардиналом посадили Власьева, который на обручении «играл» роль Дмитрия, а рядом с папским нунцием воссел сам сандомирский воевода. Отец был сурово сдержан и прекрасен. А мама не видела триумфа своей средней, затерявшейся среди детишек дочери – болела.
Обряд умывания начали с короля. Потом воду поднесли ей – сразу после короля. Шведская королева умывалась третьей. Королевич тоже умылся, Власьев умывание отверг. В Московском царстве такого не заведено – умываться перед обедом. Сам бы ладно, однако ж был он на пиру не сам по себе, но вроде куклы государя. К еде не притронулся. Сигизмунд потчевал его, но Власьев был упрям.
– Мне, холопу, неприлично пить-есть за одним столом с их величествами. С меня довольно чести глядеть, как их величества отведывают королевские яства.






