Смута Теплов Юрий
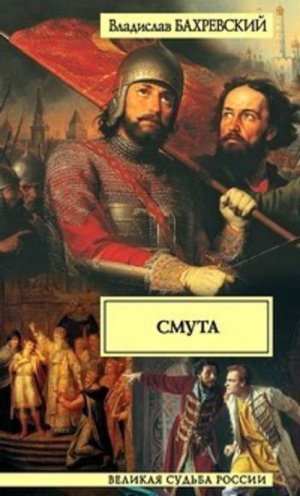
Казалось, пробил час торжества, и не только Москвы, туман Смуты развеивался над Русской землей.
Марина Юрьевна верхом на лошади на виду у всего войска подскакала к Заруцкому и поднесла ему букет колокольчиков.
– Вы единственный, на кого можно положиться в этом войске, – сказала она громко, чтоб слышали.
Заруцкий сошел с коня, поцеловал стремя государыни.
Вечером Вор пожаловал в покои супруги. Увидел, что вещи собраны, небрежно сказал:
– Если бы у русских был я, то сегодня они были бы в Тушине, но у них Шуйский, и, значит, они здесь не будут никогда.
– Обо мне так много заботы, – ответила Марина Юрьевна, – что я о своей безопасности принуждена заботиться сама.
– Я написал Сапеге письмо, пусть пришлет нам в Тушино подкрепление.
– Не я ли вчера вам пересказывала видение казака? И еще этот огненный дождь с неба!
Вор подошел, обнял.
– Я устал от войны, одарите меня вашей любовью.
– Любовь дарят победителям, а я вас вижу перед собой только побитым.
Вор, не отвечая, сбрасывал с себя одежду. Лег в постель, натянул одеяло до подбородка.
– Согрейте меня поскорее. Русский Бог сегодня был к нашим величествам немилостив, но самих русских он все-таки не любит более, чем нас. Они не хозяева в своей стране. Я, пожалуй, прикажу выпороть моего патриарха Филарета и его нерадивых попов.
– Вы опять богохульствуете, ваше величество.
– Сяду в Москве, обязательно заведу такой порядок: за победы, за урожай, за всякую прибыль – попам награда, за пожары, за недород, за военные поражения – порка.
– Вы хотите, чтобы я легла к вам?
– Царица красоты!
– Тогда умолкните. Вы не любите меня, я не люблю вас, но мы – супруги, исполним нашу обязанность молча.
– Позвольте мне напевать.
– Напевать?
– Но это все-таки лучше молчания.
– Извольте.
И негодник принялся мурлыкать, прищелкивать языком, выводить мелодию фистулой, а когда облегчился, повернулся на бок и заснул.
«Шут! – с яростью думала о нем Марина Юрьевна и о себе подумала: – А кто же вы, если ваш супруг шут? Шутиха?»
Утро вечера мудренее.
Заспавшегося государя разбудил Рукин:
– Явились из-под Саратова казаки, тысячи три-четыре, просятся на службу.
– Непременно награжу Филарета, – подмигнул Вор Марине Юрьевне.
Казаки оказались астраханскими. Их вел «сын» царевича Ивана Ивановича, убиенного Грозным, со странным прозвищем Осиновик. Под Саратовом воевода Сабуров побил казаков, те узнали вдруг, что Осиновик – самозванец, и со зла утопили в Волге.
Вновь принятых казаков Вор оставил при себе. Едва покончил с этим делом, доложили: в табор приехал от Шуйского плененный на Ходынском поле пан Станислав Пачановский. Московский царь предлагал полякам покинуть Вора, выйти из пределов России и за это обещал отпустить пленных без выкупа. Тотчас собралось коло, ответ был короткий: «Товарищи и родные нам дороги, но слава дороже. Скорее помрем, чем отступимся от задуманного».
Пачановский был отпущен в Тушино под честное слово. Ему советовали не возвращаться, но он пропьянствовал с друзьями ночь, а утром поехал в плен.
То была новость, о какой даже в московском тереме говорили. О том, что пан Станислав сдержал слово и воротился, Марье Петровне первым прибежал сказать сам Василий Иванович. А через час эту же новость привезла царице княгиня Александра Васильевна, жена князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, с которой шли они под венец в один день, в один час в Успенском соборе.
Вся Москва, вся Россия ждала прихода князя Михайлы, но уж никто с такою тоской, как княгиня Александра. Вот и ездила к Марье Петровне чуть не каждый день. Царица после болезни своей нуждалась в добром слове, а еще более в сочувственных слезах.
Затаясь в царицыном чулане, который помещался за спаленкой и был комнатой в одно окошко, с сундуками для рухляди, они плакали в два голоса друг перед дружкой, освобождая груди от тревоги, а глаза от маеты. Александра Васильевна изливала тоску по князю Михайле, по великану своему, а царица оплакивала безысходное несчастье царского дома, где сиротами были без детушек царь с царицей.
Марью Петровну к тому же сон пугал. Трижды одно и то же снилось. Будто идет она по дороге. День светлый, мир сияет, и ей самой тоже радостно, а когда она спохватывается наконец, поздно: стоит, вознесенная, на куполе Ивана Великого. Купол гладкий, овалом, не за что ухватиться, чтобы не упасть, устоять. И она хватается за крест…
Сегодня приехала Александра Васильевна – легкая, как птичка.
– Всей Москве новость, – объявила княгиня. – Поляк, которого государь в табор посылал со словом своим, чтоб шли подобру-поздорову прочь, – воротился. А князь Иван Иваныч Шуйский для пленных дворян устроил угощение. Сегодня трех отпустил в обмен на наших и каждому подарил по сукну. Один пан у него в доме лежит, раненый. Князь сам его отварами поит, обедает с ним в опочивальне, никак наговориться не может. Уж очень ученый и умный пан.
– Был бы умным, не пошел чужую страну воровать, – сказала Марья Петровна.
Ей было не по душе, что к полякам, которые год держат Москву в полуосаде, такое добродушие и даже чуть ли не дружество.
Марья Петровна слушала княгиню со вниманием, не показывая, что обо всем знает достовернее.
– Полякам недолго осталось нас терзать, – радостно рассуждала княгиня Александра. – Федор Иванович Шереметев побил в Юрьевце жестокого Лисовского, взял Муром, Касимов!
– А что же ты о Михайле Васильевиче помалкиваешь? – улыбаясь, спросила царица.
– Сглазить боюсь, – призналась княгиня Александра, вспыхнула, слезки из глаз у нее закапали.
Марья Петровна обняла подружку, прижалась щекой к щеке, мешая соленую капель.
Соленый дождь не переставая накрапывал над всей Русской землей.
Птица феникс рождается из пепла, совесть оживает слезами.
Ужас жизни требовал от людей – отречения от совести. Не то разорение, смерть! И многие, многие пеленали совесть, как тайно рожденное дитя, и в глухую, беспросветную ночь погружали в реку, в черную воду, боясь открыть себя даже всплеском.
Тот спеленутый и погубленный ребенок был душой. Многие так жили, избавившись от души. Одним это было страшно, другим весело… Жизнь без несения креста, без Бога, без болящей души – проще. Хлопай себе глазами да делай, как все. Но соленый дождичек капал с небес, и самый бесстыдный прозревал: в темной воде не душа утоплена – кукла.
И не всякий торопился вновь умертвить в себе себя, иные раскаивались и оживали для жизни с Христом, с Отечеством, чувствовали, что в жилах-то русская кровь течет.
Когда к воеводе Мирону Андреевичу Зернову-Вельяминову граждане древнего Владимира ввалились со счастливым гомоном, уступая ему первое место целовать крест царю Шуйскому, ибо нижегородец Андрей Семенович Алябьев во главе войска шел освобождать от тушинцев нижегородские и владимирские земли, а боярин Федор Иванович Шереметев без боя пущен был в Муром, – Мирон Андреевич вознегодовал и воспротивился.
– Если для вас клятва – пустой звук, то для меня – это жизнь или не жизнь души. Я, как и вы, целовал крест во имя царя Дмитрия Иоанновича. Что я Богу скажу?
– А то и скажешь, что тушинский царек – вор!
– Низко переменять хозяев, когда они в затруднении! Что вы будете делать, если завтра в город явится Лисовский?
– Твоего Лисовского Шереметев под Юрьевцем побил! – Вы как хотите, у меня один Бог, один царь, одна жизнь, – твердо сказал Мирон Андреевич.
– Вот враг Московского царства! – указал на воеводу протопоп Успенского владимирского собора.
Мирона Андреевича схватили, потащили, поставили к соборной стене, ко храму, где сам Андрей Рублев славил кистью Господа Бога, и бросали камнями в спасшего их от Наливайки, от многих поборов. Воевода крепился, стоял под ударами, пока свет в глазах не померк.
В Москву потом сообщили, что Мирон Андреевич забит до смерти, но он был подобран, выжил. И не только выжил, но еще и послужил России, освобождая ее от поляков – от поляков! Им-то он креста не целовал, как иные. В документах ополчения подпись Мирона Вельяминова девятая, перед подписью князя Пожарского, Минин подписывался пятнадцатым.
Вспомнили о чести вдруг и в стане Вора. Отброшенные с Волги русскими полками Шереметева и Алябьева, явились в Тушино казаки, ведомые близкими родственниками Вора. Один называл себя сыном Иоанна Грозного, носил имя Август, другой приходился Иоанну Васильевичу внуком, именуя себя Лавром.
Вор обоим послал подарки и много вина.
Во время обильного возлияния оба родственничка были схвачены и вздернуты. Их виселицы долго стояли на Московской дороге, предупреждая всех самозванцев, что истинный самозванец ныне на Руси один и другого быть не может.
Полыхали зарницы, озаряли зреющие хлеба. Вор сидел на удобном кресле, доставленном ему из Польши. На ужин была ему белужка, хорошее вино. В окна струилась прохлада, пахнущая травами.
– О, эти полыханья неведомо чего! – говорил Вор шуту Кошелеву. – А знаешь, друг, я научился даже в отчаянии находить наслаждение. Мне грозят смертью – наслаждаюсь ужасом. Я для многих загадка. А загадка моя в том, что я обратил жизнь мою в наслаждение… Разве это не восхитительно: на мне одежда из тончайшего шелка, я ем редкую рыбу и пью заморское вино… Для нас играют зарницы… Для полного удовольствия недостает, правда, какой-то малости…
– Пророк Магомет, – сказал Кошелев, – наслаждением почитал женщин и благовония. Может, зажечь ладан в курильнице?
Курильницу привез князь Петр Урусов, Вор отвалил татарину чуть не треть казны, задумывая нечто тайное и никому пока не ведомое.
– Запали, – согласился Вор.
Шут вышел из комнаты и явился с мужиком, который принес в горстях горящие угли и насыпал в курильницу.
– Объясни свое шутовское иносказание, – потребовал Вор.
– Боюсь, что ты слишком полагаешься на чужие руки, когда загребаешь жар. Лето, а мы все в Тушине.
Вор тихонько засмеялся.
– Во-первых, я не воин. Во-вторых, у меня своего… даже имени нет. Сама моя жизнь превращена ныне в предмет торгов. Торги идут в Москве, в Тушине, в Самборе, в Кракове. Ты приметил, шут, – купцы-евреи покинули мой табор? То-то! У Филарета секретничают, сговариваются объявить королевича Владислава царем русских. Король Сигизмунд воспретил Мнишку присылать ко мне новые отряды, и не только ему. Всем полякам запрещено идти ко мне. Пан Гонсевский, бывший посол, приводит под имя короля Сигизмунда земли вокруг Смоленска. Короля надо вскоре ждать в гости…
Полыхнуло так сильно, что небо порозовело на мгновение. – Откуда берется огонь в зарницах? – удивился Вор. – От молнии был бы гром, зигзаг… Нет, шут. Не пришло мне время таскать из полымя угли голыми руками… Когда все это начиналось, я чувствовал себя исполнителем черной воли. Но я слишком возносился в моих помыслах. Никому-то мы не надобны со своими страстишками, со скудными нашими грехами. Хочешь, шут, предскажу, что будет с Россией?
– Предскажи, государь.
– Знаешь Павлу?
– Павлу? Царь-бабу? Которую ты Рожинскому подарил? – Она теперь не у Рожинского. К Рожинскому она попала, будучи брюхата. Тот не сразу приметил это, а когда приметил, вернул ее в табор, солдатам. А солдаты, по ее просьбе, отвезли ее в тайное место, в лес, поставили ей избу, снабдили всем, что впредь понадобится, даже повитухой… Так вот и с Россией будет: она заслонит себя от своего теперешнего блуда дремучими лесами и, придет время, разродится собою же, подрастет вдали от глаз и явится перед миром.
– Тебе бы, царь, шутом быть. Очень уж ты умный.
– Я для одного тебя царь, для других – шут. Серьезные времена для Русского царства минули. Вот Павла разрешится от бремени, а покуда всякий человек на этой земле – утеха козлу.
– Ого! – сказал шут с угрозой.
– Больно за свою родимую? – Вор смеялся тихонько и отвратительно. – Ты ведь себя, русский, за хорошего человека почитаешь. А знаешь, что сделали ярославцы с бедным Иоахимом Шмитом? Они так ему кланялись, так радостно ломали перед ним шапки, с такой охотой ходили убивать своих, русских, сторонников Шуйского, что он, бедный немец, принял подобострастие за любовь. Мог бы убежать, но, заботясь о безопасности города, вернулся, чтобы защитить мирных людей, и был этими мирными опущен в котел с кипятком.
Шут заворочался, сполз со стула, перекатился через голову.
– Заболтался я с тобой, пора и честь знать.
– Ничего, я тебя еще послушаю! – Вор больно ухватил шута за шиворот. – Отчего удираешь? Откровений моих испугался?
– Испугался, государь. Сболтнешь лишнего ты, а голову снимешь с меня. На Московской-то дороге все еще висят.
– Родственнички? Ты прав, шут. Хуже нет, когда царя тянет душу облегчить. Расскажи мне сказочку на сон грядущий, тогда и ступай себе.
– Какую тебе, похабную или чтоб сердце задумалось?
– Сердечную давай.
Шут подул на угольки в курильнице и начал:
– Жил-был царь-холостяк. Захотелось ему жениться. Боярские дочери от гордыни, от важности все дуры дурами, заморских царевен сватать – дело тонкое, хлопотное. Вот раз поехал царь в поле зайцев травить собаками и повстречал пастушку. До того была хороша пастушка, что царь тотчас решил: «Вот моя жена». Подъехал, спрашивает: «Пойдешь за меня замуж?» – «Пойду». – «Смотри, с уговором тебя возьму: хоть одно слово поперек скажешь – голову на плаху!» – «Согласна». Дело сладилось, и через год родила царица сына. Царь пришел, поглядел и так решил: «Твоего сына убить надо. Он – мужик. Не может мужик на царстве сидеть!» – «Твоя воля», – ответила царица. А тот и вправду сына забрал, унес.
На следующий год родила царица дочку. И дочку царь отнял – диким зверям скормить.
Прошло много лет, и однажды говорит царь царице: «Надоела ты мне, мужичка. Снимай царские уборы, надевай крестьянские. Будешь служить новой государыне». Жена повинуется. А царь и впрямь привез во дворец красавицу да еще красавца.
«Хороша ли моя невеста?» – спрашивает.
«Тебе хороша, мне и подавно», – отвечает бывшая царица покорно.
«Тогда снимай крестьянское платье, надевай царское, садись за мой стол. Красавица – дочь твоя, а добрый молодец – твой сын, а мой наследник».
Тут и сказке конец.
– Слушай, а ведь он большая скотина – твой добрый царь! – возмутился Вор.
– Коли тебя пробрало, значит, ты не худший из этого гнилого племени, – ответил Кошелев и убежал, нарочито не увернувшись от брошенного в спину царского башмака.
В дверях сказал:
– Одно у тебя приятное дело за весь день.
– Какое?
– Меня по горбу огрел.
Зарницы зорили новые хлеба, а старый хлеб в Москве стоил опять по семи рублей за четверть. Амбары Троицкого подворья опустели, на дорогах хозяевами были тушинцы. Чего же делать, потерпели бы, но из-под Владимира пришла сокрушающая сердца злая весть: Лисовский, побитый под Юрьевцем, ожил, как птица феникс, и зарезал всю пехоту боярина Шереметева. Сам Шереметев успел во Владимир убежать. То же самое и со Скопиным вскоре станется.
Царь Василий Иванович шел из Успенского собора от заутрени, когда с паперти стали показывать на него пальцами и кричать:
– Дай хлеба, негодный царь! Когда же ты сдохнешь наконец!
Василий Иванович проследовал молча, приказав страже не трогать крикунов.
На следующий день у дворца собралась толпа. Просили с угрозами:
– Хлеба! Дай хлеба! Не то ворота откроем Тушинцу! Сам жрешь, дай и нам!
Толпе вынесли нарезанные ломтями караваи, но смирение царя принималось опять-таки за слабость.
В полдень перед дворцом бушевала уже вся Москва.
– Тушинца желаем! Зовите Тушинца! – наседали крикуны на бояр, на священство. – Хлеба! Хлеба!
От кровавого столкновения с царской охраной спас сам Господь. Привел в Москву от князя Скопина-Шуйского дворянина Безобразова. Письмо было о взятии Твери, о полной победе и о бегстве поляков и казаков.
Шуйский тотчас послал Безобразова читать письмо народу. Проклятия в адрес царя сменились всеобщим умилением. Толпа опустилась на колени, молилась Богу за здравие батюшки царя, за Василия Ивановича.
Так и жили русские люди, не живя, а выживая, в молитвах и святотатствах.
И была ли жизнью жизнь тушинцев, поляков, казаков, изменников из русских, изменников из татар, мордвы? Вдоволь насладились насильники ужасом в глазах юных дев, в глазах мужчин и женщин, в детских глазах. Была ли это жизнь – жрать, отнимая последнее у голодных, рядиться в шубу, содрав ее с человека, оставленного посреди дороги морозу на потеху? Была ли это жизнь – вместо родного страстного шепота слушать истошные вопли насилуемых, вместо страстных жданных прикосновений – хватать, валить, держать за ноги, за руки, помогая товарищу, видеть перед собой не глаза любви, но глаза ужаса на разбитом в драке лице?
Природа, забытая человеком, жила одиноко, прекрасная и совершенная. Являлись на поля цветы, бушевали на ветрах леса. Птицы свистами наряжали рощи. Болота кишели жизнью, озера все призадумывались, все манили небо, и плели свои алмазные нити невидимые паучки.
Вываливались из гнезд птенцы, молодые стрижи учились не бояться высей. Торжество боровиков сменялось нашествием опят. Пепел трепетал на сгоревшем кипрее. И вот уж леса молчали, и один только мох зеленел изумрудно, и от этой бесконечной детскости чернота деревьев зияла, как пропасть. И тогда все травы, деревья, люди, земля, небо начинали ждать белых, глубоких, бесконечных снегов.
1 октября 1609 года Сигизмунд III Ваза, король польский, прибыл в лагерь под Смоленском, на высокий берег Днепра.
Короля на два дня опередил литовский канцлер Лев Сапега, у которого вместе с Янушем Острожским было 530 гусар, 650 казаков, 550 пехотинцев. Канцлер был убежден: Смоленск встретит короля хлебом-солью, он спешил приготовить торжество. Надежды эти не были пустыми. Смоленские уезды поддались на льстивые сказки Гонсевского, присягнули королю почти с полным единодушием.
В Смоленске было двести пушек и пять тысяч стрельцов. Но ради чего, ради кого терпеть пожары, голод, если московский царь неспособен к управлению страной, когда самого государства не существует, ибо хозяева в нем бродяги.
Сапегу смоляне, однако, даже к посаду не подпустили. На другой день пришел к городу во главе королевской армии коронный гетман Речи Посполитой Станислав Жолкевский. Армия состояла из 4690 гусар, 4500 пехотинцев, 1300 литовских татар и тридцати пушек.
Король за версту от лагеря пересел из кареты в седло, но не позволил себе ничего боевого в одежде. Любовался рекой, могучими стенами города, куполами церквей.
Жолкевский встретил государя вопросом:
– Я еще в Минске спрашивал ваше величество: что убеждает вас в успехе задуманного предприятия? Вас очень торопил сюда литовский канцлер, он прибыл раньше нас, но я не вижу крестного хода, встречающего ваше величество. Я вижу, как поводят жерлами пушки на стенах. Кстати, высота их равна семи русским саженям.
– Пан гетман, я заготовил для воеводы Шеина и для граждан города ясные, милостивые универсалы. Отправьте их в Смоленск, и подождем ответа. Гонсевский мне писал: московские бояре желают видеть на престоле моего сына Владислава.
– Ваше величество, у Шеина солдат меньше, чем у нас, но у него всемеро больше пушек. За стенами города укрылись крестьяне… Мне называли, что их семьдесят тысяч, сто, сто двадцать. Большинство из них поднимутся на стены. На стенах сражаться много проще, чем под стенами.
– Я помолюсь за мое рыцарство, – сказал король, и Жолкевский оставил его, косясь на отцов-иезуитов, со смиренным молчанием стоявших в стороне. Уходя, он слышал, как король поделился с кем-то наблюдением: – Природа здесь напомнила мне окрестности Грипсхольма.
Сорок три года тому назад шведская принцесса Екатерина, дочь польского короля Сигизмунда I, жена Юхана Вазы, брата короля Эрика XIV, родила в Грипсхольме своего первенца. Детство началось с заключения в замке. Но через два года, в 1568 году, по смерти Эрика, сын его Густав был отстранен от престола, который достался Юхану.
Пращурам Сигизмунда Швеция была обязана свободой. Его дед по материнской линии Густав Эриксон Ваза происходил из рода Стуре. Регент Стен Стуре поднял народ на угнетателей-датчан. В битве при Брункеберге Густав Эриксон нес шведское знамя. Датский король Христиан II был разбит, но через два года, в 1520 году, устроил шведам стокгольмскую кровавую баню. Отец Густава, рыцарь Эрик Иогансон, был казнен вместе со Стеном Стуре. Густава в Швеции в то время не было, его отправили заложником во время переговоров после Брункеберга, но затем он был объявлен пленником, претерпел заточение в замке Колё, бежал в Любек и вернулся на родину уже после стокгольмской кровавой бани, в декабре 1520 года. Он поднял на датчан шведский народ, но военные победы одержал с помощью наемной армии, присланной из Любека. Через три года на сейме в Стренгнезе Густав был избран королем. Он освободил Швецию от тягостного союза с Ганзой, основал военный флот, утвердил границы государства и в 1544 году, на сейме в Вестеросе, за эти великие заслуги получил право на передачу короны наследникам.
Начавший жизнь с ареста Сигизмунд уже в двадцать один год стал польским королем. Это произошло в 1587 году, а по смерти отца, в 1592 году, он унаследовал корону Швеции. Два венца на одной голове не уместились. Потеряна была родовая, шведская, в 1599 году.
Дед Густав ради финансовых выгод ввел реформацию – церковные богатства перекочевали в государственную казну. Внук, воспитанный католичкой матерью, опекаемый иезуитами, попытался вернуть в Швецию католичество и потерпел полное поражение.
Теперь Сигизмунд искал для себя шапку Мономаха. Ему очень хотелось увидеть сон: три короны, возложенные на его голову. Сон не приходил, но явь обнадеживала. Завтра вступить в Смоленск, через две недели в Москву, а там и до Стокгольма рукой подать.
Короля разбудили в полночь. Небо заволокли багряные, как кровь, тучи. С неба падал пепел, в лесах, ужасая душу, выли волки. Горели посады.
– Хлеба-соли не будет, – сказал королю Жолкевский.
– Они хотят смерти. Убейте их, гетман.
– До завтра смоляне доживут, – ответил коронный гетман, и в словах его была насмешка.
Утром выяснилось: польские пушки большого вреда городу причинить не могут. Стрелять приходилось из низины, одни ядра долетали до подошвы холма и скакали по зеленой траве, другие ударялись в основание стены.
Первые подкопы русские прозевали. Не думали, что поляки так скоро примутся за дело. 4 октября подножие одной угловой башни окуталось дымом. От взрыва башня содрогнулась, и – только. Полковник Людвиг Вейхер и его петардники просчитались. Немецкая стена, может, и повалилась бы от такого заряда, но смоленскую ставил Федор Конь, слава русских зодчих покоилась на троекратной прочности, зодчий царя Бориса Годунова своею славой, именем своим дорожил.
Пан Новодворский был более счастлив. В два часа ночи 5 октября огромной петардою (а петарда – это короб, набитый порохом) были взорваны Аврамовские ворота. Петардщики заплатили за успех своими жизнями, и понапрасну. Отряд, ворвавшийся в город, проявил чудеса храбрости, но почти весь погиб, не получив подкреплений. Смоляне тотчас поставили вместо ворот деревянный сруб. Еще через три дня, опять-таки ночью, смельчаки Новодворского взорвали другие ворота и захватили башню Пятницкого конца. Русские, однако, и башню себе вернули, и Спасский монастырь.
12 октября, дождавшись прихода десяти тысяч запорожских казаков, король повелел войскам взять Смоленск приступом.
Ни один из подкопов не сработал, смоленские слухачи всех кротов обнаружили, всех оставили под землей.
На Большие ворота ударил маршал Дорогостайский. Крови пролилось много, но Смоленск устоял, а сильно потрепанному войску короля только и оставалось, что сидеть вокруг города, зализывать раны и ждать, не поумнеет ли воевода Шеин, не поклонится ли королю, который воистину король – не Вор, не узурпатор Шуйский. Ведь в жилах Сигизмунда течет не только благороднейшая кровь шведских и польских королей, но и царская, русская. Его предок великий Ягайло был сыном русской княгини и детей своих, Владислава и Казимира – польских королей, – имел от русской же княгини, от Софии Юрьевны.
– Почему, почему они упорствуют? – спросил однажды король Жолкевского.
– У Шеина множество шпионов, – ответил коронный гетман, – ему известно, что вы обещали в Люблине всю добычу, взятую в Московском царстве, подарить Речи Посполитой. Ему известно, что вы почитаете православие за еретичество, что сия война начата вами для славы Божьей и ради торжества католической веры.
– Ваша искренность, гетман, подает мне пример, как надо говорить с послами тушинского царька, – сказал король, усмехнувшись.
– Насколько мне известно, князь Рожинский и все его конфедераты восприняли приход вашего величества в Россию как посягательство на их добычу. – Жолкевский избрал для себя говорить королю правду.
– Они должны сделать выбор – служить Речи Посполитой и своему королю или быть отщепенцами родины, недостойными слугами обманщика.
– Я не понимаю, почему они прислали послом полковника Мархоцкого. Боюсь, что он и словом будет рубить, как саблей. Мархоцкий – отважный солдат, но я не знаю за ним дипломатических талантов.
– Пусть с посольством разговаривает пан Крыский. Я помолчу на приеме.
Пан Мархоцкий и впрямь в речах своих не мудрствовал, сказал то, что думал сам и с чем согласна была вся польская часть Тушина.
– Прибытие вашего королевского величества, – объявил он сразу после приветствия, – не согласуется с ответом, полученным нашими послами во время последнего сейма. А так как теперь собираются уничтожить плод наших кровавых трудов и заслуг, то в таком случае ни короля – государем, ни братьев – братьями, ни родину – родиной мы считать не будем!
Сигизмунд внутренне похолодел. То, чем он собирался припугнуть конфедератов в самом конце переговоров, они отмели сами, в первом же слове своем.
Пан Крыский стал бледен от гнева.
– Что означает эта бесстыдная и дерзновенная речь?!
– Я ни на волос не отступил от данной мне инструкции, – ответил храбрый Мархоцкий.
После воцарившегося тягостного молчания Крыский спросил:
– Венчалась ли их милость пани Марина с новым Дмитрием?
Это была открытая издевка, но Мархоцкий сразу не понял и ответил, удивленно поводя глазами:
– Светлейшей царице незачем вторично сочетаться браком, ибо с нее совершенно достаточно одного венчания, совершенного самим папским нунцием в присутствии короля!
– Всему миру известно, что человек, именующий себя царевичем Дмитрием, обманщик, – усердствовал в ненависти пан Крыский. – Его настоящее имя, кажется, Матвей Веревкин, а может, и какое-то иное…
– На сейме король польский изволил говорить о государе Дмитрии Иоанновиче с уважением, какому и положено иметь место при сношении государевых послов.
– То не есть большая тайна, – парировал Крыский пренебрежительно, – в государственных делах ради пользы отечества приходится иногда закрывать глаза на истину и допускать малое зло, лишь бы не случилось большое.
– Чем же тогда наш государь хуже вашего?! – взъярился Мархоцкий.
– Как вы смеете, полковник?! Вы подданный короля Речи Посполитой.
– Я посол московского государя Дмитрия Иоанновича. На коло в Тушине мы – шляхта и казаки, пришедшие на службу истинному русскому самодержцу, – постановили стоять за него, покуда он не воссядет на свое царское место в Грановитой палате Московского Кремля. – И обратился к Сигизмунду: – Ваше королевское величество! Пан Крыский легко забрасывает меня словами, я утону в них, как в русском снегу, но правда такова, и наказ, данный мне моими товарищами, таков: мы просим ваше королевское величество выйти из пределов Московского царства и не мешать нам продолжить наше дело, которое мы совершаем, помня о благе Речи Посполитой, о поляках и о святой католической вере. Не отдаляйте миг нашего торжества.
– Вам будет дан письменный ответ, – прекратил аудиенцию канцлер Крыский.
В грамоте к тушинскому войску было сказано: «Речь Посполитая славится редкою свободою, но и свобода имеет законы, без коих государство стоять не может. Закон республики не дозволяет воевать и королю без согласия чинов государственных, а вы, люди частные, своевольным нападением раздражаете опаснейшего из врагов ее. Вами озлобленный Шуйский мстит Польше крымцами и шведами… Идите и скажите своим клевретам, что искать славы и корысти беззаконием, мятежничать и нагло оскорблять верховную власть есть дело не граждан свободных, а людей диких и хищных».
Не дожидаясь вестей от своего посольства, не веря в его удачу, гетман Рожинский, все еще хворая, сел в сани и по первому снежку отправился в лагерь Сапеги, под стены Троице-Сергиева монастыря.
Он прибыл не в лучший час для воинства пана Сапеги. В воздухе стоял запах пороха. Преградив дорогу гетманскому поезду, похоронная команда на пятидесяти телегах через жуткую грязь везла, нахлестывая вязнущих лошадей, раненых и убитых. В телегах было по трое и по четверо. Но в одной из телег лежала одна женщина. Длинные русые волосы от сильного ветра ходили по неподвижному белому лицу.
– Кто это?! – удивился Рожинский.
– Со стены упала, – ответили ему. – Пулей сшибло. Подняли – жива была, а теперь нет.
Сапега занимал каменный дом. Встретил князя во дворе, но без лишних слов, не выказывая удивления или озабоченности.
Горница, куда провели князя, пока хозяин отдавал распоряжения, оказалась на диво светлой. Пол, стены, потолок были выкрашены белой краской.
Печь протоплена, но пахло не кирпичами, а чем-то свежим, возможно анисом. На князя Романа повеяло детством, жизнью в селе, на природе.
Князь подошел к зеркалу. Оселедец с усами да глаза. Лицо почти зеленое.
– Какое ужасное у вас зеркало, – сказал он вошедшему Сапеге.
– Вашей милости следует заняться своим здоровьем.
– Проще поменять зеркало. Я пришлю вам… не такое беспощадное.
– Это от света. Меня предупредили, что в каждом русском жилище телятам, поросятам, тараканам, клопам, сверчкам жить удобнее, чем хозяевам. Я не согласился делить мои покои ни с кем, кроме ежа.
– У вас живет еж?
Сапега засмеялся.
– Вы знаете, что изображено на гербе у пана Лисовского?
– Не имею чести.
– Еж.
Рожинский улыбнулся.
– Если ваша светлость желает отдохнуть с дороги, то через полчаса для вас будет приготовлен дом, но время обеденное…
– Благодарю вас, ваша милость. Я действительно успел проголодаться. Осень в России – не лучшая пора для путешествий. Оставить войско меня побудили чрезвычайные обстоятельства. Без вашего дружеского совета никак не обойтись.
– Соседство с воеводой Скопиным меня очень беспокоит, – сказал Сапега.
– Но я о другом!
– Ваша светлость, сначала отобедаем. Иначе это не по-христиански.
Рожинский знал – разговор предстоит трудный, убедить Яна Сапегу противостоять королю, когда у короля в советчиках Лев Сапега, дело очень деликатное… Щадя свое самолюбие, князь Роман предпочел обед в неведении обеду, когда на хозяина смотреть не хочется.
За стол были приглашены русские: дьяк Иван Тарасьевич Грамотин, боярин Михаил Глебыч Салтыков, изгнанный Скопиным из Орешка, Федор Кириллыч Плещеев – и еще один поляк, совсем юный, по фамилии Борзецкий. Он приехал из-под Смоленска принять дядю своего, которого, без всякого выкупа, вылечив от ран, отпускал из плена Иван Иванович Шуйский.
– Почему же вы здесь, а не в Тушине? – прямо спросил Рожинский, заподозрив Сапегу в тайной переписке с королем.
– В этом лагере у меня несколько приятелей, – простодушно ответил Борзецкий. – Они давно в России. Я хотел узнать у них, что нас здесь ожидает.
– Что нас здесь ожидает, знают трое, – сказал мрачновато Рожинский, – Бог, их милость пан Сапега да я.
Сапега взглянул на пана гетмана и промолчал. Тогда, чтобы досадить этому странному русскому застолью, цель которого Рожинскому не была понятна, он вдруг потеплел к Борзецкому:
– Расскажите, будьте милостивы, о Польше, что там, какие новые ветры дуют?
– Все так же, как всегда! – ответил Борзецкий. – Впрочем, перед самым моим отъездом я стал свидетелем одного забавного, но, как мне кажется, нехорошего действа. Один иудей снял в доме христианина квартиру. На его беду, прежний владелец начертал на стене огромными буквами имя «Иисус». Иудей соскоблил эту надпись, но о том узнали иезуиты. Бедняга Мойша был не только посажен в тюрьму, но и приговорен к смертной казни. Тут снова явились иезуиты, они усердно хлопотали о снисхождении к иноверцу и, конечно, добились своего. Иудея отдали в их полное распоряжение. Весь Люблин был поднят на ноги, дабы мог оценить отеческое милосердие иезуитов. Устроили шествие, начавшееся от кафедрального собора. Впереди шел трубач, возвещая о совершившемся. За трубачом несли хоругвь с надписью «Иисус», далее следовали отцы иезуиты и, наконец, окруженный солдатами в латах – иудей. На нем была серая ряса до земли, перепоясанная накрест черной перевязью, а в руках он держал огромную, локтей в пять, зажженную свечу. Процессия дошла до дома, где снимал квартиру этот несчастный. Здесь его выпороли и отпустили на все четыре стороны.
Русские выслушали историю со вниманием, никто из них ни словом, ни улыбкой не высказал своего отношения. Рожинский, глядя на эти рожи, фыркнул в усы:
– Вот вам первый русский урок, пан Борзецкий. Здесь внимательно слушают и помалкивают. Отвечают же делом, через день, через месяц, через год, когда вы совершенно забудете о своих словах.
– За что ты нас костишь, Роман Наримунтович?! – откликнулся Салтыков. – У нас нет иезуитов. Кто они такие, нам неведомо.
– Я скажу вам, кто они! Это душевные други его величества короля Сигизмунда. Он без их совета шага не сделает. Так что у вас, господа, все впереди. Вы узнаете и ласку иезуитскую и когтей их отведаете.






