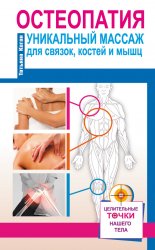Рожденная в гареме. Любовь, мечты… и неприкрытая правда Мернисси Фатима

© 1994 by Fatima Mernissi
© Перевод и издание на русском языке, «Центрполиграф», 2016
©Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016
Глава 1. Границы моего гарема
Я родилась в 1940 году в гареме, в городе Фес. Этот марокканский город IX века расположился примерно в пяти тысячах километров к западу от Мекки и в одной тысяче километров к югу от Мадрида, одной из самых опасных христианских столиц. Отец говорил, что с христианами такие же проблемы, как с женщинами, которые не уважают хадд, или, говоря иначе, положенную Богом границу. Я появилась на свет в самый разгар неразберихи, возникшей из-за того, что ни христиане, ни женщины не желали соглашаться с установленными для них границами. Прямо на нашем пороге можно было видеть женщин гарема, препиравшихся и споривших с привратником Ахмедом, между тем как в город все прибывали и прибывали чужеземные армии с севера. Собственно, иностранцы стояли прямо в конце нашей улицы, которая пролегает между Старым городом и Ville Nouvelle – Новым городом, который они сами строили для себя. Отец говорил, что, когда Аллах создал Землю, он не без причины отделил мужчин от женщин, а христиан – от мусульман, разлив между ними море. Гармония – это когда люди из одной группы уважают границы другой, а нарушение границ влечет лишь беды и несчастья. Но женщины все время мечтали о том, чтобы преступить границы. Ими неотступно владела мысль о мире, который лежал за воротами. Целыми днями они грезили, как гордо пройдут по незнакомым улицам, а христиане тем временем переплывали моря, неся с собой смерть и хаос.
С Севера надвигались беды и холодные ветра, и мы обращали наши молитвы к Востоку. Мекка далеко. Молитвы достигнут ее, только если ты умеешь сосредотачиваться. Меня должны были научить этому, когда придет пора. Мадридские солдаты расположились на севере Феса, и даже дяде Али и папе, которые были очень влиятельными в городе людьми и заправляли всем хозяйством, приходилось получать у испанцев разрешение, чтобы посетить религиозный праздник в честь Мулая Абдеслама, проходивший неподалеку от Танжера, в трехстах километрах от нашего города. Впрочем, как оказалось, солдаты, расположившиеся неподалеку от нашего дома, происходили из другого народа – это были французы. Как и испанцы, они исповедовали христианство, но говорили на другом языке и жили гораздо дальше на север. Столицей их страны был Париж. Мой двоюродный брат Самир говорил, что Париж, наверно, находится тысячах в двух километрах от нас, то есть вдвое дальше, чем Мадрид, и нравы там вдвое свирепее. Христиане, как и мусульмане, постоянно воевали между собой и уже почти перебили друг друга к тому времени, как пересекли нашу границу. Потом, когда оказалось, что ни один из них не в силах уничтожить другого, они решили поделить Марокко пополам. Они поставили солдат возле местности под названием Арбауа и сказали, что отныне, если хочешь поехать на север, тебе нужно получить пропуск, потому что ты будешь пересекать территорию испанского Марокко. Другой пропуск нужен для того, чтобы отправиться на юг, потому что там придется пересекать территорию французского Марокко. А если ты не сделаешь, как тебе сказано, то застрянешь возле Арбауа – это было первое попавшееся место, которое они объявили границей и построили там огромные ворота. Но папа говорил, что Марокко веками существовало нераздельным, причем даже в те времена, когда сюда еще не пришел ислам, – четырнадцать веков назад. Прежде еще никому не доводилось слышать, чтобы эта земля раскалывалась надвое. Но граница невидимой линией пролегла в умах завоевателей.
Мой двоюродный брат Самир, который иногда сопровождал дядю и отца в их поездках, говорил, что для установления границы нужны только солдаты, которые заставят всех остальных поверить в ее существование. Сама земля при этом никак не меняется. Границы существуют в умах сильных мира сего. Я не могла поехать и увидеть это собственными глазами, потому что дядя и папа говорили, что девочке не полагается путешествовать. Это опасно, а женщины неспособны себя защитить. Тетя Хабиба, которую вдруг, без всякой причины бросил и выгнал муж, которого она нежно любила, говорила, что Аллах послал армии северян в Марокко, чтобы наказать мужчин за то, что те нарушили хадд, защищающий женщин. Когда ты обижаешь женщину, ты нарушаешь установленные Аллахом священные правила. Нехорошо обижать слабых. Она плакала годами.
Образование означает изучение хадда, священных правил дозволенного, говорила лалла Там, начальница религиозной школы, куда меня послали учиться, едва мне исполнилось три года, чтобы я присоединилась к уже обучавшимся там десяти моим двоюродным сестрам и братьям. У моей учительницы была грозного вида плеть, и я полностью соглашалась с ней по любому вопросу, касайся он священных правил, христиан или образования. Быть мусульманкой значит соблюдать хадд. И дети обязаны соблюдать хадд. Мне очень хотелось угодить учительнице, и однажды я попросила свою двоюродную сестру Малику, которая была старше меня на два года, показать мне, где, собственно, находится этот хадд. Она ответила, что знает наверняка только то, что, если слушаться учительницу, все будет хорошо. Хадд – это все, что запрещают учителя. Сказанное Маликой помогло мне успокоиться и начать получать удовольствие от времени, которое я проводила в стенах школы.
Однако с тех пор я стала все время выискивать границы дозволенного. Тревога снедала меня всякий раз, как я не могла провести линию, ограничивающую мое бесправие.
У меня было счастливое детство, потому что очерченные границы были мне совершенно понятны. Первая – это порог, отделявший нашу гостиную от внутреннего двора дома. Мне запрещалось выходить туда утром, до тех пор, пока не проснется мама, а значит, я была предоставлена сама себе с шести до восьми часов утра, но должна была вести себя тихо. Мне можно было сидеть на холодном мраморном пороге, если хочется, но не присоединяться к другим детям, которые уже играли во дворе.
«Ты не умеешь постоять за себя, – говаривала мама. – Даже игра – это разновидность войны». Я боялась войны и поэтому клала подушечку на наш порог и играла в «сидячую прогулку». Эту игру я придумала сама и нахожу ее полезной и по сей день. Чтобы играть в нее, нужно всего лишь три вещи. Во-первых, быть вынужденной находиться в каком-то месте, во-вторых, сесть где-нибудь и, в-третьих, пребывать в смиренном состоянии ума, так чтобы в конце концов стерпеться с тем, что твое время ничего не стоит. Игра заключатся в том, чтобы смотреть на знакомые вещи так, будто прежде ты никогда их не видела.
Я сидела на пороге и смотрела на наш дом, как будто это было какое-то незнакомое мне место. У нас был квадратный, вечно неизменный двор, размеченный со строжайшим соблюдением правил симметрии. Даже белый фонтан, непрестанно струившийся в середине двора, казался подчиненным и прирученным. По окружности его охватывал бело-голубой бордюр, который воспроизводил мозаичный рисунок, выложенный в квадратных плитах пола. Двор обрамляла арочная колоннада, по четыре колонны с каждой стороны. Верх и низ колонн были мраморные, а среднюю часть украшали бело-голубые изразцы, повторяя узор на полу и бордюре фонтана. Кроме того, во двор выходили четыре огромные гостиные, расположенные друг напротив друга. В каждую вели ворота внушительных размеров, примыкавшие к большим окнам, выходившим во двор. Рано по утрам и в зимнее время кедровые двери гостиных с резным орнаментом в виде цветов обязательно плотно закрывали. Летом же они оставались открытыми, а вход завешивали такой тяжелой бархатной парчой со свисавшими шнурами, что она пропускала внутрь лишь свежий воздух, но не шум или яркий свет. Деревянные ставни, закрывавшие окна гостиных, изнутри украшал такой же орнамент, как и на дверях, однако снаружи были видны только посеребренные кованые решетки да дивно разукрашенные стеклянные арки. Я любила эти разноцветные арки, потому что восходящее солнце всегда меняло их красные и синие оттенки на другие цвета и смягчало желтые. Как и тяжелые деревянные двери, летом окна держали широко открытыми, а занавески опускали только по ночам или во время короткого послеполуденного сна, чтобы его ничто не тревожило.
А если ты поднимал глаза вверх, можно было увидеть изящное трехэтажное сооружение, верхние этажи которого повторяли квадратную сводчатую колоннаду двора и завершались посеребренным кованым парапетом. И наконец, там было небо – оно висело высоко вверху, но все равно имело строго квадратную форму, как и все остальное, и было твердо вписано в рамку деревянного бордюра из поблекших золотисто-охряных геометрических узоров.
Смотреть на небо со двора – это захватывающее переживание. Сначала небо казалось спокойным из-за искусственной квадратной рамы. Но потом движение ранних утренних звезд, медленно угасающих на бело-голубом фоне, казалось настолько быстрым, что начинала кружиться голова. На самом деле в некоторые дни, особенно зимой, когда лиловые и ослепительно-розовые лучи солнца яростно гнали последние упрямо мерцающие звезды с неба, можно было легко поддаться гипнозу этого зрелища. Когда я запрокидывала голову, подняв лицо в сторону квадратного неба, мне начинало хотеться спать, но тут люди начинали выходить во двор отовсюду, из дверей и с лестниц… О, я совсем забыла про лестницы. Они находились в четырех углах двора, вели во все стороны и были очень важны, потому что даже взрослые могли играть на них во что-то вроде пряток, бегая вверх-вниз по зеленым глазурованным ступенькам.
Напротив меня во дворе находилась в точности повторяющая нашу гостиная дяди, у которого была жена и семеро детей. Мама не позволяла делать никаких видимых снаружи различий между нашей гостиной и дядиной, хотя дядя был старшим сыном в семье и потому по традиции имел право на более просторные и богаче отделанные жилые комнаты. Дядя не только был старше и богаче отца, но и семья у него была больше. Нас было всего пятеро с родителями, мной, братом и сестрой. А в семье дяди было девять человек (или десять, считая сестру дядиной жены, которая часто приезжала в гости из Рабата и порой оставалась жить по полгода, когда ее муж взял себе вторую жену). Но мама, которая ненавидела коммунальную гаремную жизнь и мечтала о том, чтобы всегда быть наедине с папой, настояла на условии, что между женами не будет никаких различий. Она будет пользоваться ровно теми же привилегиями, как и дядина жена, несмотря на разницу в их положении. Дядя щепетильно соблюдал это условие, потому что в хорошо устроенном гареме существует правило: чем больше у тебя власти, тем великодушнее ты должен быть. У него с детьми, в конце концов, было больше места, но только на верхних этажах, подальше от людного двора. Властью и превосходством не следует колоть людям в глаза.
Лалла Мани, моя бабушка с отцовской стороны, занимала гостиную слева. Мы ходили туда два раза в день, один раз утром – поцеловать ей руку и второй вечером – сделать то же самое. Как во всех остальных гостиных, у нее стояли диваны с подушками из шелковой парчи, обрамлявшие комнату по всем четырем стенам; в середине находилось огромное зеркало, отражавшее вход с внутренней стороны и его аккуратно уложенные драпировки; а пол полностью покрывал светлый ковер с цветочным рисунком. Нам никогда не позволялось ступать на ее ковер в обуви или, того хуже, мокрыми ногами, но летом этого было практически невозможно избежать, ведь двор дважды в день охлаждали водой из фонтана. Молодые женщины и девушки в семье, например моя двоюродная сестра Хама и ее сестры, любили во время мытья пола во дворе играть в бассейн, то есть, выливая на пол ведерко воды, «случайно» обливать рядом стоящего человека. Само собой, после этого младшие дети, особенно мы с двоюродным братом Самиром, бежали в кухню и вооружались шлангом, которым весьма тщательно поливали и двор, и всех, кто в нем был, а они кричали и пытались нам помешать. Наши крики, разумеется, беспокоили лаллу Мани, которая сердито поднимала шторы и предупреждала нас, что сегодня же вечером пожалуется дяде и папе. «Я скажу им, что больше в этом доме никто не уважает старших», – говорила она. Лалла Мани терпеть не могла, когда плещутся водой, и не выносила мокрых ног. И если мы прибегали поболтать с нею после того, как стояли возле фонтана, она всегда велела нам не двигаться с места. «Не говорите со мной с мокрыми ногами, – говорила она. – Сначала обсушитесь». В бабушкиных глазах всякий, кто нарушал правило чистых и сухих ног, получал клеймо на всю жизнь, и, если мы осмеливались ступить на ее ковер или запачкать его, нам напоминали об этом проступке на протяжении многих лет. Лалла Мани любила, чтобы к ней проявляли уважение, то есть оставляли спокойно сидеть и молча смотреть во двор в своем красивом наряде и головном уборе, украшенном драгоценными камнями. Ей нравилось, чтобы ее окружала мертвая тишина. Тишина была роскошью, доступной тем немногим счастливчикам, которые могли позволить себе отослать детей подальше.
Наконец, с правой стороны двора располагалось самое большое и самое элегантное помещение – столовая мужчин, где они ели, слушали новости, обсуждали дела и играли в карты. Мужчины единственные в доме имели доступ к большому радиоприемнику, который они держали в шкафчике в правом углу гостиной под замком, когда радио не использовалось. (Громкоговорители, однако, были выведены наружу, чтобы радио могли слушать все.) Папа был уверен, что ключи от радио есть только у них с дядей. Однако, что любопытно, женщины умудрялись регулярно слушать «Радио Каир», когда мужчин не было дома. Хама и мама часто танцевали под музыку и подпевали ливанской принцессе Асмахан, которая пела песню «Ахва» («Я влюблена»), когда мужчин не было поблизости. И я очень ясно помню, как взрослые впервые употребили слово «хаин» (предатели) в отношении нас с Самиром: мы тогда сказали отцу, что слушали «Радио Каир», когда он спросил нас, что мы делали, пока его не было. Из нашего ответа следовало, что где-то в доме есть незаконный ключ. А еще точнее, что женщины стащили ключ и сделали с него копию. «Если они сделали копию ключа от радио, скоро они сделают копию ключа от ворот», – рассердился отец. Последовала крупная ссора, женщин по одиночке допрашивали в мужской столовой. Но и после двух дней допросов выходило, что ключ от радио, похоже, упал с неба. Никто не знал, откуда он взялся.
Но после дознания женщины все равно решили отомстить нам, детям. Они назвали нас предателями и сказали, что больше не будут допускать нас к своим развлечениям. Это была ужасная перспектива, и тогда мы стали защищаться и объяснять, что мы всего лишь сказали правду. Мама возразила, что бывает такая правда, которую все равно нельзя говорить, а надо хранить в секрете. Мы упрашивали ее объяснить нам разницу, но она ничего толком не объяснила. «Вы сами должны думать, каковы будут последствия ваших слов, – сказала она. – Если то, что вы скажете, может кому-нибудь навредить, тогда надо молчать». Следует признать, этот совет нам совсем не помог. Бедный Самир ужасно переживал, что его назвали предателем. Он взбунтовался и закричал, что имеет право говорить что хочет. Я, как обычно, восхитилась его дерзостью, но смолчала. Я решила, что если, помимо попыток отличить правду ото лжи (что уже создавало для меня немало проблем), мне нужно будет еще и разбираться с этой новой категорией «секретов», то я совершенно запутаюсь, и мне легче просто согласиться с тем фактом, что меня часто будут оскорб лять и обзывать предателем.
Одно из моих еженедельных удовольствий состояло в том, чтобы любоваться тем, как Самир бунтует против взрослых, и мне казалось, что, если я буду следовать за ним, со мной ничего плохого не случится. Мы с Самиром родились в один день, в долгий вечер месяца Рамадана[1], с разницею едва ли в один час. Он появился первый, на третьем этаже, седьмым ребенком у своей матери. Я родилась час спустя в нашей гостиной внизу, первая дочь у моих родителей, и, хотя мама совсем обессилела, она все же настояла на том, чтобы мои тети и другие родственницы устроили для меня такой же праздник, что и для Самира. Она всегда отвергала превосходство мужчин, считая его чепухой, которая решительно не в традициях ислама: Аллах сделал нас равными, говорила она. В тот день, вспоминала она, в доме во второй раз зазвучали традиционные возгласы «ю-ю-ю-ю!»[2] и праздничные песни, так что соседи запутались и подумали, что у нас родилось два мальчика. Папа пришел в восторг: я была очень пухлая и круглолицая, «как луна», и он тут же решил, что я вырасту настоящей красавицей. Желая его подразнить, лалла Мани сказала, что я бледновата, и глаза у меня раскосые, и скулы высоковатые, а у Самира, по ее словам, была «прекрасная золотистая кожа и большущие черные бархатные глаза». Мама позже сказала мне, что тогда промолчала, но как только смогла подняться на ноги, тут же побежала посмотреть, правда ли у Самира такие бархатные глаза, и это соответствовало истине. Они у него до сих пор такие, но их бархатная мягкость исчезает, когда он начинает бунтовать, и я всегда думала, не потому ли он прыгает вверх-вниз, когда спорит со взрослыми, что по сложению тонок и гибок, как проволока.
Я же, наоборот, была тогда такая пухлая, что мне никогда не приходило в голову прыгать, когда кто-то меня раздражал; я только плакала и бежала прятаться в маминых одеждах. Но мама всегда твердила, что мне не следует рассчитывать, что Самир все время будет бунтовать за меня: «Ты должна научиться кричать и протестовать, как научилась ходить и говорить. Плакать в ответ на обиду – все равно что напрашиваться на новую обиду». Она так беспокоилась, как бы я не выросла уродиной, что даже посоветовалась с бабушкой Ясминой, когда мы приехали к ней в летние каникулы. Бабушка Ясмина, как никто другой, умела улаживать противостояния и посоветовала маме не сравнивать меня с Самиром, а лучше воспитывать так, чтобы я умела защищать младших детей. «Есть разные способы вырастить сильную личность, – сказала она. – Один из них – развить в ней умение отвечать за других. Просто возмущаться и бросаться с кулаками на ближнего, если тот совершил ошибку, – это один способ и, уж конечно, не самый хороший. А если ты научишь дочь отвечать за младших во дворе, то дашь ей возможность стать сильной. Это хорошо, если она может рассчитывать, что Самир ее защитит, но если поймет, как защищать других, то сможет защитить и себя».
Но именно тот случай с радио преподал мне один важный урок. Тогда мама сказала мне, что, прежде чем что-то сказать, нужно пожевать слова. «Семь раз покрути каждое слово на языке с закрытым ртом, а потом уже говори, – велела она. – Потому что, когда слова уже сказаны, можно многое потерять». Потом я вспомнила, как в сказках «Тысячи и одной ночи» просто невпопад сказанное слово могло навлечь беду на несчастного, который не угодил тем самым халифу или шаху. Иногда дело кончалось даже тем, что звали сиафа, то есть палача.
Однако слова могли и спасти человека, который умел ловко нанизывать их друг за другом. Так и случилось с Шахерезадой, рассказавшей тысячу и одну сказку. Царь хотел отрубить ей голову, но одними словами она сумела остановить его в последнюю минуту. И мне очень хотелось узнать, как ей это удалось.
Глава 2. Шахерезада, царь и слова
Как-то раз вечером мама не пожалела времени, чтобы объяснить мне, почему сказки называются «Тысяча и одна ночь». Название это неслучайное, потому что в каждую из этих многих-многих ночей юная супруга царя Шахерезада должна была придумать головокружительный, захватывающий сюжет, чтобы царь, ее муж, забыл про свое жестокое намерение казнить ее на рассвете. Я пришла в ужас. «Мама, ты хочешь сказать, что, если бы царю не понравилась сказка, он позвал бы своего сиафа [палача]?» Я все не унималась, желая знать, какие еще варианты были у бедной девушки. Я хотела, чтобы имелись другие возможности. Почему не могло быть так, что, даже если сказка не угодила царю, Шахерезада все равно осталась бы жива? Почему Шахерезада не могла просто рассказывать, что ей хочется, не боясь умереть из-за царя? Или почему она не могла все перевернуть и потребовать, чтобы царь сам каждую ночь рассказывал ей по сказке? Тогда бы он понял, как страшно угождать кому-то, кто обладает властью отрубить тебе голову. Мама сказала, что мне сначала нужно узнать, как все было; тогда можно было бы поискать выход.
У Шахерезады с царем, сказала она, был совсем необычный брак. Он состоялся при очень плохих обстоятельствах. Царь Шахрияр застал свою первую жену в постели с рабом, очень рассердился и обиделся и велел отрубить голову им обоим. Однако, к его большому удивлению, оказалось, что двойного убийства ему недостаточно, чтобы усмирить свой безмерный гнев. Месть стала его каждодневной навязчивой идеей. Он чувствовал потребность убивать все больше женщин. Поэтому он велел визирю, своему самому высокопоставленному придворному, по воле случая еще и отцу Шахерезады, приводить ему по девственнице каждый день. Царь женился на ней, проводил с нею ночь, а на рассвете приказывал ее казнить. И так он поступал больше трех лет и убил более тысячи невинных девушек, «и люди возопили и бежали со своими дочерьми, и в городе не осталось ни одной девушки, пригодной для брачной жизни»[3]. Брачная жизнь, как сказала мама, когда Самир стал прыгать и требовать объяснения, – это когда жених и невеста ложатся вместе в кровать и спят до утра.
Наконец во всем городе осталось только две девственницы: старшая дочь визиря и ее младшая сестра Дуньязада. Когда в тот вечер визирь пришел домой, бледный и озабоченный, Шахерезада спросила его, что случилось. Он рассказал ей о беде, но дочь поступила так, как ее отец не ожидал. Вместо того чтобы умолять его о бегстве, Шахерезада сразу же добровольно вызвалась пойти и провести ночь с царем. «Заклинаю тебя Аллахом, о батюшка, – сказала она, – выдай меня за этого царя, и тогда я либо останусь жить, либо буду выкупом за дочерей мусульман и спасу их от царя».
Отец Шахерезады сильно ее любил и воспротивился этому плану. Он попытался убедить дочь, что им нужно придумать другой выход. Отдать ее в жены Шахрияру фактически означало обречь на неминуемую смерть. Но Шахерезада, в отличие от отца, была уверена, что благодаря своему исключительному дару сумеет положить конец убийствам. Она излечит растревоженную душу царя, когда будет рассказывать ему о том, что случилось с другими людьми. Она унесет его в дальние страны, покажет иноземные обычаи, чтобы он смог лучше осознать собственные странности. Она поможет ему увидеть, что он загнал себя в темницу своей одержимой ненавистью к женщинам. Шахерезада была уверена: если заставит шаха посмотреть на самого себя, он захочет измениться и снова полюбить. Отец неохотно сдался, и Шахерезада в ту же ночь стала женой Шахрияра[4].
Оказавшись в опочивальне царя Шахрияра, Шахерезада стала рассказывать ему чудесную сказку и ловко оставила ее незаконченной в самый напряженный момент, так что он никак не мог расстаться с нею на рассвете. Поэтому оставил ее в живых до следующей ночи, чтобы узнать конец истории. Но на вторую ночь Шахерезада рассказала ему другую чудесную сказку, которую тоже не успела закончить до рассвета, и царю пришлось опять сохранить ей жизнь. То же произошло и на следующую ночь, и на следующую, и так в течение тысячи и одной ночи, то есть почти трех лет, и в конце концов царь уже не мог представить себе жизни без этой женщины. К тому времени у них уже родилось двое детей, и через тысячу и одну ночь он отказался от своей ужасной привычки отрубать головы женщинам.
Когда мама закончила историю Шахерезады, я закричала: «Но как же научиться рассказывать сказки, которые понравятся царю?» Мама буркнула, как будто обращаясь к самой себе, что эту задачу женщина решает всю жизнь. Конечно, ее ответ мне не особенно помог, но потом она прибавила, что, пока мне достаточно знать, что мои шансы на счастье будут зависеть от того, насколько умело я научусь владеть словом. С этими сведениями мы с Самиром (а я уже решила стараться не расстраивать взрослых неприятными словами из-за инцидента с радио) принялись тренироваться. Мы часами сидели молча, пережевывая слова и поворачивая их на языке по семь раз и наблюдая за взрослыми, не замечают ли они чего-нибудь.
Но взрослые никогда ничего не замечали, особенно во дворе, где жизнь текла очень строго и по правилам. Только наверху все было не так жестко устроено. Там разведенные и овдовевшие тетушки, прочие родственницы и их дети занимали разветвленный лабиринт комнаток. Количество родственниц, живущих с нами в тот или иной момент времени, зависело от конфликтов в их семейной жизни. Иногда к нам приезжали дальние родственницы искать приюта на несколько недель, поссорившись с мужьями. Некоторые останавливались у нас со своими детьми лишь на короткое время, чтобы показать мужьям, что у них есть где остановиться, что они смогут прожить самостоятельно и потому не зависят от мужей так уж отчаянно. (Эта хитрость часто увенчивалась успехом, и женщины возвращались домой в более сильной позиции для переговоров.) Но другие родственницы приезжали навсегда после развода или каких-то других серьезных невзгод, и это была одна из традиций, которые всегда волновали папу, когда кто-то критиковал обычаи гаремной жизни. «Куда же деваться женщине в беде?» – спрашивал он.
Комнаты наверху были очень простые, с белыми кафельными полами, белеными стенами и небольшим количеством мебели. Тут и там были расставлены очень узкие диваны, обитые разноцветным крестьянским хлопком с цветочным узором, с подушками и плетеными циновками, которые было легко мыть. Мокрые ноги, обувь и даже порой пролитая чашка чая не вызывала здесь такого переполоха, как внизу. Жизнь наверху была намного проще, особенно потому, что там царила традиция под названием ханан – эмоциональное свойство марокканцев, с которым я редко сталкивалась где-либо еще. Ему трудно дать точное определение, но в принципе это свободная, добродушно-веселая, даримая без условий нежность. Люди, которые одаривают тебя хананом, как тетя Хабиба, никогда не грозят отнять свою любовь, если ты не нарочно совершаешь какой-нибудь мелкий или пусть даже крупный проступок. Внизу было трудно ожидать ханана, особенно от матерей, которые были слишком заняты тем, как научить тебя соблюдать границы, чтобы тратить время на нежности.
Наверху было и такое место, где рассказывались сказки. Можно было вскарабкаться по сотне глазурованных ступенек на третий, верхний этаж дома, перед которым открывалась выбеленная терраса, просторная и приветливая. Там находилась комната тети Хабибы, маленькая и скудно обставленная. Ее муж после развода забрал все, надеясь, что, если он когда-нибудь передумает и одним пальцем поманит ее обратно, она тут же склонит голову и побежит назад. «Но он ни за что не забрал бы у меня самое важное, – иногда говорила тетя Хабиба, – мой смех и все те чудесные сказки, которые я могу рассказывать, когда слушатели того стоят». Я как-то раз спросила двоюродную сестру Малику, что наша тетя имеет в виду, когда говорит «слушатели того стоят», и она призналась, что ей это тоже непонятно. Может быть, спросить у тети прямо, предложила я, но Малика сказала: нет, лучше не надо, вдруг еще тетя Хабиба расплачется. Тетя Хабиба часто плакала без причины; все так говорили. Но мы любили ее, и нам даже не спалось по четвергам – так мы волновались в предвкушении пятницы, когда она рассказывала сказки. Это обычно заканчивалось большой суматохой, потому что мы засиживались слишком долго, по мнению наших матерей, и они часто приходили за нами. И тогда мы поднимали крик и самые избалованные из моих кузин и кузенов, вроде Самира, катались по полу и кричали, что не хотят спать и ни за что не пойдут.
Но если тебе все-таки удавалось досидеть до конца сказки, то есть до тех пор, когда героиня одерживает победу над врагами и пересекает на обратном пути «семь рек, семь гор, семь морей», перед тобой вставала другая проблема: тебе было страшно спускаться по лестнице. Во-первых, там было темно. Освещением на лестнице заведовал привратник Ахмед, в распоряжении которого был рубильник у входных ворот. Он отключал свет в девять вечера, подавая сигнал всем находившимся на террасе идти в дом, после чего все передвижения официально прекращались. Вторая проблема заключалась в том, что там, во мраке, пряталась тьма-тьмущая джиннов, поджидая момента тебя схватить. И в-третьих, Самир умел так хорошо притворяться джинном, что я часто принимала его за настоящего демона. Несколько раз мне буквально приходилось делать вид, будто я падаю в обморок, чтобы он прекратил изображать джинна.
Иногда, если сказка затягивалась на несколько часов, а матери не появлялись, и весь дом внезапно погружался в тишину, мы упрашивали тетю Хабибу разрешить нам остаться у нее на ночь. Она расстилала свой прекрасный свадебный ковер, который держала аккуратно сложенным за своим кедровым сундуком, накрывала его чистыми белыми простынями и сбрызгивала флердоранжевой эссенцией, которую специально приберегала для такого случая. У нее не хватало подушек для всех нас, но это была не беда, потому что нам было все равно. Она делилась с нами своим огромным одеялом из тяжелой шерсти, выключала лампу и ставила большую свечу на пороге у наших ног. «Если вдруг кому-то понадобится в туалет, – говорила она, – помните, что этот ковер – единственное, что у меня осталось от прошлой счастливой семейной жизни».
Вот так в эти благословенные ночи мы и засыпали под тетин голос, который открывал волшебные стеклянные двери и вел на залитые лунным светом луга. И когда утром мы просыпались, весь город лежал у наших ног. У тети Хабибы была маленькая комната, но большое окно, сквозь которое открывался вид до самых Северных гор.
Она знала, как рассказывать ночью. Умело владея словами, она сажала нас на большой корабль, плывущий из Адена на Мальдивские острова, или переносила на остров, где птицы разговаривали человечьим языком. Вместе с ней мы пролетали над Синдом и Хиндом (Индией), оставляли позади мусульманские земли, вели полную опасностей жизнь, дружили с христианами и евреями, которые делились с нами своей странной едой и смотрели, как мы совершаем намаз, а мы наблюдали, как молятся они. Иногда мы улетали так далеко, что не оставалось никаких богов, только солнце- и огнепоклонники, но даже и они казались приветливыми и дружелюбными, когда их представляла тетя Хабиба. Ее сказки внушали мне томительное желание побыстрее стать взрослой и опытной рассказчицей. Я тоже хотела научиться рассказывать ночью.
Глава 3. Французский гарем
Ворота нашего дома были явным примером хадда, то есть границы, потому что через них нельзя было ни войти, ни выйти без разрешения. Каждый шаг должен был иметь обоснование, и, даже чтобы подойти к воротам, требовалось совершить определенный ритуал. Если идти со двора, сначала нужно было пройти по длиннющему коридору, а потом ты оказывалась лицом к лицу с привратником Ахмедом, который обычно сидел на своем диване, похожем на трон, и рядом с ним всегда неизменно стоял чайный поднос в ожидании гостей. Поскольку право прохода в ворота всегда подразумевало довольно длительный процесс переговоров, тебе предлагали либо посидеть рядом на его внушительном диване, либо сидеть лицом к нему, расслабляясь на неуместно выглядевшем «французском кресле» – его жестком, ветхом стуле, который он сам подобрал себе в один из редких походов на джутию – местный блошиный рынок. У Ахмеда на коленях часто сидел младший из его пятерых детей, потому что он присматривал за ними, когда его жена Луза работала. Она была первоклассной поварихой и порой уходила готовить к посторонним людям, если предлагали хорошие деньги.
Наши ворота представляли собой гигантскую каменную арку с внушительной дверью резного дерева. Она отделяла женский гарем от ходящих по улице незнакомых мужчин. (Как нам сказали, от этого разделения зависят честь и престиж отца и дяди.) Детям позволялось выйти за ворота, если им разрешали родители, но только не взрослым женщинам. «Я проснулась на рассвете, – часто говорила мама. – Ах, если бы мне только прогуляться ранним утром, когда на улицах пусто! Свет, наверное, голубой или розовый, как на закате. Какого цвета утро на пустынных, тихих улицах?» Никто не отвечал на ее вопросы. В гареме необязательно задаешь вопрос, чтобы получить ответ. Бывает, ты задаешь вопрос, просто чтобы разобраться, что с тобой происходит. Свободно ходить по улицам – это была мечта любой женщины. Самой популярной сказкой тети Хабибы, которую она приберегала только для особых случаев, была история о крылатой женщине, которая могла улетать со двора всякий раз, как ей хотелось. Каждый раз, как тетя Хабиба рассказывала ее, женщины на дворе танцевали, широко раскинув руки, как будто желая улететь. Моя двоюродная сестра Хама, которой было семнадцать, несколько лет держала меня в заблуждении: она сумела убедить меня, что у всех женщин есть невидимые крылья, и у меня они тоже появятся, когда я вырасту.
Наши ворота защищали нас и от иностранцев, стоявших всего в нескольких метрах, на другой столь же людной и опасной границе – той, которая отделяла Старый город, Медину, от Нового города французов. Мы с братьями и сестрами иногда проскальзывали за ворота поглазеть на французских солдат, когда Ахмед разговаривал с кем-нибудь или засыпал. На них была синяя форма, ружья на плечах, и у них были маленькие, серые, всегда настороженные глазки. Они часто пытались с нами заговорить, потому что взрослые с ними никогда не разговаривали, но нам строго-настрого запретили отвечать. Мы знали, что французы жадные, и проделали такой дальний путь, чтобы завоевать нашу страну, хотя Аллах уже отдал им прекрасную землю с людными городами, густыми лесами, роскошными зелеными полями и коровами, которые настолько крупнее наших, что дают в четыре раза больше молока. Но почему-то французам этого было мало.
Благодаря тому что мы жили на границе между Старым и Новым городом, нам было видно, насколько французская часть отличается от нашей Медины. У них были широкие и прямые улицы, которые по ночам освещались яркими фонарями. (Отец сказал, что они транжирят электричество Аллаха, потому что в безопасном районе людям ночью не нужно так много света.) Еще у них были быстрые машины. В нашей Медине улицы были узкие, темные, извилистые, с таким количеством поворотов, что там не мог проехать автомобиль, и иностранцы нипочем не могли найти дорогу, если вообще смели туда войти. Именно поэтому французам пришлось построить для себя Новый город: они боялись жить в нашем.
Большинство людей ходили по Медине пешком. У отца с дядей были мулы, а у бедняков вроде Ахмеда – только ослики, ну а детям и женщинам приходилось идти пешком. Французы боялись ходить пешком. Они вечно ездили на машинах. Даже солдаты оставались в машинах, если начинались беспорядки. Их страх нам, детям, казался очень странным, потому что мы увидели, что и взрослые могут бояться так же, как мы. Причем эти взрослые, которые боялись, находились снаружи и, по всей видимости, были свободны. Власти, которые провели границу, тоже боялись. Новый город был их гаремом; они, как женщины, не могли свободно ходить по Медине. Так что, как оказалось, можно обладать властью и все равно быть в плену у границ.
Тем не менее французские солдаты, которые часто казались очень молоденькими, испуганными и одинокими на своих постах, терроризировали всю Медину. У них была сила, и они могли нам навредить.
Однажды в январе 1944 года мама сказала, что король Мохаммед V при поддержке сторонников независимости всего Марокко пришел к французскому генерал-резиденту, высшему колониальному начальству, чтобы официально потребовать независимости. Резидент-генерал очень разозлился. «Да как смеете вы, марокканцы, требовать независимости?!» – наверное, закричал он и, чтобы наказать нас, ввел своих солдат в Медину. Бронированные машины, насколько смогли, втиснулись в извилистые улочки. Люди обратились к Мекке с молитвами. Тысячи жителей читали молитву из двух слов, которую повторяют часами, когда грозит опасность: «Йа латиф, йа латиф, йа латиф!» («О сострадательный!») Аль-Латиф – одно из сотни имен Аллаха, и тетя Хабиба часто говорила, что оно самое прекрасное, потому что описывает Аллаха как источник сострадания, который чувствует твое горе и может тебе помочь. Но вооруженные французские солдаты, зажатые в узких проулках, окруженные людьми, тысячи раз повторяющих «Йа латиф», занервничали и потеряли самообладание. Они стали стрелять по толпам молящихся, и спустя несколько минут трупы уже падали друг на друга на пороге мечети, а внутри все продолжались мольбы. Мама сказала, что нам с Самиром тогда едва исполнилось четыре, и никто не заметил, что мы, стоя у наших ворот, смотрели, как по домам разносят окровавленные трупы в белых джеллабах для молитв. «После этого вам с Самиром несколько месяцев снились кошмары, – сказала она, – вы не могли даже видеть красный цвет и сразу бежали прятаться. Нам пришлось возить вас в святилище Мулая Идрисса много пятниц подряд, где шарифы [святые] совершали над вами ритуалы защиты, а я целый год клала тебе под подушку амулет, пока к тебе не вернулся спокойный сон». После того трагического дня французы всегда стали ходить с оружием на виду, а отцу пришлось получать множество разрешений в разных местах только для того, чтобы сохранить свое охотничье ружье, но и тогда ему полагалось его прятать, если только он был не в лесу.
Все эти события озадачивали меня, и я часто разговаривала о них с Ясминой, моей бабушкой с материнской стороны, которая жила на чудесной ферме с коровами и овцами, меж безграничных полей цветов, в сотне километров на запад, между Фесом и океаном. Мы приезжали к ней раз в год, и я расспрашивала ее о границах, страхах и различиях и почему все это так. Ясмина много знала о страхе, о разных страхах. «Я специалист по страху, Фатима, – говорила она мне, гладя меня по голове, а я вертела в руках ее жемчужные розовые бусы, – и кое-что расскажу тебе, когда подрастешь. Я научу тебя бороться со страхом».
Часто в первые ночи на ферме у Ясмины я не могла спать – границы вокруг были недостаточно четкие. Там не было закрытых ворот, а только широкие, ровные, открытые поля, где росли цветы и мирно бродили овцы и коровы. Но Ясмина объяснила, что ферма – как первозданная земля, которую Аллах сотворил без границ, а только с просторными открытыми полями без рамок и преград, и поэтому мне не надо бояться. «Но как же можно ходить по неогороженному полю и не бояться нападения?» – все спрашивала я. И тогда Ясмина, чтобы помочь мне заснуть, придумала игру, которую я обожала. Игра называлась «мшия-ф-лехла» («прогулка по полю»). Я ложилась в кровать, она крепко обнимала меня, я обеими руками сжимала ее бусы, закрывала глаза и представляла, как иду по бесконечному полю цветов. «Спи крепко, – говорила Ясмина, – и ты услышишь, как поют цветы. Они шепчут «салям, салям» (мир, мир)». Я повторяла цветочный припев быстро, как только могла, и все опасности исчезали, и я засыпала. «Салям, салям», – шептали цветы, Ясмина и я. И вдруг наступало утро, и я лежала на большой латунной кровати, и мои руки были полны розового жемчуга. Снаружи доносилась музыка, в которой смешался шелест листьев на ветру и щебет птиц, говорящих друг с другом, и никого не было видно, кроме павлина Короля Фарука да белой жирной утки по кличке Тор.
На самом деле Тор звали ненавидимую всеми жену дедушки, но я могу звать ее просто Тор только про себя. Если же я произнесла ее имя вслух, мне нужно было называть ее лалла Тор. Лалла – так уважительно именуют всех почтенных женщин, а сиди – всех почтенных мужчин. В детстве я должна была звать всех важных взрослых «лалла» и «сиди» и целовать им руки на закате, когда включали свет и мы говорили «мсакум» («добрый вечер»). Каждый вечер мы с Самиром старались поцеловать руки как можно быстрее, чтобы вернуться к играм и не слышать противной реплики: «Старый обычай уходит». Мы навострились делать это так, что умудрялись закончить все в мгновение ока, но порой до того торопились, что спотыкались друг о друга и валились прямо на колени к этим важным людям или даже на пол. Тогда все смеялись. Мама тоже хохотала до слез. «Ах вы, бедняжки, – говорила она, – уже устали целовать руки, а ведь это всего лишь начало».
Но лалла Тор на ферме, как и лалла Мани в Фесе, никогда не смеялась. Она всегда была очень серьезной, приличной и правильной. Будучи старшей женой дедушки Тази, она занимала в семье очень важное положение. Еще у нее не было обязанностей по хозяйству, и она была очень богата. Этих двух привилегий Ясмина терпеть не могла. «Мне все равно, насколько богата эта женщина, – говорила она, – но она должна работать, как все мы. Мусульмане мы или нет? Если да, то все равны. Так постановил Аллах. И его пророк учил тому же». Ясмина сказала, что я ни за что не должна мириться с неравенством, потому что это неразумно. Вот почему она назвала свою жирную белую утку Лалла Тор.
Глава 4. Первая жена мужа Ясмины
Когда лалла Тор услыхала, что Ясмина назвала ее именем утку, она страшно разозлилась. Она позвала дедушку Тази к себе в комнаты, которые на самом деле представляли собой настоящий отдельный дворец с внутренним садом, большим фонтаном и великолепной стеной длиной десять метров, облицованной венецианским стеклом. Дедушка явился неохотно, неторопливо делая большие шаги, с Кораном в руке, показывая своим видом, что его оторвали от чтения. На нем были обычные свободные штаны из белого хлопка, тонкий хлопковый камис, тоже белый, фараджия и желтые кожаные тапочки[5]. В доме он никогда не носил джеллабы, если только не принимал гостей.
Внешне дедушка выглядел как типичный северянин из Рифа, откуда происходила его семья. Он был высокий, с угловатым лицом, светлой кожей, светлыми и некрупными глазами и держался очень отстраненно и надменно. Жители Рифа гордые и не очень разговорчивые люди, и дедушка терпеть не мог, когда его жены пререкались или разжигали какие-либо иные конфликты. Как-то раз он целый год не разговаривал с Ясминой и выходил из комнаты, как только она туда входила, потому что она спровоцировала две ссоры в течение одного месяца. После этого она могла себе позволить ввязываться не более чем в одну ссору раз в три года. На этот раз дело касалось утки, и вся ферма навострила уши.
Лалла Тор предложила дедушке чаю и тогда уже взяла быка за рога. Она пригрозила уйти от него, если утке немедленно не дадут другую кличку. Стоял канун религиозного праздника, и лалла Тор была одета с иголочки: в диадеме, в своем легендарном наряде, расшитом настоящим жемчугом и гранатами, – чтобы никто не забыл про ее привилегированный статус. Но дедушку, как видно, сильно забавляла ситуация, потому что, когда она заговорила об утке, его губы разъехались в улыбке. Ясмина всегда казалась ему сумасбродкой, и на самом деле он далеко не сразу привык к некоторым ее повадкам, например, к тому, что она залезает на деревья и сидит там по нескольку часов. Иногда ей даже удавалось уговорить еще нескольких дедушкиных жен залезть на дерево вместе с нею, и они пили чай, сидя прямо на ветках. Но Ясмину всегда спасало то, что она заставляла дедушку смеяться, а это было не так-то просто, потому что человек он был довольно мрачный. Сейчас же, застигнутый в роскошной гостиной лаллы Тор, дедушка лукаво предложил ей назвать свою безобразную собаку Ясминой: «Тогда строптивице придется дать утке другую кличку». Но лалла Тор была не в настроении шутить. «Она тебя просто околдовала! – закричала лалла Тор. – Если ты сегодня спустишь ей это с рук, завтра она купит осла и назовет его Сиди Тази! Эта женщина не уважает старших. От нее нет покою, как ото всех с Атласских гор, она вносит беспорядок в этот приличный дом. Либо она даст утке другое имя, либо ноги моей тут не будет. Не понимаю, как ты позволяешь ей так крутить собою. Она к тому же и не красавица – тощая и долговязая. Истинная жирафа».
Это правда, что Ясмина не вписывалась в стандарты красоты своего времени, идеальным образцом которых служила лалла Тор. У лаллы Тор была очень белая кожа, круглое, как полная луна, лицо и приличные запасы жира, особенно на бедрах, ягодицах и бюсте. У Ясмины была кофейная, загорелая кожа горцев и длинное лицо с поразительно высокими скулами, а грудь – практически незаметна. Ее рост был почти сто восемьдесят сантиметров, то есть чуть меньше, чем у дедушки, и у нее были самые длинные на свете ноги, вот почему она так ловко лазила по деревьям и делала всевозможные акробатические трюки. Но ноги ее под одеждой действительно были как спички. Чтобы скрыть это, она сшила себе пару огромных шаровар с множеством складок. Еще она сделала длинные прорези по бокам своего короткого одеяния, чтобы придать ему немного объема. Сначала лалла Тор пыталась осмеивать обновки Ясмины, но очень скоро все остальные жены стали подражать строптивице, потому что разрезанный и укороченный наряд позволял двигаться гораздо свободнее.
Когда дедушка пришел к Ясмине жаловаться насчет утки, она осталась глуха. Ну и что, что лалла Тор уйдет, сказала она, он все равно не останется одиноким. «У тебя же останется восемь женщин, чтобы тебе угождать!» Тогда дедушка попробовал подкупить Ясмину и предложил ей тяжелый серебряный браслет из Тизнита, в обмен на который она должна сделать кускус из своей утки. Ясмина взяла браслет и сказала, что ей нужно несколько дней, чтобы все обдумать. В следующую пятницу она пришла к дедушке со встречным предложением. Она не может убить утку, ведь ее зовут Лалла Тор! Это же не к добру. Однако она может пообещать никогда не называть утку по имени на людях. Она будет делать это только про себя. С тех пор мне велели поступать так же, и я очень старалась ненароком не произнести вслух утиную кличку.
Потом была история с Королем Фаруком, павлином на ферме. Кому придет в голову назвать павлина в честь знаменитого правителя Египта? Откуда королю взяться на ферме? Дело, понимаете ли, в том, что Ясмине и остальным женам не нравился египетский король, потому что он все время угрожал отречься от своей прелестной супруги принцессы Фариды (с которой все-таки развелся в январе 1948 года). Что завело королевскую чету в тупик? Какое непростительное преступление совершила его жена? Она родила ему трех дочерей, а дочери не могли унаследовать трон.
По мусульманскому закону, женщина не может править страной, хотя такое случилось несколько веков назад, как рассказала бабушка. Шаджар ад-Дурр при помощи турецкой армии вступила на египетский трон после смерти своего мужа, султана ас-Салиха. Она была наложницей, рабыней из Турции, и правила четыре месяца, не хуже и не лучше мужчин, которые были до и после нее[6]. Но, конечно, не все мусульманские женщины настолько же хитроумны или жестоки, как Шаджар ад-Дурр. Когда ее второй муж решил взять вторую жену, она дождалась, когда он войдет в хаммам, то есть в баню, чтобы расслабиться там, и «забыла» открыть дверь. Конечно, он умер от пара и жары. Но бедная принцесса Фарида не совершала идеальных преступлений и не умела маневрировать во властных кругах и защищать свои права во дворце. Она происходила из очень скромной семьи и отличалась некоторой беспомощностью, вот почему остальные жены с таким же происхождением любили ее и сострадали в ее унижениях. Нет ничего более унизительного для женщины, сказала Ясмина, чем быть выброшенной. «Шлеп! Прямо на улицу, как кошку. Так разве приличные люди обращаются с женщиной?»
Кроме того, прибавила Ясмина, при всем своем высоком положении и власти король Фарук явно не разбирается в том, откуда берутся дети. «Если бы разбирался, – сказала она, – то знал бы, что его жена не виновата, что у нее не родился мальчик. Для этого дела нужны двое». И она была права, мне это было известно. Чтобы завести ребенка, невеста и жених должны красиво одеться, украсить волосы цветами и вместе лечь на очень большую кровать. И потом, много дней спустя, однажды утром между ними будет ползать младенец.
Ферма была в курсе семейных капризов египетского правителя благодаря «Радио Каир», и Ясмина осудила короля Фарука быстро и решительно. «Разве хороший мусульманский правитель, – сказала она, – бросает жену, потому что она не произвела на свет сына? Один Аллах, говорит Коран, определяет пол детей. Если бы в Каире была справедливость, короля Фарука свергли бы с трона! Бедная, любящая принцесса Фарида! Ее принесли в жертву исключительно по невежеству и тщеславию. Египтяне должны осудить своего короля».
Вот так павлин на ферме и получил свою кличку. Но если Ясмине было легко судить королей, противостоять влиятельной жене было совершенно другое дело, даже если ей и удалось выйти сухой из воды, когда она назвала утку именем своей соперницы.
Лалла Тор обладала влиянием, она была единственной женой дедушки Тази аристократического, городского происхождения. Ее фамилия тоже была Тази, потому что они состояли в родстве, и она принесла с собой в качестве приданого диадему из изумрудов, сапфиров и серого жемчуга, которую хранили в большом сейфе в правом углу мужской гостиной. Однако это не производило никакого впечатления на Ясмину, которая происходила из скромной сельской семьи, как и все остальные жены. «Я не могу считать ее выше себя только потому, что у нее есть диадема, – сказала она. – К тому же, несмотря на все свое богатство, она все равно торчит в гареме, так же как и я». Я спросила Ясмину, что это значит – «торчит в гареме», и она дала мне несколько разных ответов, которые меня только запутали.
Иногда она говорила, что торчать в гареме просто значит, что у женщины нет свободы передвижений. В другое время она говорила, что гарем – это несчастье, потому что женщине приходится делить своего мужа со многими женщинами. Самой Ясмине приходилось делить дедушку с восемью другими женами, то есть она спала одна восемь ночей подряд, прежде чем получала возможность обниматься с ним в течение одной ночи. «А обниматься с мужем – это чудесно, – сказала она[7]. – Я так счастлива, что твоему поколению уже не придется делить мужей с другими».
Националисты, то есть сторонники независимости, боровшиеся с французами, обещали создать новое Марокко, где все будут равны. Каждая женщина будет иметь те же права на образование, что и мужчина, а также право на моногамию – привилегированные, эксклюзивные отношения со своим мужем. На самом деле многие вожди патриотов и их последователи в Фесе уже имели только одну жену и смотрели сверху вниз на многоженцев. У отца и дяди, которые придерживались таких же взглядов, тоже было только по одной жене.
Националисты также были против рабства. Рабство повсеместно встречалось в Марокко в начале века, как сказала Ясмина, даже после того, как французы объявили его вне закона, и многих жен ее мужа купили на невольничьем рынке. (Еще Ясмина говорила, что все люди равны, и не важно, сколько у них денег, откуда они происходят, какое место в иерархии занимают и какова их религия и язык. Если у тебя два глаза, один нос, две ноги и две руки, ты равен всем остальным. Я напомнила ей, что если считать передние ноги собак за руки, то и собаки, выходит, нам ровня, и она сразу же ответила: «Ну конечно, собаки нам ровня! Животные такие же, как мы; просто они не умеют разговаривать».)
Некоторых жен дедушки, которые были рабынями, привезли из других стран, например Судана, а других выкрали у родителей прямо в Марокко, когда страну охватил хаос после вторжения французов в 1912 году. Когда Махзен, то есть Государство, не выражает воли народа, сказала Ясмина, женщины всегда дорого расплачиваются за это, потому что в стране воцаряются насилие и неуверенность. Именно это и произошло тогда. Махзен и его чиновники, неспособные противостоять французской армии, подписали договор, который давал Франции право протектората над Марокко, но люди не пожелали сдаться. В горах и пустынях возникло сопротивление, и постепенно началась гражданская война.
«Тогда были герои, – сказала Ясмина, – но повсюду бродили и всевозможные вооруженные преступники. Первые дрались с французами, а вторые грабили. На Юге, на краю Сахары, бились герои вроде аль-Хибы, а потом его брата, которые продолжали сопротивляться до 1934 года. В моей земле, в Атласских горах, гордый Моха у Хамму Заяни сдерживал французскую армию до 1920 года. На Севере вождь повстанцев Абд аль-Крим устроил французам, да и испанцам, хорошую порку, пока они не объединились и не разгромили его в 1926 году. Но во всей этой суматохе у бедных родителей в горах крали маленьких девочек и продавали в больших городах богатым мужчинам. Это было заурядное дело. Твой дед хороший человек, но он покупал рабынь. Тогда это было в порядке вещей. Сейчас он изменился и, как большинство видных людей в больших городах, разделяет национально-освободительные идеалы, в том числе уважение к личности, единоженство, отмену рабства и так далее. Однако, как ни странно, мы, жены, чувствуем себя ближе друг к другу, чем когда-либо, хотя бывшие рабыни из нас пытались связаться со своими семьями. Нам кажется, что мы сестры; наша настоящая семья – та, которую мы сплели вокруг твоего дедушки. Я могла бы даже изменить отношение к лалле Тор, если бы она перестала смотреть на всех нас сверху вниз только потому, что у нас нет диадем».
Когда Ясмина назвала утку Лалла Тор, таким образом она внесла вклад в создание нового прекрасного Марокко, Марокко, в которое собиралась вступить я, ее маленькая внучка. «Марокко быстро меняется, детка, – часто говорила она мне, – и так будет и дальше». Это предсказание внушало мне радость. Я буду расти в чудесном королевстве, где у женщин есть права, в том числе каждый день обниматься со своими мужьями. Но хотя Ясмина и сетовала, что ей приходится ждать мужа по восемь ночей, она добавила, что ей грех жаловаться, потому что женам Гаруна аль-Рашида, багдадского халифа из династии Аббасидов, приходилось ждать по девятьсот девяносто девять ночей, ведь у него была тысяча джарий, то есть наложниц-рабынь. «Ждать восемь ночей все-таки не то, что ждать девятьсот девяносто девять, – сказала она. – Это же почти три года! Так что жизнь стала лучше. Скоро у нас у всех будет только один муж и одна жена[8]. Пойдем кормить птиц. У нас еще будет время поболтать о гаремах». И потом мы бежали в ее сад кормить птиц.
Глава 5. Хама и Гарун аль-Рашид
Что такое гарем? – на этот вопрос взрослые не спешили давать ответ. Но при этом они вечно твердили нам, детям, чтобы мы употребляли слова в их точном значении. Каждое слово, повторяли они, имеет четкий смысл, и надо использовать его именно в этом смысле и ни в каком другом. Но если бы я могла выбирать, я бы придумала разные слова для Ясмининого и нашего гарема, ведь они были такие разные. Ясминин гарем представлял собой открытую ферму без высоких стен. А наш в Фесе был словно крепость. Ясмина и другие жены скакали на лошадях, плавали в речке, ловили рыбу и готовили ее на костре. А мама не могла даже выйти за ворота, не испросив множества разрешений, и даже тогда ей позволялось только посетить святилище Мулая Идрисса (святого покровителя Феса), или сходить в гости к брату, который жил на той же улице, что и мы, или побывать в мечети на религиозном празднике. И при этом маму обязательно должны были сопровождать другие женщины и один из моих молодых двоюродных братьев. Так что мне казалось нелогичным называть одним и тем же словом две совершенно разных ситуации – бабушкину и мамину.
Но всякий раз, как я пыталась разузнать побольше о слове «гарем», дело кончалось горькими спорами. Стоило только произнести это слово, как тут же в ответ летели неприятные выражения. Мы с Самиром обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что если слова вообще могут быть опасны, то «гарем» опасно в особенности. Если кто-нибудь хотел начать во дворе перепалку, ей нужно было только приготовить чай, пригласить нескольких женщин, бросить им слово «гарем» и подождать с полчаса. К тому времени сдержанные, элегантные дамы в искусно расшитых шелковых кафтанах и украшенных жемчугом туфлях превращались в визгливых ведьм. Поэтому мы с Самиром решили, что наше детское дело – защищать взрослых. Мы будем употреблять слово «гарем» очень благоразумно, молча наблюдать и собирать информацию.
Взрослые из одного лагеря утверждали, что гарем – это хорошо, а из другого – что это плохо. Бабушка лалла Мани и мама Хамы лалла Радия принадлежали к первому лагерю; мама, сама Хама и тетя Хабиба – ко второму. Бабушка лалла Мани часто провоцировала спор, когда заявляла, что, если бы женщин не отделяли от мужчин, общество замерло бы и никто больше не делал бы никакой работы. «Если бы женщины могли бегать по улицам, куда вздумается, – говорила она, – мужчины перестали бы работать, потому что захотели бы развлекаться». А к сожалению, продолжала она, развлечения не помогают обществу производить пищу и товары, необходимые для жизни. Так что, если мы не хотим, чтобы наступил голод, женщины должны знать свое место и сидеть дома.
Позднее мы с Самиром долго советовались насчет слова «развлекаться» и решили, что, когда его говорят взрослые, оно как-то связано с сексом. Но мы хотели установить это совершенно точно и потому пришли с вопросом к двоюродной сестре Малике. Она сказала, что мы совершенно правы. Тогда мы спросили ее, стараясь казаться как можно выше: «А что же такое, по-твоему, секс?» Не то чтобы мы уже не знали ответа, просто хотели убедиться. Но Малика, которая думала, что мы ничего не знаем, торжественно откинула косы, села на диван, положила подушку на колени, как взрослые, когда обдумывали что-то, и медленно произнесла: «В первую ночь после свадьбы, когда все ложатся спать, жених и невеста остаются одни в спальне. Жених предлагает невесте сесть на кровать, берет ее за руку и просит ее посмотреть ему в глаза. Но невеста сопротивляется, она опускает глаза. Это очень важно. Невеста должна быть очень робкой и напуганной. Жених читает стихи. Невеста слушает, не отрывая глаз от пола, и наконец улыбается. Тогда он целует ее в лоб. Она все не поднимает глаз. Он дает ей чашку чаю. Она медленно пьет его. Он берет чашку, садится рядом и целует невесту».
Малика, которая бесстыдно манипулировала нашим любопытством, решила сделать паузу прямо на поцелуе, зная, что нам с Самиром до смерти хочется знать, куда именно жених целует невесту. В поцелуе в лоб, щеку или руку не было ничего необычного, но губы – это совсем другое дело. Однако мы решили проучить Малику, и вместо того чтобы проявить любопытство, стали шептаться, как будто совсем позабыли о ее присутствии. Выказать полное равнодушие к собеседнику, как сказала нам недавно тетя Хабиба, – это хороший способ для слабого человека приобрести влияние: «Говорить, пока другие слушают, – это само выражение силы. Но даже на первый взгляд подобострастный, молчаливый слушатель играет весьма важную роль, роль аудитории. Что, если влиятельный оратор останется без своей аудитории?»
И Малика, само собой, сразу же возобновила свое повествование о том, что происходит в брачную ночь: «Жених целует невесту в губы. Потом они оба ложатся на большую кровать, и никто не смотрит».
Дальше мы много вопросов не задавали. Остальное мы знали. Мужчина и женщина снимают одежду, закрывают глаза, а несколько месяцев спустя у них появляется младенец.
В гареме женщины и мужчины не видят друг друга, поэтому все занимаются своими делами. Пока лалла Мани разглагольствовала о гаремной жизни, тетя Хабиба все больше распалялась; это было видно по тому, как она поправляла шарф на голове, хотя он и не сползал. Однако она была разведена и потому не могла открыто противоречить лалле Мани, и ей приходилось возражать про себя и предоставлять маме и Хаме выражать несогласие. У разведенной женщины фактически не было своего дома, и ей приходилось платить выкуп за свое проживание, стараясь быть как можно незаметнее. Тетя Хабиба, к примеру, никогда не носила ярких цветов, хотя иногда говорила о своем желании снова примерить свою красную шелковую фараджию. Но она никогда этого не делала. По большей части она одевалась в одеяния выцветших серых или бежевых оттенков, а из косметики наносила только сурьму вокруг глаз. «Слабым приходится дисциплинировать себя, чтобы избегать унижений, – говорила она. – Ни за что не позволяй другим напоминать тебе о границах. Ты можешь быть бедной, но элегантность ничего не стоит».
Оспаривая взгляды лаллы Мани, мама для начала устраивалась на диване с поджатыми ногами, выпрямляла спину и клала на колени подушку. Потом она скрещивала руки на груди и уставляла взгляд прямо на лаллу Мани. «Французы не держат своих женщин за стенами, моя дорогая свекровушка, – говорила она. – Они разрешают им ходить на рынок, когда вздумается, и все развлекаются, и работа при этом продолжает выполняться. На самом деле выполняется столько работы, что они могут позволить себе снаряжать сильные армии и являться к нам, чтобы в нас стрелять».
Потом, прежде чем лалла Мани успевала собраться для контратаки, Хама излагала свою теорию о том, как появился первый гарем. После этого начинался сущий ад, потому что и лалла Мани, и мама Хамы поднимали крик, что наших предков оскорбляют и попирают наши священные традиции, выставляя их на посмешище.
У Хамы на самом деле была довольно интересная теория, и нам с Самиром она очень нравилась. Когда-то, утверждала она, мужчины постоянно дрались друг с другом. Проливалось много крови, и совершенно напрасно, и тогда в какой-то момент они решили назначить султана, который бы всем управлял, осуществлял бы султу, то есть власть, и всем говорил, что делать. А все остальные бы ему подчинялись. «Но как нам решить, кто из нас будет этим султаном?» – задумались мужчины, когда встретились, чтобы все обсудить. Они долго ломали себе голову, и тут одного из них осенило. «У султана должно быть что-то такое, чего нет у других», – сказал он. Они подумали еще, и тогда другой человек тоже кое-что придумал. «Надо организовать охоту на женщин, – предложил он. – Тот, кто поймает больше всех женщин, и будет султаном».
Прекрасная мысль, согласились мужчины, но как же доказать свое превосходство? «Когда мы все станем бегать по лесу и ловить женщин, мы разбредемся. Нужен какой-то способ обездвижить пойманных женщин, чтобы их можно было пересчитать и узнать, кто победил». Вот так появилась идея строить дома. Дома с воротами и замками, чтобы держать там женщин. Самир высказал предположение, что было бы проще привязывать женщин к деревьям, раз у них такие длинные косы, но Хама сказала, что в старину женщины были очень сильные, потому что тоже бегали по лесу, как мужчины, и, если бы двух или трех женщин привязали к дереву, они бы вырвали его с корнем. Да и к тому же связывать сильных женщин очень долго и трудно, они могут расцарапать тебе лицо или ударить в какое-нибудь место, о котором нельзя говорить. Построить стены и засунуть туда женщин гораздо удобнее. Так мужчины и поступили.
Охоту, по-видимому, организовали по всему миру, и первый раунд выиграли византийцы. Византийцы, самые гадкие из всех римлян, жили недалеко от арабов на востоке Средиземноморья и никогда не упускали случая унизить соседей. Император византийцев завоевал мир, поймал огромное количество женщин и посадил их к себе в гарем, чтобы доказать, что он главный. Люди на Востоке и Западе поклонились ему. Его боялись и на Востоке, и на Западе. Но потом прошли века, и арабы начали учиться завоевывать земли и охотиться на женщин. Они стали очень хороши в этом деле и мечтали победить византийцев. Наконец халиф Гарун аль-Рашид получил такую честь. Он разбил римского императора в 181 году хиджры (798 н. э.), а потом завоевал и другие части света. Когда он собрал себе тысячу джарий, то есть невольниц, к себе в гарем, он построил в Багдаде громадный дворец и посадил их туда, чтобы никто не сомневался в его праве быть султаном. Арабы стали владыками мира и собрали еще больше женщин. Халиф аль-Мутаваккиль собрал четыре тысячи. Аль-Муктадир сумел свезти к себе 11 тысяч[9]. На всех это произвело очень большое впечатление, и арабы отдавали приказы, а римляне подчинялись.
Но пока арабы занимались тем, что запирали женщин, римляне и другие христиане объединились и решили изменить правила игры в Средиземноморье. Гоняться за женщинами, заявили они, больше не актуально. Отныне султаном будет тот, кто построит самое мощное оружие и машины, в том числе пистолеты и большие корабли. Но римляне и другие христиане решили не говорить арабам про это, они решили держать это в секрете, чтобы застать арабов врасплох. Арабы пошли спать, думая, что знают правила игры.
В этот момент Хама замолкала и вскакивала на ноги, чтобы представить историю в лицах для Самира и меня, совершенно игнорируя громкие протесты лаллы Мани и лаллы Радии. Между тем тетя Хабиба кривила рот, чтобы не было заметно, как она улыбается. Тогда Хама приподнимала свой белый кружевной камис, чтобы освободить ноги и вспрыгнуть на свободный диван. Она растягивалась на диване, как будто спала, зарывшись головой в одной из больших подушек, закрывала веснушчатое лицо своими беспутными рыжими волосами и объявляла: «Арабы заснули». Потом она закрывала глаза и начинала храпеть, но через минуту вскакивала с таким видом, будто только что пробудилась от глубокого сна, и устремляла на нас с Самиром такой взгляд, будто никогда раньше нас не видела.
«Несколько недель назад арабы наконец-то проснулись! – говорила она. – Кости Гаруна аль-Рашида обратились в пыль, а пыль смыл дождь. Дождевая вода потекла в реку Тигр и оттуда в море, где все большое становится крошечным, и потерялась в свирепых волнах. Французский король теперь правит в нашей части света. Его титулуют президентом Французской Республики. У него огромный дворец в Париже, который называется Елисейским, и у него – ну надо же! – только одна жена! И никакого гарема. И эта одна жена бегает по улицам в короткой юбке и с вырезом на груди. Все видят ее филейную часть и грудь, но никто ни на секунду не сомневается, что президент Французской Республики – самый могущественный человек в стране. Власть мужчин больше не измеряется количеством женщин, сидящих у них под замком. Вот только в Фесе это новость, потому что у нас все часы остановились еще во времена Гаруна аль-Рашида!»
Потом Хама прыгала назад на диван, закрывала глаза и зарывалась лицом в подушку из цветастого шелка. Наступала тишина.
Мы с Самиром обожали рассказ Хамы, потому что она была очень хорошая актриса. Я всегда внимательно наблюдала за ней, чтобы тоже научиться вкладывать движения в слова. Надо было говорить слова и в то же время двигаться и жестикулировать. Но не всех повествование Хамы увлекало так же, как нас с Самиром. Ее собственная мать, лалла Радия, сначала ужасалась, а потом сердилась, особенно при упоминании Гаруна аль-Рашида. Лалла Радия была грамотная женщина, которая читала исторические книги, этому она научилась от отца, известного религиозного авторитета в Рабате. Ей не нравилось, когда люди смеются над халифами вообще и над Гаруном аль-Рашидом в частности. «О Аллах! – кричала она. – Прости мою дочь, она опять нападает на халифов! И забивает головы детям чепухой! Два равно чудовищных греха. Бедняжки, если Хама не прекратит, у них сложится очень превратное представление о наших предках».
Потом лалла Радия просила Самира и меня сесть рядом с ней, чтобы рассказать, как все было на самом деле, и внушить нам любовь к халифу Гаруну. «Он был главою всех халифов, – говорила она, – он завоевал Византию, и мусульманский флаг высоко реял в христианских столицах». Она также настаивала на том, что ее дочь совершенно не понимает, что такое гарем. Гарем – это прекрасное установление. Все уважаемые мужчины обеспечивают своих женщин, чтобы тем не приходилось идти на опасные, неспокойные улицы. Они дарят им прекрасные дворцы с мраморными полами и фонтанами, вкусную еду, красивую одежду и драгоценности. Что еще нужно женщине для счастья? Только такие бедные женщины, как Луза, жена привратника Ахмеда, вынуждены выходить из дома, работать и заботиться о собственном пропитании. А привилегированные женщины избавлены от таких невзгод.
Мы с Самиром часто не могли разобраться в этих противоречиях и пытались хоть как-то структурировать сведения. У взрослых такой беспорядок в голове. Гарем как-то связан с мужчинами и женщинами – это один факт. Он также связан с домами, стенами и улицами – это второй факт. Пока что все просто и понятно: поставь четыре стены посреди улицы – и вот у тебя дом. Потом посади в дом женщин и выпусти мужчин – и вот у тебя гарем. Но что будет, как-то осме лилась я спросить Самира, если посадить в дом мужчин, а женщин выпустить? Самир сказал, что я все усложняю, причем как раз когда мы хоть что-то нащупали. Тогда я согласилась опять посадить женщин внутрь и выпустить мужчин, и мы продолжили наше расследование. Проблема была в том, что стены и все такое соответствовало нашему гарему в Фесе, но совершенно не соответствовало гарему на ферме.
Глава 6. Таму и ее лошадь
Гарем на ферме располагался в огромном одноэтажном здании в форме буквы Т, окруженном садами и прудами. Правая сторона дома принадлежала жен щинам, левая – мужчинам, и ажурная двухметровая ограда из бамбука отмечала хадд (границу) между ними. Две части дома на самом деле представляли собой два одинаковых здания, построенные стена к стене, с симметричными фасадами и просторными сводчатыми колоннадами, благодаря которым даже в самую сильную жару в гостиных и комнатах поменьше стояла прохлада. Колоннады идеально подходили для того, чтобы играть в прятки, и дети на ферме были гораздо более смелые, чем в Фесе. Они карабкались на колонны с голыми ногами и спры ги вали, как акробаты. Они не боялись лягушек, маленьких ящериц и мелких летучих тварей, которые налетали на тебя без остановки, когда ты шла по коридорам. Полы были выложены черно-белыми пли тами, а колонны облицованы редким сочетанием бледно-желтой и темно-золотой мозаики, которая нравилась дедушке и которую я нигде больше не видела. Высокие кованые решетки тонкой работы окружали сады, арочные двери в них всегда казались закрытыми, но надо было только толкнуть их, и ты попадал на луг. В мужском саду было немного деревьев и много аккуратно подстриженного цветущего кустарника, а вот у женщин был совсем другой сад. Его заполонили необычные деревья и другие растения и всевозможные животные, потому что каждая жена требовала себе участок, который называла своим садом, где выращивала овощи, кур, уток и павлинов. Нельзя было даже прогуляться по саду, не нарушив чьих-то владений, и животные везде следовали за тобою, даже под арками мощеных колоннад, производя ужасный шум, который резко контрастировал с монастырской тишиной мужского сада.
Вокруг главного здания были разбросаны несколько других построек. Справа стояла Ясминина. Она настояла на ней, объяснив дедушке, что должна находиться как можно дальше от лаллы Тор. У лаллы Тор был собственный отдельный дворец с зеркалами во всю стену, разноцветным деревянным потолком с зеркалами и канделябрами. Павильон Ясмины состоял из большой, очень простой комнаты без всяких излишеств. Роскошь ее не заботила, лишь бы только держаться подальше от главного здания и иметь достаточно места, чтобы экспериментировать с деревьями и цветами и растить уток и павлинов. У павильона Ясмины был второй этаж, который построили для Таму, после того как она сбежала от войны в Рифских горах на севере. Ясмина заботилась о Таму, когда та болела, и они стали близкими подругами.
Таму появилась на ферме в 1926 году, после того, как объединенные французские и испанские войска разгромили Абда аль-Крима. Однажды утром она возникла на горизонте плоской равнины Гарб верхом на испанской лошади, одетая в мужской белый плащ и женский шарф, чтобы солдаты в нее не стреляли. Все жены дедушки любили рассказывать о ее прибытии на ферму, и это было не хуже сказок из «Тысячи и одной ночи» или даже лучше, потому что Таму была прямо тут, слушала, улыбалась, радуясь всеобщему вниманию. Она явилась в то утро в тяжелых берберских браслетах из серебра с торчащими шипами, в таких браслетах, которые при необходимости можно было использовать для самообороны. На правом бедре у нее висел ханджар – кинжал, а у седла под плащом она прятала настоящее испанское ружье. У нее было треугольное лицо с зеленой татуировкой на остром подбородке, пронизывающие черные глаза, которые не моргая смотрели на тебя, и длинная коса медного цвета, свисавшая на левое плечо. Она остановилась в нескольких сотнях шагов от фермы и попросила проводить ее к хозяину дома.
Никто не понял этого в то утро, но жизнь на ферме изменилась навсегда. Потому что Таму была рифанка и героиня войны. В Марокко восхищались жителями Рифа, которые продолжали сражаться с иноземными войсками еще долго после того, как остальная страна сдалась, и вот эта женщина, одетая как воин, пересекла границу у Арбауа и въехала во французскую зону совсем одна, ища помощи. И так как она была героиней войны, некоторые правила ее не касались. Она даже вела себя так, будто не знала о традициях.
Дедушка, наверное, влюбился в Таму с первого взгляда, но он несколько месяцев этого не понимал, настольно сложные обстоятельства окружали их встречу. Таму приехала на ферму с заданием. Ее люди, партизаны, попали в засаду на испанской территории, и ей нужно было доставить им помощь. Дедушка сделал все необходимое, для начала подписав с нею быстрый брачный контракт, чтобы оправдать ее присутствие на ферме, если вдруг ее придет искать французская полиция. Потом Таму попросила его помочь ей раздобыть еды и лекарств. У них было много раненых, а после поражения Абда аль-Крима каждой деревне приходилось выживать самостоятельно. Дедушка дал ей припасов, и ночью она уехала с двумя грузовиками, которые медленно катились по обочине дороги с выключенными фарами. Два крестьянина с фермы, выдавая себя за торговцев, ехали впереди на ослах, высматривая, нет ли чего подозрительного, и факелами подавая сигналы шоферам грузовиков.
Когда Таму вернулась на ферму несколько дней спустя, в одном грузовике лежали трупы, заваленные сверху овощами. Это были тела ее отца, мужа и двух маленьких детей, мальчика и девочки. Она молча стояла, пока с грузовика снимали трупы. Потом жены принесли ей табуретку, и она просто сидела и смотрела, как мужчины выкопали ямы, положили в них тела и закидали их землей. Она не плакала. Мужчины посадили цветы, чтобы замаскировать могилы. Когда они закончили, Таму не могла встать, и дедушка позвал Ясмину, которая взяла ее под руку и повела к себе в домик, где уложила в постель. Много месяцев после этого Таму не разговаривала, и все думали, что она лишилась дара речи.
Правда, Таму часто кричала во сне, сражаясь с невидимыми врагами в своих кошмарах. Как только она закрывала глаза, начиналась война, и она вскакивала с постели или падала на колени, умоляя о пощаде по-испански. Кто-то должен был помочь ей справиться с горем, не задавая назойливых вопросов и не выдав ничего испанским и французским солдатам, которые, по слухам, вели расспросы за рекой. Таким человеком и была Ясмина, и она поселила Таму у себя в доме и заботилась о ней несколько месяцев, пока та не пришла в себя. Потом, в одно прекрасное утро, жены увидели, как Таму гладит кошку и вплетает цветок в косу, и в тот же вечер Ясмина устроила для нее праздник. Жены собрались в ее павильоне и пели, чтобы Таму почувствовала себя среди своих. В тот вечер она несколько раз улыбнулась. А потом спросила про лошадь – завтра ей хотелось покататься.
Таму все меняла одним своим присутствием. Ее миниатюрная фигурка, казалось, отражает яростные сотрясения, разрывавшие страну, и ее часто охватывало сильное желание быстро скакать на лошади и делать акробатические трюки. Так она боролась со своим горем и находила в жизни хоть какой-то мимолетный смысл. У Ясмины и остальных жен она вызывала не ревность, а восхищение, потому что она, помимо прочего, умела делать то, чего не умели другие женщины. Когда Таму поправилась и снова начала говорить, они узнали, что она стреляет из ружья, бегло говорит по-испански, высоко прыгает, делает колесо, не чувствуя головокружения, и даже умеет ругаться на нескольких языках. Рожденная в горной стране, через которую то и дело проходили чужеземные армии, она выросла, путая жизнь с борьбой, а отдых с бегом. Присутствие на ферме этой женщины с ее татуировками, кинжалом, агрессивными браслетами и постоянной верховой ездой помогло остальным женщинам понять, что есть много способов быть красивой. Драться, ругаться, игнорировать традиции – так женщина тоже может стать неотразимой. Таму стала легендой в момент своего появления. Она заставила людей почувствовать внутреннюю силу и способность сопротивляться судьбе.
Во время болезни Таму дедушка приходил к Ясмине каждый день, чтобы справиться о ее здоровье. Однако, когда ей стало лучше и она попросила лошадь, он забеспокоился, потому что боялся, как бы она не уехала. Его будоражило, насколько она была хороша, – такая дерзкая и яркая со своей медной косой, пронзительными черными глазами и зеленой татуировкой на подбородке, – он не был уверен в ее чувствах к нему. Она не была ему настоящей женой, их брак был всего лишь уловкой, и в конце концов она была воительницей, которая могла уехать в любой момент и исчезнуть за северным горизонтом. Тогда он попросил Ясмину пойти погулять с ним по лугу и там рассказал ей о своих страхах. Тогда Ясмина тоже занервничала, потому что восхищалась Таму и не хотела, чтобы та уехала. Ясмина предложила дедушке спросить у Таму, не захочет ли она провести с ним ночь. «Если согласится, – рассуждала Ясмина, – значит, она не собирается уезжать. А если нет, то уедет». Дедушка вернулся в павильон и поговорил с Таму наедине, пока Ясмина ждала снаружи. Но, уходя, он улыбался, и Ясмина поняла, что Таму согласилась стать одной из его жен. Месяцы спустя дедушка построил для Таму новый этаж над этажом Ясмины, и с тех пор их двухэтажный дом рядом с главным зданием стал официальной штаб-квартирой конных соревнований под руководством Таму и женской солидарности.
Когда стройка закончилась, одним из первых дел Таму и Ясмины было вырастить банановое дерево, чтобы Яя, черная жена дедушки из чужой страны, чувствовала себя как дома. Яя была самая тихая из жен, высокая и худая женщина, которая казалась ужасно хрупкой в своем желтом кафтане. У нее было тонкое лицо с мечтательными глазами, и она меняла тюрбаны в зависимости от настроения, хотя больше всего любила желтый цвет: «Он, как солнце, дает свет». Она часто простужалась, говорила по-арабски с акцентом и особо не смешивалась с другими женами, а, наоборот, тихо сидела у себя в комнате. Вскоре после ее появления остальные жены решили разделить между собой ее обязанности по хозяйству, потому что она казалась такой хрупкой. Взамен она обещала рассказывать им по истории в неделю, описывая, как жила у себя в родной деревне далеко на юге, в стране Судан, в земле чернокожих, где растут не лимоны и апельсины, а бананы и кокосы. Яя не помнила, как называется ее деревня, но это не помешало ей стать официальной рассказчицей в гареме, как тетя Хабиба в нашем. Дедушка помогал ей пополнять запас историй, читая вслух отрывки из исторических книг о Судане, государствах Сонгай и Гана, золотых вратах Тимбукту и чудесных лесах далеко на юге, в которые не проникало солнце. Яя сказала, что белых много и там – белых можно найти во всех четырех уголках вселенной, но черные – особая раса, потому что существуют только в Судане и соседних землях южнее Сахары.
Вечерами все жены собирались у Яи в комнате, приносили подносы с чаем, а она рассказывала о своей прекрасной родине. Через несколько лет жены знали подробности ее жизни уже так хорошо, что могли говорить за нее, когда она подыскивала слово или начинала сомневаться в верности своей памяти. И однажды, послушав, как она рассказывает о деревне, Таму сказала: «Если тебе только нужно банановое дерево, чтобы на этой ферме чувствовать себя как дома, мы вырастим его для тебя». Сначала, конечно, никто не поверил, что можно вырастить бананы в Гарбе, где дуют северные ветра из Испании и черные тучи накатываются с Атлантического океана[10]. Но самой трудной задачей оказалось достать саженец. Таму и Ясмине пришлось объяснять, как он выглядит, всем кочевым торговцам, которые проезжали мимо фермы на своих ослах, пока наконец-то кто-то не привез им его из Марракеша. Яя так обрадовалась, что стала заботиться о нем, как о ребенке, прикрывала его большой белой простыней, когда дул холодный ветер. Годы спустя, когда дерево принесло первые плоды, жены устроили праздник, украсили ее тюрбан цветами и, танцуя, пошли к реке, и голова у всех кружилась от счастья.
На ферме буквально не было никаких пределов тому, что могли делать женщины. Они могли выращивать экзотические растения, ездить на лошадях и ходить, где вздумается, во всяком случае, мне так казалось. По сравнению с фермой наш гарем в Фесе казался тюрьмой. Ясмина даже сказала, что самое худшее для женщины – быть отрезанной от природы. «Природа – лучший друг женщины, – часто говорила она. – Если у тебя горе, поплавай в реке, полежи в поле или посмотри на звезды. Так женщина исцеляет свои страхи».
Глава 7. Гарем внутри
Наш гарем в Фесе был окружен высокими стенами, и, за исключением маленького квадратного участка неба, который можно было видеть со двора, природы в нем просто не существовало. Конечно, если стрелой броситься на террасу, можно было увидеть, что небо больше дома, больше всего вокруг, но со двора природа казалась не важной. Ее заменили геометрические и цветочные узоры на плитках, в дереве и штукатурке. Единственные невозможно красивые цветы у нас в доме росли на разноцветной парче, покрывавшей диваны, и шелковых занавесках, закрывавших двери и окна. Но если тебе хотелось сбежать, нельзя было открыть ставни и выглянуть наружу. Все окна открывались во двор. На улицу не выходило ни одно.
Раз в год весной мы отправлялись на нзаху, то есть пикник на ферме моего дяди в Уэд-Фесе, в десяти километрах от города. Важные взрослые ехали на легковых машинах, а детей, разведенных теть и прочих родственников сажали в два больших грузовика, специально арендованных на этот случай. Тетя Хабиба и Хама всегда брали с собой бубны и по пути поднимали такой шум, что шофер сходил с ума. «Если вы не прекратите, – кричал он, – я съеду с дороги и выброшу всех вас в долине». Но его угрозы никогда ничем не кончались, потому что его голос тонул в звуках бубнов и хлопков в ладоши.
В день пикника все просыпались на рассвете, и во дворе начиналась суета, как будто все собирались на религиозный праздник. Одни занимались едой, другие – напитками, третьи сворачивали в тюки ковры и покрывала. Хама и мама брали на себя качели. «Разве можно ехать на пикник без качелей?» – всегда спорили они, когда отец предлагал им забыть о них хоть раз, потому что очень хлопотно было вешать их на деревья. «Кроме того, – прибавлял он, чтобы подразнить маму, – качели хороши для детей, но, когда на них садятся толстые тети, бедным деревьям несдобровать». Папа ждал, чтобы мама рассердилась, а она просто продолжала паковать качели и веревки, на которых они привязывались, ни разу не бросив на него взгляда. Хама громко распевала: «Если мужчины не могут привязать качели, это сделают женщины, тра-ла-ла-ла» – на высокий мотив нашего государственного гимна «Магрибуна вататуна» («Наша родина Марокко»)[11]. Тем временем мы с Самиром лихорадочно искали наши сандалии, потому что дождаться помощи от матерей было невозможно: они были слишком заняты собственными делами. Лалла Мани считала стаканы и тарелки, «чтобы посмотреть, сколько разобьется к концу дня, и оценить ущерб». Она вполне могла бы обойтись и без пикника, часто говорила она, тем более что с точки зрения традиций этот обычай сомнителен. «В хадисах[12] об этом ничего нет, – говорила она. – Может быть, в судный день это даже будет считаться грехом».
Мы приезжали на ферму в середине утра с дюжинами ковров, легкими диванами и ханунами[13]. Развернув ковры, разжигали угли и начинали жарить шиш-кебаб. Чайники подпевали птицам. Потом, после еды, некоторые женщины разбредались по лесу и лугам, собирали цветы, травы и другие растения, чтобы использовать для косметических процедур. Другие по очереди качались на качелях. Только после заката мы отправлялись домой, и ворота закрывались за нами. И целые дни после этого мама пребывала в ужасном настроении. «Когда целый день проводишь среди деревьев, – говорила она, – невыносимо сидеть в четырех стенах».
В наш дом можно было попасть только через главные ворота, которые охранял привратник Ахмед. Но выйти можно было другим путем, если воспользоваться террасой на уровне крыши. Можно было спрыгнуть с нее на соседскую крышу, а потом выйти на улицу через их дверь. Официально ключ от террасы хранила лалла Мани, и Ахмед выключал свет на лестнице после заката. Но поскольку на террасу день-деньской ходили по всяким домашним делам: за оливками, которые хранились там в больших кувшинах, чтобы стирать и сушить одежду, ключ часто оставляли у тети Хабибы, которая жила в соседней комнате.
За выходом с террасы редко следили, по той простой причине, что выбраться с нее на улицу было непросто. Надо было уметь хорошо делать три вещи: лазить, прыгать и приземляться. Большинство женщин довольно хорошо лазили и прыгали, но мало кто мог удачно приземлиться. Так что время от времени кто-то приходил с перевязанной лодыжкой, и все знали, как это получилось. В первый раз, когда я вернулась с террасы с окровавленными коленками, мама объяснила мне, что главная проблема в жизни женщины – это научиться приземляться. «Когда ты пускаешься в приключение, – сказала она, – надо подумать, как будешь приземляться. Не взлетать. Так что, когда тебе захочется полетать, подумай, чем это может кончиться».
Но была и еще одна, более серьезная причина, почему женщины вроде Хамы или мамы не считали побег через террасу законной альтернативой воротам. Путь через террасу был примером всего того тайного, подковерного, что внушало отвращение тем, кто боролся за принципиальное право женщины на свободное передвижение. Столкнуться с Ахмедом у ворот было героическим актом. Сбежать через террасу – вовсе нет, и этот путь не освещался тем вдохновляющим, ниспровергающим пламенем освобождения.
Конечно, все это не касалось фермы Ясмины. Тамошние ворота едва ли имели хоть какое-то значение, потому что там не было стен. А для гарема, думала я, нужна преграда, разграничение. В то лето, приехав к Ясмине, я поделилась с ней теорией Хамы о том, как появились гаремы. Когда я увидела, что она внимательно слушает, я решила похвастаться всеми своими историческими знаниями и стала рассказывать о римлянах и их гаремах и о том, как арабы стали султанами всего мира, потому что Гарун аль-Рашид собрал тысячу женщин, и как потом христиане обманули арабов, поменяв правила игры, пока те спали. Ясмина много смеялась, слушая меня, и сказала, что невежество не позволяет ей оценить историческую верность теории, но тем не менее она очень смешная и ло гичная. Тогда я спросила ее, правда или нет то, что рассказала Хама, и Ясмина ответила, что не надо слишком забивать себе этим голову. Она сказала, что бывают такие вещи, которые одновременно и правда, и неправда, или такие вещи, которые не то и не другое. «Слова как луковицы, – сказала она, – чем больше слоев снимаешь, тем больше смысла находишь. А когда начинаешь раскрывать разные значения, тогда уже не важно, где правда, а где нет. В том, что вы с Самиром расспрашивали о гаремах, нет ничего плохого, но всегда будет оставаться что-то такое, чего вы еще не знаете». И потом она прибавила: «Сейчас я сниму еще один слой с луковицы. Но помни, там их еще много».
Слово «гарем», сказала она, это слегка измененное слово «харам», что значит запрет или то, что запрещено. Оно противоположно слову «халяль», то, что разрешено. Гарем – это такое место, где мужчина держит свою семью, жену или нескольких жен, детей и других родственников. Это может быть и дом, и шатер, и это слово означает и место, и людей, которые там живут. Говорят: «Гарем сиди такого-то», имея в виду и членов его семьи, и его дом, само здание. Мне стало немного яснее, когда Ясмина объяснила, что Мекка, святой город, тоже зовут Харам. Мекка – это место, где ты должен вести себя в строгих рамках. Как только ты попадаешь туда, ты оказываешься скованной множеством законов и правил. Входя в Мекку, человек должен быть чист: он должен совершить омовение и воздерживаться от лжи, мошенничества и плохих поступков. Город принадлежит Аллаху, и, когда входишь туда, ты должна подчиняться его шариату, священному закону. То же относится и к гарему, когда это дом, принадлежащий мужчине. Другой мужчина не может попасть туда без разрешения владельца, а если и попадет, то должен подчиняться правилам. Гарем – личное пространство, он устроен по определенным правилам. К тому же, сказала Ясмина, для гарема не обязательно должны быть стены. Если ты знаешь, что запрещено, ты носишь гарем внутри. Он у тебя в голове, «написанный подо лбом и под кожей». Эта идея невидимого гарема, закона, вытатуированного в уме, испугала меня. Мне она совсем не понравилась, и мне нужны были объяснения.
Ферма, сказала Ясмина, это тоже гарем, хотя там и нет стен. «Стены нужны только на улицах!» Но если ты, как дедушка, живешь в сельской местности, тогда тебе не нужны ворота, потому что ты посреди полей, где нет прохожих. Женщины могли свободно гулять по полям, потому что вокруг не слонялись незнакомые мужчины, разглядывая их. Женщины могли часами бродить или кататься верхом и никого не встретить. Но если бы они случайно встретили по дороге местного крестьянина, и он бы увидел, что они без чадры, он бы закрыл лицо капюшоном собственной джеллабы, показывая, что он на нее не смотрит. Так что в этом случае, сказала Ясмина, гарем у человека в голове, написан где-то у него подо лбом. Он знает, что женщины с фермы принадлежат дедушке Тази, и у него нет права их разглядывать.
Это расхаживание с гаремом в голове беспокоило меня, и я тайком пощупала рукой лоб, пытаясь убедиться, что он гладкий, и понять, нет ли у меня там, случайно, гарема. Но потом объяснение Ясмины стало еще более тревожным, потому что она сказала, что в какое бы место ты ни вошла, там есть свои невидимые правила, и их надо понимать. «А когда я говорю место, – продолжала она, – я имею в виду любое место: двор, террасу, комнату, даже улицу, если уж на то пошло. Там, где есть люди, есть своя каида, то есть невидимый принцип. Если ты будешь соблюдать каиду, с тобой не случится ничего плохого». По-арабски, напомнила она, каида означает много разных вещей, но у всех у них общая основа. Математический закон или закон страны – каида, как и фундамент здания. Каида также обычай или кодекс поведения. Каида везде. Потом она высказала одну мысль, которая меня по-настоящему испугала: «К сожалению, по большей части каида против женщин».
«Почему? – спросила я. – Так же несправедливо, разве нет?» Я подвинулась к ней поближе, чтобы не упустить ни слова из ее ответа. Мир, сказала Ясмина, не заботится о справедливости по отношению к женщинам. Правила придумывают так, чтобы лишить их того или иного. Например, и мужчины, и женщины работают от рассвета до поздней ночи. Но мужчины зарабатывают деньги, а женщины – нет. Это одно из невидимых правил. И когда женщина много работает, не получая денег, она вынуждена сидеть в гареме, даже если не видит его стен. «Может быть, правила так безжалостны, потому что их придумали не женщины» – так под конец сказала Ясмина. «Но почему их придумали не женщины?» – спросила я. «В тот момент, когда женщины поумнеют и зададут этот вопрос, – ответила она, – они, вместо того чтобы послушно готовить еду и без перерыва мыть посуду, найдут способ изменить эти правила и перевернуть всю планету вверх ногами». «А когда это будет?» – спросила я, и Ясмина ответила: «Очень нескоро».
Потом я попросила ее объяснить, как узнать невидимые правила, каиду, когда приходишь в новое место. Может, есть какие признаки, что-то более или менее ощутимое, что можно отыскать? Нет, сказала она, к сожалению, нет никаких подсказок, кроме наказания, которое следует после нарушения правил. Потому что, если я нарушу невидимое правило, мне будет больно. При этом, сказала она, многие вещи, которые людям нравятся больше всего в жизни, например гулять там и сям, открывать мир, петь, танцевать и выражать собственное мнение, часто оказываются в категории запретного. На самом деле каида, невидимое правило, часто гораздо хуже ворот и стен. Когда есть ворота и стены, ты, по крайней мере, знаешь, чего от тебя ждут.