Венчание с бесприданницей Туманова Анастасия
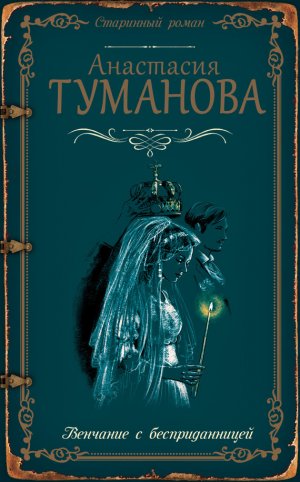
Снова установилась тишина, нарушаемая лишь глухой дробью дождя по окнам.
– Ладно, брат, прости, – наконец подал голос Никита. – Я действительно свинья.
– И сам ещё не знаешь, какая! – тут же охотно откликнулся Михаил. – Почему ты не сделал ей предложения, сукин сын?!
– Я? – изумился Закатов. Но изумление это прозвучало наигранно. Михаил, не сводящий взгляда с лица друга, поморщился, и Никита, заметив это, отвернулся к окну. В лицо жаркой волной ударила кровь. К счастью, в комнате был полумрак.
– Мишка, ну подумай сам, какое предложение… Что у меня было тогда? Ни кола ни двора. Ничего, кроме жалованья подпоручика, на которое только пару подмёток можно купить… Имение должно было отойти брату, я это всегда знал и ни на что не мог рассчитывать. Да Вера Николаевна, как ты знаешь, и не любила меня никогда.
– Положим! – воскликнул Иверзнев. – Я этого знать никак не могу! Она вообще не склонна обнажать свои чувства. Мама ещё могла бы чего-то добиться от неё, но мы… Кстати, Тоневицкого Верка не любила ни капли – в этом могу тебе поклясться на кресте! Я был на венчании! У неё кровинки в лице не было. Шла, словно на заклание!
– Но зачем же в таком случае?!
– Не знаю! Не знаю, чёрт возьми! А ты – просто болван! Чёрт с ним, с предложением, но объясниться с ней хотя бы ты мог?!
– Мишка, едва ли ты имеешь право требовать…
– Господи-и, какой же ты идиот! – Михаил, выйдя из себя, отбросил книгу на другой конец стола. – Что от тебя можно потребовать, пустое бревно?! Чувств, любви, признаний? Помилуйте, это же штабс-капитан Закатов! Господин фаталист, который уверен, что его жизнью за него управляет кто-то другой! Который пальцем не пошевелит для собственного же прозита! Который любую несправедливость принимает как должное, даже если её можно исправить без лишних усилий! И прекрати делать эту глубокомысленную морду! Я уверен, ты мог бы одним словом расстроить эту свадьбу!
– Каким образом? В день венчания Веры Николаевны я со своим полком уже двигался в Болгарию!
– Не выкручивайся, стыдно! Ты мог бы вообще не допустить всего этого! Вы же виделись с Верой здесь, во время похорон мамы! Ни о каком князе Тоневицком ещё и речи не шло, она всего лишь служила гувернанткой при его детях – и всё!
– Мишка, – с горечью заметил Никита, – боюсь, ты преувеличиваешь моё значение в жизни твоей сестры.
– Прекрати фразёрствовать! Ты был ей дорог, и я это знаю! Почему ты, болван, ни разу даже не поговорил с ней?! Ведь ты всегда её любил! Да, и не отворачивайся! Ты в лице менялся каждый раз, когда Вера входила в комнату! И все, кто знал вас обоих, это видели! В тот день, когда ты прибыл на похороны мамы…
С этого мига Закатов слушать перестал. Дождь монотонно стучал в окно, отражение лампы расплывалось в чёрном стекле мутным зелёным пятном – а перед взглядом Никиты стояла такая же непроглядная дождливая ночь трёхлетней давности. Знакомое, милое, самое прекрасное в мире лицо, залитое слезами. Чёрные, как у Мишки, огромные, мокрые глаза.
«Да ведь вы меня не любите, Никита! Чего же проще?»
Что стоило ему тогда сказать: «Я люблю вас»? Что помешало? Знал ли он сам, понимал ли тогда, что никого, кроме этой девушки со смуглым строгим лицом, он не любил на этом свете? Что толку вспоминать теперь об этом, зачем жалеть? Дважды в одну и ту же реку не войти… Один только Мишка с его смешной тягой к справедливости не может этого осмыслить. И кто только преподаёт у них на курсе философию?..
– Да всё просто на самом деле, брат, – медленно сказал он, не отвода взгляда от зелёного пятна на стекле. – Ты меня, конечно, можешь считать последним сукиным сыном, но… Я ведь тогда вовсе не на похороны Марьи Андреевны приехал.
– Как это? – опешил Михаил. – Никита, да ты совсем пьяный, что ли?..
– Совсем. Ты слушай, трезвым я тебе вряд ли это всё повторю. Я приехал тогда просто потому, что… Потому что вляпался в плохую историю. У меня пропали казённые деньги. Много.
– Карты, да? Никита? Ты проигрался?
– Нет, но… Почти то же самое. У меня их попросту спёрли. И я ехал к вам в надежде… Чёрт, да не было у меня никакой надежды! Я, честно сказать, собирался стреляться. А может, не стреляться, но хотя бы денег одолжить у кого-нибудь из вас. А прибыл… на поминки. – Никита криво усмехнулся. Михаил из-за стола пристально, недоверчиво следил за ним, пытаясь поймать взгляд друга, но Закатов по-прежнему смотрел в тёмное окно.
– Ну и суди сам… Приезжаю – а вы все здесь, Вера в слезах, полон дом народу, отпевание, похороны… Да я сам чуть не умер сразу же! Ведь твоя матушка и для меня была… Впрочем, что ж теперь. Ну, и как мне было просить денег?! У кого?! У Саши, на котором лица не было? Или у Петьки, который даже говорить не мог? И… как я должен, скажи на милость, объясниться с твоей сестрой, если на другой день собирался застрелиться?!
Он коротко рассмеялся, и смех этот повис в тишине. Михаил медленно встал из-за стола, подошёл к другу.
– Отчего ж не застрелился? – серьёзно спросил он.
– Что?.. А, да очень просто всё… Наутро получил известие, что отец мой скончался. И Болотеево вместе со всеми доходами теперь моё. Вот и всё, брат… А Вера Николаевна, так и не дождавшись от меня ничего путного, сделала блестящую партию… И не смотри на меня волком! Я – последний, кто мог бы её судить! И вообще отвяжись от меня… Прошлые это дела. Я спать хочу.
Михаил молча прошёлся по комнате. Для чего-то начал складывать в стопку разбросанные по столу книги. Потом снова повернулся к сгорбившейся фигуре на диване.
– Закатов… Но, чёрт возьми, отчего же ты СЕЙЧАС не напишешь Вере? Она – вдова. Ты – полноправный хозяин своего имения. Что мешает тебе…
– Что мешает? – Короткий, отрывистый смешок. – Что мешает… Всё же неисправимый ты мечтатель, душа моя! Спустись-ка с облаков на землю и смотри! Ты полагаешь, княгине Тоневицкой до смерти необходим такой вот супруг? И моё полудохлое Болотеево в придачу к её имениям?
Закатов тяжело поднялся с дивана и встал перед другом, заложив руки в карманы и слегка покачиваясь. Свет лампы дрожал на изрезанном шрамами лице. Серые сощуренные глаза, казалось, смеялись, но, заглянув в них, Михаил почувствовал испуг. И, стараясь скрыть это, пробормотал:
– Ложись лучше спать, Закатов… Ты пьян.
Никита усмехнулся. Неловко опустился обратно на диван и отвернулся лицом к стене.
Он проснулся поздно, с тяжёлой больной головой и дурным вкусом во рту. В окно глядело серое позднее утро. Михаила в комнате не было. На столе, вместо убранных книг и тетрадей, лежал большой пакет. Закатов, шёпотом ругаясь и оглядываясь в поисках ведра с водой, придвинул к себе письмо. Он был уверен, что оно прислано из его имения. Но адрес на пакете, к изумлению Закатова, не был написан косым тонким почерком его управляющей, зато стояла казённая печать. Недоумевая, Никита сломал сургуч, разорвал пакет и принялся читать. По мере того как он пробегал глазами строчки, выражение его лица из безразличного становилось хмурым, недоверчивым и, наконец, испуганным. Закончив читать, Закатов резко поднялся, поморщился, едва удержавшись за край стола, и, на ходу накидывая непросохшую с минувшей ночи шинель, быстро вышел из комнаты.
– Аннет, да сколько же можно, право?! Тебя даже в Ставках у Команских, вероятно, слышно! Неприлично в конце концов так хохотать! Ты ведь не кухарка и не клоун в цирке! Посмотри, даже Сидор бросил работать и смотрит на тебя! Что дворня подумает! Господа! Княгиня! Скажите же ей, что это недопустимо!
Некрасивая девушка с болезненным лицом раздражённо всплеснула руками и отвернулась. Её подруга, совсем юная брюнетка, большеротая, смуглая и кудрявая, лежала в кресле и заливалась таким живым и дробным хохотом, что остановить его казалось немыслимым.
Стоял тёплый сентябрьский вечер. Большая веранда была залита розовым светом солнца, садящегося за дальние холмы. По тускнеющему небу величественно проплывали белые горы облаков. Из сада доносились смех и разговор девушек, собирающих яблоки, с кухни тянуло сладким ароматом варенья. Горничная разливала чай.
– Аннет, да прекрати же! У тебя даже оборки задираются! Княгиня, посмотрите, это, право, похоже на истерику!
– Александрин, mon dieu, да как же можно прекратить?! – Аннет наконец кое-как взяла себя в руки и, вытирая мокрые глаза, одновременно попыталась оправить находящиеся в полном беспорядке кружева на платье. – Как же можно прекратить, когда всё это так невыносимо смешно?! Маменька, ну судите же сами! Я прекрасно помню ваш реприманд по поводу того, что преждевременно поощрять ухаживания господина Самойленко! Мне всего четырнадцать, я ещё не выезжала, замуж – рано, всё остальное – опасные глупости, он – взрослый мужчина… Помню, помню, всё верно! Но что же делать, если Самойленко каждый раз, как приезжает в гости, просто проходу мне не даёт со своими ухаживаниями?! В конце концов я – хозяйка и не могу нагрубить ему в своём доме! Ну вот, я и решила вчера напугать его до смерти! Чтобы он в полной глубине постиг всю испорченность моей натуры!
С перил грянул дружный мужской хохот. Горничная закрыла лицо платочком, и её плечи мелко затряслись.
– И вот я делаю выражение лица, как у нашей Александрин, когда она находит в сливках муху, и говорю: «Как вы находите «Ревизора» господина Гоголя? Не правда ли, глупо, что эта пьеса провалилась? Разве это не достоверное отражение нашей чудовищной действительности?» И далее с самой кислой миной начинаю излагать статью Григория Белинского о «Мёртвых душах»! Целую мазурку! Восемь фигур! Какой кавалер в здравом уме это бы вынес? А Самойленко что же?! Коля, Коля, иди сюда, ты его замечательно представляешь!
Стройный пятнадцатилетний мальчик в гимназической форме спрыгнул с перил, подхватил сестру, и они понеслись по веранде в бешеной мазурке. Аннет, закатив к потолку глаза и томно обмахиваясь воображаемым веером, говорила по-французски, намеренно утрируя прононс:
– Но согласитесь же, Модест Спиридонович, что этот ужасный городничий – совершенно точный образ! Не правда ли, убедительно изображено? Точь-в-точь наш становой Переперченко!
Коля же, отчаянно подпрыгивая и бухая сапогами в дрожащий пол, надувал щёки, лихо крутил несуществующие усы и басил по-протодьяконски:
– Ах, мадемуазель Аннет, вы обворожительны, по-ло-жи-тельно обворожительны! Как прекрасно встретить юную особу, которая может говорить о чём-то, кроме кружев валансьен! Вы мне делаете сотрясение всех чувств! Я готов даже прочесть господина Гоголя по вашей рекомендации… Ей-богу, любой подвиг будет мал ради вашего расположения! Ах, ах, вы так очаровательны… Вот, право же, нынче же сяду с книгой в кабинете и рядом поставлю своего Петрушку, чтобы он меня будил всякий раз, когда…
Но тут уже в голос, уронив на колени вязание, расхохоталась молодая женщина в чёрном платье, сидевшая в кресле у стола. Александрин посмотрела на неё с изумлением и поджала тонкие губы.
– Вы… находите ВСЁ ЭТО смешным, Вера Николаевна?
– Но, Александрин, как же можно тут не смеяться?! – Княгиня Вера, всё ещё смеясь, нагнулась за упавшей спицей. – У Nicolas определённо способности к сцене! И господина Самойленко он представляет весьма точно! Надо сказать, человек он действительно глупый… Если в свои три с лишним десятка позволяет себе всерьёз увлечься ребёнком четырнадцати лет. Да ещё довести это до её сведения. Думаю, стоит отказать ему от дома.
– Ах, маменька, да не за что же, ей-богу! – беспечно сказала Аннет, снова падая в кресло и встряхивая обеими руками растрепавшиеся кудри. – Он дурак, спору нет, но совсем безобиден. К слову сказать, мне сочинение господина Гоголя вовсе не понравилось. Даже и в театре не хотела бы это видеть.
– До театра тебе, сестрёнка, ещё надо дорасти! – со смехом заметил Коля, присаживаясь на ручку её кресла. – Однако, что тебе не понравилось в «Ревизоре»? Лично я смеялся до колик, ночь спать не мог! Особенно этот городничий… И Земляника… И купцы! А уж Хлестаков! А уж, прошу прощения, Анна Андреевна и Марья Антоновна! Все потрясающи в своей пошлости, глупости и ужимках!
– Вот-вот, это-то и плохо! – Аннет перестала улыбаться и многозначительно взглянула на брата. – На всю пьесу – ни одного порядочного человека! Ни одной достойной героини! Да её и вовсе нет – героини-то! Не эта же дурочка Марья Антоновна с её платочком, честное слово! А герой!.. И правильно пьесу все ругали и с театра сняли! И ничуть даже не жалею, что её не видела!
– Да ведь в том-то и соль, Аннет! – Коля крутанулся на ручке кресла так, что чуть было не свалился на пол, и так же, как сестра, взъерошил обеими руками густые тёмные кудри. – Господин Гоголь именно это и хотел показать – что в современном обществе ничего достойного нет и быть не может! И его замысел с блеском удался!
– Разумеется! – вспыхнула Аннет. – Достойным, по мнению господина сочинителя, может быть только кузнец верхом на чёрте! И запорожские казаки, которых хлебом не корми – а дай перерезать несчастных евреев, которые им ничего худого не сделали! И этот несносный Тарас Бульба, убивший собственного сына! Я от ужаса едва смогла дочитать до конца!
– Но за предательство же!..
– Ну и что, mon dieu?!! Как это отвратительно – убивать своего сына! А мне Андрий так очень даже понравился! Как он был влюблён в полячку, какая прелесть!
– Тебе ещё рано рассуждать о любви, Аннет. Ты – дитя, что ты можешь смыслить в подлинной страсти? – брезгливо заметила Александрин, одновременно бросая быстрый взгляд в сторону, где, не принимая участия в споре, стоял старший из детей Тоневицких – восемнадцатилетний Сергей. Он прислонился к столбику перил, стоя спиной к закату, и в густых пепельных волосах молодого князя играло садящееся солнце. Время от времени он с хрустом откусывал от большого желтобокого яблока, и видно было, что это занятие доставляет молодому князю огромное наслаждение. Казалось, он не заметил брошенного в его сторону взгляда Александрин. Однако, с явным сожалением кидая огрызок яблока далеко в сад, он небрежно спросил:
– А вы, кузина, вероятно, знаете о страсти всё? Этому девиц сейчас специально учат в Смольном институте? Надо же, какое полезное нововведение! Кто бы мог подумать…
Закончить он не успел: Александрин вскочила, с тихим «Ах!» закрыла лицо руками и, подняв ветер оборками платья, кинулась прочь с веранды. Горничная, вносящая самовар, едва успела отпрыгнуть в сторону.
– Ахти! Да что ж это вы, барышня, эдак-то! Чуть не обварила!..
– Ну всё, теперь готов припадок до утра! – с досадой сказал Коля, глядя на захлопнувшуюся дверь. – Как они нервны все в этих институтах – ужас просто!
– Серж, зачем?.. – с гневным укором сказала княгиня, вставая и помогая испуганной горничной установить на столе тяжёлый самовар. – Сколько раз я просила вас! И вы обещали! И чего стоят ваши обещания, если вы, не успев дать слово, тут же его нарушаете?! Вы – дворянин и офицер русской армии, а ведёте себя просто пошло!
– Простите, маменька… Право, виноват. – Синие глаза Сергея смеялись. – Но, поверьте, крайне трудно с собой справляться, глядя на это… институтское райское яблочко.
– Вы несправедливы к Александрин! – отрезала княгиня. – Возможно, она в чём-то наивна, говорит слишком фразисто… Но у неё не было возможности стать другой! После окончания института много лет нужно привыкать к нормальной жизни! И многим привыкнуть не удаётся до конца дней! А вы, вместо того чтобы проявить мужскую снисходительность, отпускаете плоские остроты, на которые ваша кузина не в состоянии достойно ответить! Стыдно, право!
Синие глаза Сергея потемнели, улыбка пропала с загорелого лица.
– Она мне не кузина, maman, – жёстко сказал он. – Она приживалка в этом доме, бедная родственница, взятая вами из милости! На её месте другая не смела бы учить вас, как воспитывать Аннет, и кривляться, как жаба, всякий раз, когда сестрёнка делает успехи. К тому же она шпионка и наушница, как все в этом вашем прекрасном институте! По моему мнению…
– Я не спрашиваю вашего мнения по этому поводу! – Голос княгини был тих и спокоен, но, взглянув в её лицо, молодой князь невольно осёкся. – И хочу вам напомнить, что Александрин была взята из института в этот дом согласно воле вашего покойного отца – как сирота и дочь его родственника! В завещании было чётко указано, что я обязана заниматься судьбой Александрин так же, как судьбой любого из вас! И дать за ней достойное приданое, когда найдётся тот, кто попросит её руки!
– Долго же придётся этого ожидать! – ввернул Сергей.
– Вас это должно волновать менее всего! – отрезала княгиня. – И, полагаю, не стоит вести подобные разговоры при младших брате и сестре. Извольте пройти в мой кабинет, мне надобно с вами поговорить.
Шурша платьем, она быстро вышла с веранды. Сергей пожал плечами; поймав встревоженный взгляд младшего брата, нарочито засвистел сквозь зубы и пошёл следом.
– Ступай, Домна, я сама разолью, – отослала Аннет горничную и, подставив чашку под дымящуюся струю кипятка, досадливо поморщилась. – Сергей, конечно, ужасно дерзит… Но ведь он прав! Там, где Александрин, – там и скандал! Когда только это кончится?
– А тебе что стоило начать играть? – сердито спросил Коля, в последний момент прикручивая краник самовара над уже переполненной чашкой. – Я же тебе столько раз моргал на пианино! Могла бы и заметить, честное слово! Всего-то надо было сесть и отжарить какую-нибудь элегию погромче! Маменька мгновенно бы забыла о любом разносе!
– И правда, как я только не сообразила… – с досадой согласилась Аннет. – Что ж, раз сама виновата – сама и буду слушать теперь полночи рыдания кузины! И вообрази, подойти утешить себя она не позволяет, а наутро дуется за то, что я, бесчувственное создание, всю ночь храпела без капли к ней сочувствия! И так плохо, и этак нехорошо! А попробуй я попросить для себя отдельную комнату, она и вовсе хлопнется в обморок! Вот всё время не смею у неё спросить: как это институтки так ловко лишаются чувств? Этому специально обучают или нужно иметь врождённые способности?
Выражение живого личика Аннет было непритворно озадачено, но Коля расхохотался и, схватив сестрёнку в охапку, закружился с ней по веранде.
– Нет-нет, Аннет, ты в этом смысле совершенно безнадёжна! И какое счастье, что маменька не отдала тебя ни в пансион, ни в институт! Из всех моих знакомых девиц ты одна более-менее похожа на живого человека! А они все – тупоголовые куклы! И Серж так же говорит! У тебя совсем-совсем другая врождённая способность! Умоляю, садись за инструмент! Будем петь дуэтом эту самую… «Сильфиду»!
– Болван! Какую «Сильфиду», это же балет! И ты напрочь сбил мне дыхание! Отпусти меня, Асмодей неистовый! Подними крышку! И как можно петь с тобой дуэтом, если тебя слухом господь обидел? – Взъерошенная Аннет, кидая на брата гневные взгляды, кое-как оправила платье, уселась за стул перед открытым пианино и, шумно переводя дух, взяла несколько нот. Через минуту в пронизанный закатными лучами сад понеслись звонкое девичье сопрано и отчаянно фальшивящий, но самоуверенный басок:
- Минутных дней очарованье,
- Зачем опять воскресло ты?
- Кто разбудил воспоминанье
- И замолчавшие мечты?..[2]
– Как вы провели время в Москве, Серёжа? – спросила княгиня Вера, войдя в сопровождении молодого князя в свой кабинет. – Надеюсь, с пользой?
– Скучно, – пожал плечами юноша, глядя, однако, с некоторым недоумением. – Был у Скавронских, у Агаповых, у Ильи Константиныча… Вам кланяется графиня Татьяна Фёдоровна, весьма настойчиво зовёт в гости… Да и всё, пожалуй.
– Ни о каких неприятных моментах вы не желаете мне рассказать?
– Я, маменька, право… не понимаю вас.
Княгиня Вера, стоя у открытого окна, смотрела на уже погасшие, подёрнутые вечерним туманом холмы, сбегавшие к озеру. Солнце село; последний луч, пробившись сквозь разрыв низких облаков, скользнул по отдёрнутой кисейной занавеске, упал на лицо княгини, озарив его нежным розовым светом. Княгине Вере, вдове князя Тоневицкого, хозяйке его огромного поместья, недавно минуло двадцать шесть лет, и она до сих пор вздрагивала, когда подросшие дети князя называли её «маменькой». Выйдя замуж, она попыталась было настаивать на прежнем обращении «мадемуазель» – так юные князья и княжна Тоневицкие называли Веру Иверзневу, когда она служила при них гувернанткой. Однако князь настоял на новом обращении, и дети, обожавшие Веру, с восторгом приняли его.
– Серж, вы знаете, как я ненавижу доносы и неподписанные письма, – вполголоса сказала Вера, глядя в сад. – Но вчера я получила одно такое… из Москвы. Оно касается вас.
– Меня? Но кому взбрело в голову?..
– Я более чем уверена, что это просто чья-то гнусная выдумка. Тем не менее прошу вас прочесть. Одно только ваше слово, что это ложь, – и я попрошу у вас прощения, и более мы не вернёмся к этому разговору. – С этими словами княгиня протянула Сергею смятый листок жёлтой бумаги. Тот с непонимающей гримасой взял его, развернул и принялся читать. Вера по-прежнему смотрела в окно и не видела, как меняется лицо молодого человека – от изумления к испугу, отвращению и гневу.
– Гадость какая!.. – с ожесточением воскликнул он, комкая письмо и бросая его на стол. – Почерк мужской, а все ухватки бабьи! И подписаться-то побоялся, мер-рзавец!
– Господи, так это неправда? Серёжа, нет же? В самом деле?! – с облегчением спросила княгиня, поворачиваясь к пасынку. – Боже, какое счастье… Как я глупа, что могла хоть на миг поверить, что вы способны играть по-крупному, играть в долг… Да ещё сумма-то какая немыслимая, пятьдесят тысяч! Мне надо было совсем забегаться по работам, чтобы хоть на миг взять в голову… Серёжа?!
Молодой человек стоял, глядя в пол. До княгини доносилось его хриплое прерывистое дыхание. Вера молча, изумлённо смотрела на него. И Сергей, словно чувствуя этот взгляд, всё ниже и ниже склонял голову. В наступившей тишине отчётливо было слышно сердитое гудение запутавшейся в складках занавески мухи.
– Лишь одно меня ещё несколько утешает, – княгиня старалась говорить холодно, но голос её растерянно дрогнул. – Что вы, кажется, ещё не способны лгать мне в лицо. Но, вероятно, и этот день уже не за горами.
– Маменька, но… я… Поверьте, что…
– Но как же вы могли!.. – с отчаянием вырвалось у княгини. Недоговорив, она медленно опустилась в кресло у окна и некоторое время молчала, глядя в сумеречный сад. Затем тихо, без гнева сказала: – Знаете, что более всего меня огорчает, Серёжа? То, что ваш отец, умирая, взял с меня слово, что я воспитаю из всех вас достойных людей. Я дала ему это слово. И, кажется, поступила слишком самонадеянно. Впрочем, я всегда надеялась на ваш ум, на ваше чувство ответственности… А его, оказывается, и в помине нет! Играть со случайными людьми! Играть в долг! Не суметь даже остановиться вовремя, чтобы просто сообразить – как и чем мы будем платить вашему кредитору? Это ведь почти все деньги, которые должны быть вложены в хозяйство, в постройки, в образование Николая! И, позвольте спросить, на что вы рассчитывали, скрывая от меня это? Каким образом вы собирались расплатиться с… господином Закатовым?
Голос княгини снова дрогнул, и она невольно прикрыла глаза рукой, но Сергей не заметил этого. На его смуглых обветренных скулах дёргались желваки; было очевидно, что он мучительно пытается заговорить – и не может справиться с собой.
Наконец ему это удалось.
– Маменька, я… Поверьте, у меня в мыслях не было… Я готов был рассказать вам обо всём, если бы не моё слово, данное господину Закатову.
– Как?! Он ещё посмел взять с вас слово молчать о проигрыше?!
– Нет… Вовсе нет! – Сергей одним стремительным прыжком пересёк маленький кабинет, сел на пол у ног княгини и, схватив её за руку, уткнулся в неё лицом. Этот жест был полон такого отчаяния, что Вера, охнув, покачала головой и свободной рукой погладила густые пепельные волосы пасынка.
– Ну же, встаньте, Серёжа! Совестно, ей-богу!
– Маменька, я действительно подлец и мне прощенья нет, – глухо сказал он, не поднимая головы. – Но я не хотел, не смел вам лгать… И всё было вовсе не так, как в этой паршивой цидульке… и играл я совсем с другим человеком, и господин Закатов на самом деле просто спас меня! Позвольте, я обо всём вам расскажу! Теперь я могу говорить, потому что эта каналья, написав свой донос, невольно освободила меня от данного слова!
Когда Сергей закончил говорить, в маленьком кабинете стало совсем темно. Последние блики заката погасли на глади озера, и над холмами поднялась ущербная, по-осеннему холодная луна. В кабинет заглянула горничная со свечой, но княгиня Вера отослала её едва заметным движением головы, а Сергей, по-прежнему сидящий на полу, даже не заметил этого.
– Клянусь, всё было так, как я сказал, – сдавленным голосом закончил он, прижимаясь горячей щекой к руке княгини. – Если вы ещё верите мне… Если можете верить…
– Разумеется, да. Разумеется, верю… Ну, встаньте же, мальчик мой. – Вера ласково, но настойчиво вынудила молодого человека подняться и сесть напротив неё. – Одно мне непонятно: какой профит хотел получить этот аноним, донося мне о ваших глупостях? Да ещё выставляя в столь невыгодном свете господина Закатова? Ведь здесь же прямо написано, что это Закатов – ваш кредитор! Не понимаю, право, не понимаю… Надеюсь, вы ещё не успели нажить себе серьёзных врагов в столице?
– Не думаю… – растерянно сказал Сергей.
– И ведь не знай я много лет Никиту Владимировича – я могла бы и поверить в эту отвратительную клевету! И подумать дурно о человеке, который… которого…
– Так вы знакомы с Закатовым?!
– Он лучший друг дяди Михаила, моего брата… Да и всей моей семьи. Моя мать всегда считала Закатова своим сыном, мы дружили с детства… И, видит бог, он остался достойным человеком. Какое счастье, Серёжа, какое счастье, что именно он попался вам в этом ужасном трактире… Как вы только решились отправиться туда!
Сергей тяжело вздохнул, вновь опуская голову к самым коленям.
– Ругайте, маменька, ругайте… Кругом виноват.
– Не буду, – так же тяжело вздохнув, сказала Вера. – Во-первых, повинную голову меч не сечёт… Во-вторых, я не менее вашего виновата, что отпустила вас в Москву, понадеявшись на вашу разумность. А ведь вам в полк ехать через месяц! Что вы ещё там начудите, душа моя?
– И этот сукин сын… простите… эта скотина ещё осмеливается писать вам гадости! – вдруг вспылил Сергей, хватая со стола смятое письмо и комкая его ещё больше. – Как могла русская женщина, столбовая дворянка, выйти замуж за польского гонористого пана и воспитывать его польских щенков! Свинья! Хватило же у него ума не подписаться! Я бы нашёл его из-под земли и вызвал бы на поединок! И застрелил бы с наслаждением!
– Только этого ещё не хватало. – устало сказала Вера. – Мало вам совершённых подвигов?
В кабинете вновь воцарилась тишина. Луна вошла в окно, и кружевная тень от занавесок легла на доски пола. Откуда-то доносилось лёгкое звучание пианино.
– Аннет ещё не спит? – с изумлением, словно внезапно проснувшись, спросила Вера. – Боже, ну вот и поди со всеми вами… Чуть забудешься – и они уже ни о чём не думают! А я совсем забыла пойти утешить Александрин…
– Вот уж большая необходимость! – сквозь зубы заметил Сергей, подходя к окну. – Не много ли чести?
– Серж, у меня уже недостаёт терпения повторять вам одно и то же, – устало сказала княгиня Вера. – Александрин не виновата, что она такова. Её следует пожалеть, а не преследовать недостойными мужчины насмешками.
– Не смею с вами спорить, маменька… Но неужели вы не видите, что она своими кривляниями уже замучила всех! Извела вконец прислугу! Сидор наш, вечно пьяный – и тот старается ей лишний раз на глаза не попадаться! «Ах, опять этот мужик, ах, как от него дурно пахнет, ах, он ужасный, поди прочь!»
– Ну, пьяный Сидор – действительно тяжкое зрелище…
– А эти рыдания по ничтожным поводам? Давеча мы давали бал, съехались гости, все ждут сестру – а Аннет всё не спускается! Иду за ней – и что же вижу? Наша прекрасная Александрин валяется в креслах вся в соп… слезах, от истерики даже говорить не может, а сестрёнка носится вокруг неё с водой и с солями! Натурально, спрашиваю, что за напасть? Оказывается, у кузины разошёлся шов на перчатках и ей не в чем идти танцевать! Аннет уже вывалила перед ней дюжину собственных, чтобы она выбрала, какие ей нравятся, – снова не то! Ах, сиреневое не идёт к зелёному… Ах, жёлтое не идёт к бэж… Ах, как это унизительно всегда пользоваться чужими вещами… Ах, лучше бы ей на свет не родиться… Фу! Маменька, объясните мне, Христа ради, к чему в институтах так воспитывают девиц?
– В институте, Серёжа, никто никого не воспитывает, – с тяжёлым вздохом ответила Вера. – Там только ломают здоровье… И физическое, и душевное. Что может получиться из девочки, которая шесть лет заперта в одних и тех же каменных стенах, шесть лет учится французскому, танцам и манерам… Всему тому, что ни на грош не нужно в жизни! Они не видят новых людей, не читают книг, учатся напыщенным фразам и пустым разговорам о драгоценностях и платьях… и только! И наша Александрин – замечательное тому доказательство.
– Извольте, я готов её жалеть! – сердито заметил после некоторого размышления Сергей. – Но только на дальнем-дальнем расстоянии! Сочувствовать ей вблизи и подсовывать ей свои перчатки, шляпки и шали способна только наш ангел Аннет! Заметьте, вы всегда шьёте платья и Аннет, и Александрин одновременно! То же самое касается и прочих шмотьёв, но кузина всегда недовольна! Всегда и всем! Нет, она, конечно, очень благодарна… – Сергей скорчил гримасу. – Она вечно будет признательна своей благодетельнице, она помнит своё место, она всего лишь несчастная приживалка без гроша за душой… Но кружева у Аннет ЛУЧШЕ! И розовый ей идёт гораздо больше, чем Александрин – вишнёвый! И ботинки у Аннет во сто раз изящнее – пустяки, что их покупали в одном магазине! А того не смыслит, что сестру хоть в рогожу заверни – она всё равно будет лучше, свежее и привлекательнее! Просто потому, что никто и никогда не видел у Аннет кислой мины!
– Одной вещи вы не в состоянии понять, Серёжа, – со вздохом сказала княгиня. – Очень легко быть весёлой, доброй и великодушной, когда тебя с детства любят. Когда ты ни в чём не нуждаешься, когда ты ни разу не слышала, что сидишь на чьей-то шее и обязана быть по гроб жизни благодарна человеку, который, возможно, капли уважения не стоит. Всё тогда становится простым и лёгким. И свои перчатки отдать просто – всё равно у тебя в комоде ещё две дюжины на любой вкус. Бедность весьма портит характер, надо вам сказать.
– Вас, маменька, она ничуть не испортила. – упрямо возразил молодой человек. – Вы нам рассказывали, что ваша семья была небогата, и вы свою молодость прожили по гувернанткам…
– Верно, это так, – улыбнулась Вера. – Но в нашей семье все так любили друг друга, что никакая бедность была не страшна! Братья всю жизнь носили меня на руках. Отец с детства занимался нашим образованием, вкусом, прививал любовь к искусству. Он буквально насмерть бился с маменькой, приучая меня читать книги, – ведь тогда считалось, что девушке вообще читать незачем, что она таким образом становится «синим чулком»! А маменька, несмотря на воркотню, всё готова была сделать для нашего удовольствия… Так что очень прошу вас, Серёжа, – будьте снисходительны к Александрин. Многого вы ещё не можете понять в силу своей молодости, но… Просто сделайте это для меня.
– Для вас я готов сделать всё, что угодно… Но пощадите, не требуйте от меня уважения к этой особе! – вновь вспылил Сергей. – Не вы ли говорили мне, что самое отвратительное на свете – это донос и наушничество?! Не вы ли сейчас комкали с брезгливостью эту бумажонку с клеветой на порядочного человека?! А между тем щели нет в доме, куда бы не сунула свой нос эта Александрин! За всеми следит! За всеми подглядывает! Первое время бегала к вам с докладами – к счастью, вы её быстренько осадили! Этому тоже учат в институте?
– К сожалению, да… И это так скоро не истребить. Но я, Серёжа, догадываюсь, почему вы так обижены на Александрин. – Княгиня слегка улыбнулась, но в темноте комнаты этой улыбки нельзя было разглядеть. – Должна вам сказать, что мне и дворня регулярно докладывает… о ваших рандеву с Варей Зосимовой. Ничего дурного я в этом пока не вижу…
– …потому что в этом и нет ничего дурного! Только такое ничтожество, как Александрин, способно во всём видеть что-то гадкое! Мадемуазель Зосимова – умная, прекрасная девушка! Александрин со всеми своими манерами подошвы её не стоит! Несмотря на разность происхождения и воспитания!
– Серёжа, я всё, всё понимаю… Боже мой, почему это мы с вами до сих пор сидим без огня? Домна! Подай свечу!
Вошла горничная, одну за другой зажгла оплывшие свечи в медном, давно не чищенном канделябре. Дрожащий свет запрыгал по стенам, озарил портрет Пушкина на стене, и на миг княгине показалось, что любимый поэт грустно улыбается ей. Когда язычки свечей выпрямились, а Домна ушла, Сергей быстро подошёл к столу и, искоса поглядывая на мачеху, поднёс к огню скомканное письмо из Москвы. Оно занялось мгновенно и вскоре превратилось в комочек серого пепла.
– Маменька, раз уж мы заговорили о мадемуазель Зосимовой… – нерешительно начал Сергей, возвращаясь в кресло. – Если бы я только мог вас попросить…
– О чём же?
– Скоро именины сестры. Вся губерния съедется, по обыкновению… Я бы очень хотел… и Аннет согласна со мной… чтобы мадемуазель Зосимова была на этом празднике. Со своим папенькой, разумеется. Мы с сестрой попытались пригласить их, но Зосимов упёрся и не согласен! Возможно, если бы вы сами…
Княгиня тяжело вздохнула и задумалась. Молодой князь, всем телом подавшись вперёд, следил за ней пристальным взглядом.
– Серёжа, я боюсь, что это невозможно, – наконец сказала Вера. – Мне очень жаль, но…
– Но отчего же?! Боже правый, я был уверен, что уж вы-то далеки от всех этих предрассудков!
– Я – да. И, как вы помните, я всегда с удовольствием принимала у себя Варю, мне она очень нравится. Но подумайте сами, будет ли она сама хорошо себя чувствовать на нашем балу? Вы сами только что сказали, что прибудет вся губерния… Ужас какой-то! Будут Грановские, Вельтовы, Бзецыньские, графиня Алферина с дочерьми… Весь цвет общества! А у Вари, насколько я помню, всего одно платье и то… весьма…
– Тьфу, какие глупости все эти ленточки-платьица-перчатки! Как только женщины могут всерьёз придавать этому значение!
– Могут, Серж, – заверила княгиня. – И вы даже не представляете, какое. Сами подумайте, что почувствует мадемуазель Зосимова, когда за её спиной начнут судачить – и не очень-то тихо, поверьте! – насчёт её стоптанных туфель, вышедших из моды плерезов и веера, которого у неё, кстати, в помине нет! А потом очень вежливо заведут с ней светскую беседу – и бедная Варя ничего не сможет ответить: она же не воспитывалась в институте для благородных девиц, где только светским разговорам хорошо и учат! С первых же слов гости поинтересуются её семьёй, и Варя вынуждена будет ответить, что она дочь бывшего нашего крепостного! Вы понимаете, как ей будет тяжело? Стоит ли это двух протанцованных с вами мазурок и тура вальса? Господин Зосимов очень умный и гордый человек. Его можно понять.
– Как всё это пошло и, воля ваша, глупо! – сквозь зубы процедил Сергей, вскакивая и меря комнату широкими шагами. Старые доски пола жалобно скрипели. – Целый вечер я буду вынужден занимать этих бестолковых куриц Грановских, этих уродливых барышень Алфериных, делать им комплименты и вертеться с ними в танцах! А единственный человек, которого я действительно хочу видеть…
– Вы с этим человеком и так видитесь каждый день! И не делайте такого лица, лично я в этом ничего дурного не нахожу. Но, боюсь, приглашать Варю на бал по меньшей мере опрометчиво. Она получит от этого больше горя, чем удовольствия. Вы не согласны со мной?
Сергей не ответил. Некоторое время он стоял у окна, глядя в темноту. Затем вполголоса, не глядя на Веру, сказал:
– Я, пожалуй, пойду спать. Спокойной ночи, маменька.
– Спите спокойно, Серёжа. – Вера перекрестила подошедшего к ней юношу, ласково погладила его по голове.
Сергей поцеловал её руку и пошёл было к двери, но с полпути вернулся.
– Маменька, но как же нам в таком случае поступить с… господином Закатовым? Ведь несмотря на его слова, я всё равно должен ему деньги, мой долг перешёл к нему и… Разве вы не выплатите ему эти пятьдесят тысяч?
– Насколько я знаю Никиту Владимировича, – медленно проговорила княгиня, – такой мой шаг его страшно оскорбит. Он действительно достойный человек. Кстати, если бы не это мерзкое неподписанное письмо, я бы так ничего и не узнала бы, верно? Вы ведь не собирались нарушать данного слова? Вот и будем считать, что я ничего не знаю. И как жаль, что… Впрочем, ничего, пустое. Ступайте спать.
Сергей ушёл. Вера осталась одна. Она закрыла окно, из которого с каждой минутой всё сильнее тянуло сыростью, и бьющиеся на сквозняке огоньки свечей сразу выровнялись. Некоторое время молодая женщина складывала книги и бумаги на столе, чрезмерно аккуратно разбирая их на ровные стопки. Затем с досадой смешала всё, села за стол и стиснула виски руками. Несколько слезинок упали на бумажные листы, расплылись по ним. Вера машинально провела по кляксам ладонью; затем придвинула к себе стопку бумаги, чернильницу и принялась писать:
«Графу Закатову. Москва, Столешников переулок, дом Иверзневых. Дорогой Никита Владимирович! Первыми же словами хочу поблагодарить вас…» – поползли из-под пера изящные тонкие строчки. Уже половина большого листа была покрыта ими, когда Вера вдруг, словно вспомнив о чём-то, медленно опустила перо. Вздохнула. И, решительно вытерев ладонью мокрые глаза, скомкала начатое письмо. Подумав, поднесла его к свече. Дождалась, пока на серебряном подносе вырастет вторая горка серого пепла, встала и подошла к окну. Прислонилась лбом к холодному стеклу и закрыла глаза.
– Господи, как глупо всё вышло… как ненужно… – прошептала она. Затем, взмахнув рукой, словно отбрасывая что-то, быстро отошла от окна, задула свечи и покинула тёмный кабинет.
Над лесом поднималась горбатая сизая туча. Близился вечер. Осенний полуголый осинник натужно шумел. Поля по обе стороны дороги уныло топорщились жнивьём. Поодаль виднелись серые крыши деревни. Широкая дорога, выныривавшая из порыжелого сосняка, пересекала редкую осиновую поросль и тянулась далее через поля.
Из леса выкатился тарантас, запряжённый гнедой лошадкой. На передке сидел нахохленный дед с кнутом, в глубине экипажа дремал закутанный в дорожное пальто седок. Кучер, нахлёстывая лошадь, с тревогой поглядывал на тучу, которая уже закрыла собой полнеба. Поля потемнели. Порыв холодного ветра встопорщил редкие былинки, закрутил над дорогой сухие листья, прилетевшие из леса. Дедок озабоченно взмахнул кнутом, лошадка устало фыркнула… и вдруг встала как вкопанная. Прямо перед ней из вечернего полумрака сотворилась огромная взъерошенная фигура.
– Што ты… Што ты, мил-человек?.. – испуганно закудахтал кучер, взмахивая рукавами. – Поди себе с богом… Вишь, лошадь всполошил!
Но с обочины качнулась к дрожкам ещё одна тень, и дедок, съёжившись, обречённо смолк.
– Да что там у тебя, Тришка? – послышался недовольный сиплый голос из тарантаса. Наружу выглянула мрачная усатая физиономия со встрёпанными бакенбардами и вспухшими ото сна глазами.
– Барин, милый, не полошись, – послышался негромкий, слегка насмешливый голос. – Мы – люди не сильно лихие. Нам от твоей милости много не надо. Давай что есть – и целым уйдёшь.
– Да как ты смеешь!.. – возмущённо начал было тот – и умолк. Разбойник без лишних слов сгрёб его за ворот пальто, и «барин» сразу почувствовал страшную, медвежью силу этой руки.
– Чуешь? – почти весело спросил его разбойник. – Смекай, что будет, ежели всерьёз притисну. Для ча тебе раскатышком-то делаться? Отдавай что есть по-хорошему, за всё благодарны будем!
– Модест Венедиктович, не сердите вы татей, за ради Христа!.. – застонал дедок. – Охти ж, господи, напасть какая… Робята, ведь нету ничего дать-то вам! Какие такие у нас гроши? Из уезда едем, из суда, всё тамошнему крапивному семени ушло…
– Да ну? – Разбойник обшарил тарантас, нахально попросив при этом: – Приподымитесь, барин, несподручно из-под вас тащить… – и извлёк небольшую кожаную шкатулку, забитую бумагами и ассигнациями.
– Не трогай хотя бы документы, свинья! – зарычал барин. – Тебе они всё равно не нужны, это бумаги по имению, закладные…
– Воля твоя. А вот деньги, не обессудь, приберу, – разбойник аккуратно засунул за пазуху пачку ассигнаций. – Они нам поболе твоего надобны. Ого! Антипка! Братка! Да ты поглянь! Я столько и у тятьки после базарного дня не видал!
Тот, кто держал лошадь под уздцы – широкоплечий, кряжистый, со спутанной копной грязных волос, – молча покачал головой – казалось, неодобрительно.
– Чего гривой трясёшь? – усмехнулся его брат. Садящееся солнце неожиданно выстрелило из-за туч низким пронзительным лучом, осветив молодое, загорелое дочерна лицо с чётко выбитыми скулами и зеленоватыми недобрыми глазами. Парень улыбался, но, глядя на эту улыбку, ограбленный господин невольно почувствовал холод на спине.
– Ефимка, ни к чему это, – негромко сказал второй. – Нам столько не надобно. Возьми одну деньгу – и ладно будет. Бога не серди.
Ефим только ухмыльнулся. Короткий шрам на его скуле побелел.
– Не сердить, говоришь?.. Ну-ну… Ладно, барин, поезжай. Спасибо, что с голоду подохнуть не дал.
– Послушай, каналья, имей совесть! – в сердцах выругался господин. – Куда тебе такие деньги, здесь же четыре тысячи! Ты хоть в руках столько держал когда-нибудь?
– Вот теперь и сподобился, подержу! – заржал Ефим, откровенно забавляясь. – Всё, барин, прощевай, не поминай лихом! Трогай, дед! Да живей, туча близко! Намокай тут из-за вас…
Полумёртвый от страха старик взмахнул кнутом над задремавшей было гнедушкой. Та, коротко всхрапнув, дёрнула с места тарантас. Ефим издевательски взмахнул рукой ему вслед, сощурился, вглядываясь во что-то… и вдруг заорал:
– Антип, падай! Падай, оглобля стоеро…
Но из тарантаса, заглушив крик, грянул выстрел. Антип, сдавленно выругавшись, схватился за плечо. Брат бросился к нему:
– Антипка, чего?.. Сильно?! Тьфу, холера на тя, кричал же!.. Ну, барин, пожди! – Он метнулся было вслед за тарантасом, но брат, перестав зажимать рану, здоровой рукой так огрел его по спине, что Ефим с проклятием растянулся на дороге. Тарантас к тому времени уже успел скатиться в ложбинку между холмами и вскоре скрылся в полумгле.
– Уймись ты, леший… – сквозь зубы выругался Антип, глядя на то, как сквозь его пальцы узкими вишнёвыми лентами бежит кровь. – Говорено ж тебе было… У-у, нечисть, чисто огнём жгёт… Живо, братка, уходить надо! Ну как барин с подмогой вернётся? Деньги-то немалые…
– Покажь дырку-то, – мрачно попросил Ефим, поднявшись на ноги. – Экий прыткий барин оказался… Кто ж ведал, что у него пистоль припрятанный? Да стой, не брыкай… сейчас тряпку оторву, замотаю.
Он дёрнул рукав своей старой истрёпанной рубахи. С треском оторвав его, неумело принялся заматывать рану брата. Но сквозь старый холст тут же просочились кровяные полосы.
– Идём до лесу, – обеспокоенно сказал Ефим. – Там Устя посмотрит, она, верно, знает, что делать. Тьфу, чтоб ему кишкой удавиться, барину этому!..
– Пошто ты меня не послушал, дурак? – морщась от боли, спросил Антип. – Говорил же: не хватай деньгу, не бери греха на душу! Вот и огребли…
– О душе моей болеешь? – процедил Ефим, поглядывая на гаснущую в свинцовых полосах искру багрового солнца. – Так поздно уж, братка…
Голос его казался спокойным, но Антип сразу умолк. В молчании братья дошли до кромки леса – уже совсем тёмного, глухо шумящего ветвями, – нырнули под разлапистые ветви старых елей на опушке. Вкрадчиво зашуршали первые капли дождя. Прямо из-под ног у Антипа метнулся прыгучей тенью заяц. Антип невольно дёрнулся в сторону, зацепил раненым плечом низко нависший сук, выругался. Через несколько шагов, догнав Ефима, спросил:
– Для ча ты так сделал-то? Уговаривались ведь: харчей только попросить, а коли уж не дадут, тогда и… Что мы – кромешники какие? Лихим делом на большаке промышляем? Что вот ты теперь с этими деньжищами делать будешь? На что они нам? За них, поди, целую деревню купить можно, ещё и с хутором… Четыре тыщи, шутка ли! Да и барин шум подымет, это уж как пить дать. Тьфу, опять ты, леший, лесу наломал… Не доберёмся мы эдак до Москвы-то! И Танька идти не может, и я теперь подбитый…
Ефим молчал, ожесточённо отбрасывая со своего пути мокрые ветви и ругаясь сквозь зубы, когда упругий лапник всё же хлестал его по лицу. Они шли сквозь лес ещё несколько минут под усиливавшимся дождём. Наконец выбрались на круглую поляну, заросшую иван-чаем и низкой муравой. Среди травы высился шалаш, рядом тлел костёр. Поляна казалась безлюдной, но Ефим негромко присвистнул, и из-за шалаша появилась высокая девушка в изорванном сарафане.
– Слава Богородице – явились… – с облегчением вздохнула она. – Пошто долго-то так, Антип Прокопьич? Мне поблазнилось, что и палил кто-то на дороге! Господи… Антип… да что ты там зажимаешь-то?!
– Да ништо… Шкуру малость царапнуло, – успокаивающе прогудел Антип. – Поглянь, Устя, – может, травку какую надо?
– Так это что ж… – ахнула Устя. – Это в тебя, что ль, выпалили?! У-у, черти, говорила ж я вам! Говорила, что добра не будет! Говорила, что на худое дело тоже талан нужен! А вы что?!
– Жрать-то что будем, дура? – мрачно, сквозь зубы спросил Ефим, который стоял возле углей и с отвращением смотрел на обугленные прутики с нанизанными на них подосиновиками. – Снова грибы эти? С сеном пополам? Нутро всё с них крутит, издохнуть впору…
Устинья ничего не сказала ему. Лишь коротко, сумрачно сверкнула глазами из-под широких, как у мужчины, бровей. Ефим, сделав вид, что не заметил этого взгляда, присел возле углей, взял один прутик и, обжигаясь, начал стаскивать с него почернелые комочки испечённых грибов. Антип коротко, нехотя рассказал о случившемся. Лицо Устиньи потемнело.
– Худо, – коротко сказала она, откидывая за спину небрежно заплетённую косу. – Совсем худо, Антип. Кой вас чёрт попутал?
Антип, украдкой покосившись на неподвижную фигуру брата, пожал плечами – и тут же сморщился от боли.
– Эка вот… Кажись, и не сильно царапнуло – а жгёт, спасу нет!
– Свят господи, да где же не сильно?! – ахнула Устинья, взглянув на набрякшую от крови повязку, и, торопливо поснимав с углей грибные палочки, бросила на тлеющие головешки охапку хвороста. Отсыревшие ветки занялись не скоро, долго шипели, грозясь погаснуть, и Устинья шёпотом приговаривала:
– Ну, живей, миленькие, живей!
Наконец огонь разгорелся, искры взметнулись к нависшим еловым лапам, и Устя ловко и бережно принялась разматывать окровавленную тряпку на плече Антипа. Тот казался спокойным и лишь изредка морщился. Ефим через огонь костра напряжённо следил за ним.
– Ну что там у меня, Устя? – с нарочитым безразличием спросил Антип. – Живой буду?
– Пуля-то, кажись, не вышла, – сквозь зубы ответила девушка. – Вытащить бы. Ефимка, ножа дай.
Ефим, к которому Устинья обратилась впервые, вытащил из-за голенища и молча протянул узкий нож. Устя не глядя взяла его и принялась старательно прокаливать на огне.
– Что ж, терпи, Антип Прокопьич, – чуть погодя сказала она. – Коли вовсе худо будет – кричи, полегчает. Я споренько постараюсь.
– Ништо, – проворчал Антип, основательно усаживаясь у корней старой ели и прислоняясь спиной к её влажному потрескавшемуся стволу. – Не заяц небось, верещать не стану. Ещё Танька напугается… Заснула она у тя, что ль?
– Угу… – Устинья перевела дух, ещё раз попробовала пальцем лезвие ножа – остыло ли? – и решительно поднесла его к ране.
Антип сдержал слово: у него не вырвалось ни стона. Лишь на лбу сизыми жгутами вздулись жилы и выступила бисером испарина на висках. Нахмуренная Устинья, нарочно стараясь не смотреть в лицо парня, быстро орудовала кончиком лезвия. Получалось плохо: видно было, что дело это для лекарки непривычное. Когда в сырую траву возле костра шлёпнулся свинцовый шарик, Устинья с облегчением бросила нож.
– Фу… Всё, кажись. Ну, как ты, Антип Прокопьич? Уж прости, не особо ладно вышло. Не умею я… Пожди, сейчас заново завяжу, травки положу. А утром, как рассвенёт, другой поищу, поздоровше. Не боись, быстро заживёт.
Антип ничего не говорил, тяжело дышал, украдкой вытирая со лба пот. Но когда из шалаша вдруг донёсся слабый стон и голос: «Устя, мужики пришли, што ль?» – он сразу выпрямился и нарочито бодро отозвался:
– Пришли мы, Танька! Ты спи, спи…
Но из шалаша уже выглянула растрёпанная рыжая голова, и худенькая девушка выбралась к костру на четвереньках, волоча за собой обмотанную грязными тряпками ногу.
– Для ча вылезла, кулёма? – сердито спросила её Устинья. – Коль уж заснула – так и спала бы, во сне всё само на человеке лечится. Ну, раз выползла, садись: травку поменяю тебе. Тьфу, навязались вы на душу мне… Эдак мы до второго пришествия в Москву не придём!
– Придём, Устька, – как можно уверенней сказал Антип. – Коль господь сподобит, так и…






