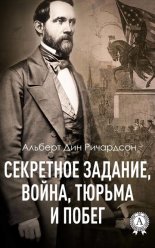Портрет мальчика на грозовом фоне Осиновский Александр

Несколько предварительных зарисовок
Где-то в самом начале пятидесятых годов прошлого века, когда я был уже вполне сформировавшимся юношей, голову мою кружили фантазии на тему великих строек коммунизма. Тогда это было не то что модно, а составляло суть нашей жизни. Мы ведь свято верили, что в ближайшие годы все трудности останутся позади, и мы вступим в наше светлое будущее.
На моем столе всегда лежали журналы «Знание – сила» и «Техника – молодежи». Какие замечательные перспективы рисовали они мне! Не мудрено, что я и сам мысленно вносил свою лепту в эти грандиозные образы будущего. Окна нашего деревенского дома выходили на юг, где на горизонте за железнодорожным мостом начиналась Украина. Воды нашей красавицы Десны где-то там, уже далеко за горизонтом, возле Киева вливались в украинский Днепр. Но я знал, что могучий Днепр – река не только украинская. Силу свою он набирал на русских и белорусских землях. А Белоруссия хотя и не просматривалась из моих окон, но и до нее было не так уж далеко. Моя родная российская Брянщина как бы согревалась, находясь в объятиях двух братских республик.
Я всегда чувствовал, наблюдая нашу жизнь, эту не просто территориальную, но кровную близость к людям, живущим за горизонтом. В моей деревне крестьяне говорили на диалекте, близком к белорусской речи. Украинских интонаций в нашем местном языке, правда, не чувствовалось, но зато у нас много пелось украинских песен. Не говоря уже о том, что украинский язык был нам так же хорошо понятен, как и белорусский. Все это наводило на мысли об общности и наших судеб в прошлом, настоящем и будущем.
И вот в моем воображении вырастало на стыке России, Белоруссии и Украины грандиозное сооружение по образу и подобию Московского университета на Ленинских горах, в котором мне тогда страстно хотелось учиться. Это свое воображаемое строение я называл Дворцом Дружбы трех братских народов.
Однако в скобках надо сказать, что учиться на Ленинских горах мне не довелось. Я окончил Киевский Политехнический институт и был направлен на работу в Минск, в котором и живу по сей день.
Беларусь стала моей второй родиной. Здесь выросли мои дети. Подрастают внучки, для которых, собственно, я и задумал написать воспоминания о моем военном детстве. Да и не только для них, а для всех молодых людей, к сожалению, мало что знающих теперь о Великой Отечественной войне. Для них она – только страница в учебнике истории. Пусть же знают об этой войне чуть-чуть больше, чем из учебника!
…А между тем вокруг себя я видел пока одну только вопиющую бедность. Беден был наш дом, бедны были крестьянские избы под ветхими соломенными крышами. Наша деревня Сагутьево мало чем отличалась от тех нищих деревенек, которые мне приходилось видеть тогда на репродукциях с картин русских художников прошлых веков. Но это не смущало меня. Скоро деревня наша должна преобразиться! Ведь такого врага победили! Так неужели же не преодолеем эту ненавистную нищету?
Тогда у нас была популярна немудреная лирическая песня: «На деревне расставание поют, провожают гармониста в институт…». Девушки сокрушаются, что гармонист к ним не вернется. А он им резонно замечает: «Инженеру много дела есть и тут!». Это его патриотическое заявление соответствовало духу времени. Мы все, юноши тех лет, мечтали о больших инженерных свершениях на благо нашей разоренной Родины.
Перед войной колхоз имени Карла Маркса, организованный в Сагутьеве, по словам моих родителей, уверенно становился на ноги. Колхозники стали прилично получать на трудодни. В деревне построили большой деревянный клуб, здание средней школы, просторный сельмаг. На повестке дня стояла замена соломенных крыш крестьянских домов на черепичные. Моему отцу, как заслуженному сагутьевскому учителю, был обещан в собственность добротный новый дом. Разумеется, у нас, как и у крестьян, тоже был свой огород, своя корова, свои куры. Мама неизменно откармливала к праздникам кабанчика. Так что жили мы по-сельски вполне прилично, если не вспоминать голодного года перед годом моего рождения.
Ну а какова была жизнь в Сагутьеве еще раньше, судить не берусь, так как имею о том весьма смутное представление, основанное лишь на немногословных и нечастых высказываниях моих близких. Гораздо чаще и подробнее приходилось мне слышать о дореволюционной жизни моих родителей в их родном городе Трубчевске, нашем районном центре. А город он хотя и небольшой, но весьма древний – больше тысячи лет ему. Его древний владелец князь Всеволод Святославович приходился родным братом знаменитому князю Игорю. В «Слове о полку Игореве» мы находим замечательные слова восхищения ратными подвигами Ярого Тура Всеволода.
В те давние времена в Трубчевске жил народ преимущественно служилый, так как слишком часто приходилось защищать окраинные земли Руси от непрошеных гостей. Воевали трубчане с литовцами, поляками, крымскими татарами, шведами, французами, немцами. Да со многими – по несколько раз! От того, может быть, и не вырос Трубчевск, не расстроился за тысячелетие своего существования, не разбогател, остался неприметным, как старый солдат за «противувражеской засекой».
Так не от славных ли наших предков пошла врожденная непокорность трубчан любой форме насилия? Да, бедны! Но горды и независимы потомки Ярого Тура Всеволода. И не могут сносить, чтобы их земли топтали сапоги вражеских солдат…
Давно замечено, что чем дальше уходят годы детства, тем ярче видятся его отдельные картины. Они вспыхивают в памяти неожиданно, вызывая сильный, но сладостный толчок в области сердца. Кажется, что ты на одно лишь мгновение, длящееся не более секунды, вдруг погружаешься в атмосферу какого – либо одного дня своего далекого прошлого и тут же возвращаешься обратно в нынешний день, будто вытолкнутый плотной средой прожитых лет. Но мозг уже получил пищу для размышлений и начинает интенсивно работать, стараясь восстановить цепочку последующих картин и событий. Разумеется, чем значительнее были события, тем легче их вспоминать. Однако в жизни ребенка все значительно, все важно, так как каждая мелочь производит сильное впечатление, глубоко западает в душу, формируя сознание будущего взрослого человека. А если впечатления детства озарялись военными пожарищами, то на склоне жизни те давние картины просматриваются в памяти так, будто происходили только вчера.
Много ли может добавить цепочка моих личных детских переживаний в годы Великой Отечественной войны к последовательности исторических событий того траги-оптимистического времени? Совсем немного… Но думается мне, что и она поможет кому-то глубже прочувствовать, как формировалась в советских людях великая ненависть к фашизму и абсолютная Вера в нашу Победу.
Картина Первая
Последний день Помпеи
Самое начало войны не четко отпечаталось в моей памяти. Помню только какое-то небывалое скопление народа на деревенской площади перед сельским советом, и голос из «тарелки», вещавший что-то очень серьезное, так как люди слушали в глубоком и угрюмом молчании. А несколько позже в разговоре матери с отцом я услышал: «Я тебе кричу: Саш, вставай! – война! А ты мне спросонья: да что ты говоришь такое! Какая война? У нас же Пакт о ненападении!».
Меня будто резануло по ушам этим непонятным и неприятным словосочетанием: Пакт о ненападении! Резануло и на всю жизнь осталось в сознании как нечто неуклюжее, корявое, ненадежное, хотя и отрицающее угрозу, но все равно угрожающее.
Еще помню отступление через Сагутьево нашей армии. Солдаты шли усталые, запыленные, неулыбчивые. Женщины выносили им хлеб. молоко, яйца; причитали, разговаривая с ними. Но солдаты сами подбадривали их: «Ничего! Мы скоро вернемся. Враг будет разбит, победа будет за нами!». Я прислушивался к разговорам взрослых, но пока еще никак не осознавал всю серьезность нашего положения. Для меня война началась с приходом в нашу деревню немцев.
Вдруг среди ночи раздались какие-то громкие, гулко хлопающие звуки, частый и резкий треск, что-то там за окнами то и дело вспыхивало. В доме происходила суматоха. Я залез на стол у окна и стал напяливать ботинки с облупленными носами (почему-то четко запомнились именно облупленные носы ботинок). А шнурки на них никак не хотели завязываться, так как я каждую секунду выглядывал в окно… Потом мы все с узлами выбежали на улицу, и я увидел, что деревня с одной стороны охвачена пламенем. А мы вместе с другими деревенскими жителями бежали в противоположную от пожара сторону. Мы бежали и постоянно оглядывались на пожарстранные бамкающие звуки то и дело раздавались где-то за полыхавшей деревней. И тут в моей памяти ярко высветилась картина «Последний день Помпеи», репродукция которой осталась висеть на стене у нас в доме. В ней меня особенно притягивало к себе личико красивого совсем еще маленького мальчика, который не понимал, почему его мама лежит на улице, раскинув руки, и не защищает сыночка от человеческих ног, камней и страшных молний. Мальчик будто кричал, звал на помощь, а я ему – увы! – ничем не мог помочь…
А мне сейчас почему-то совсем не было страшно. Но я был потрясен похожестью того, что видел на картине, с тем, что происходило вокруг меня на самом деле. Правда здесь вместо красивых дворцов стояли деревенские избы, а на улице не лежали ни убитые, ни раненые. Но как и на картине, люди шли, сгибаясь под тяжестью домашнего скарба и постоянно оглядываясь на пожарище. То тут то там жутко мычали коровы, ржали лошади, отчаянно кудахтали куры.
Мы поселились в школьном доме на высоком берегу Десны. За рекой простирался широкий луг, за лугом темнел Брянский лес. Перед окнами в большом школьном саду зрели яблоки и груши.
К утру пожар в деревне затих. Не было слышно ни ружейной стрельбы, ни разрывов снарядов. О происшедшем напоминал только запах гари, проникавший в дом с улицы. Мне не думалось о войне, о каких-то новых опасностях. Война еще не успела войти в мое детское сознание как нечто долгое и ужасное. Я еще предполагал, что скоро мы вернемся в наш прежний дом и заживем в нем по-прежнему. И я занялся своими детскими делами. Но вдруг мои родители заговорили приглушенными голосами: «Немцы идут!». Я осторожно, подражая папе с мамой, выглянул под занавеску в окно, выходившее на школьный двор, и увидел незнакомо одетых людей, по-хозяйски уверенно поднимавшихся на крыльцо нашей школы. На них были длинные серо-зеленые шинели с белыми блестящими украшениями на плечах. На головах – диковинные высокие фуражки с такими же белыми украшениями. То были погоны и кокарды, как я позже усвоил. Через некоторое время немцы вышли из школы и, не заходя к нам, отправились в глубь деревни.
Вид этих пришельцев не вызвал у меня тогда никаких чувств, кроме обыкновенного детского любопытства. Понятие «враг» оставалось для меня пока достаточно условным. Я не пылал к немцам ненавистью. И даже не вспоминал свои любимые детские стишки: «Вырасту, выучусь, в полк попаду, сяду за руль – броневик поведу…».
Вероятно, непрошенные гости в тот день не задержались в нашей деревне. война прошла через Сагутьево, сожгла в ней немало построек и покатилась дальше на восток, к Трубчевску. Теперь она громыхала где-то там, а у нас стало необычайно тихо, будто люди боялись даже пошевелиться, сидя в своих домах. Но под вечер отец все-таки решил наведаться в центр деревни к нашему прежнему жилищу и взял меня с собой.
Еще издали мы увидели яркую полоску заката в том месте, где ее никак не могло быть видно из-за плотного ряда деревенских построек. Мы подошли поближе и остановились, пораженные: нашей улицы больше не существовало… Исчезла наша улица. Все дома на ней сгорели, включая и наш дом… Сгорели так же и сельсовет, и сельмаг. Но каким-то чудом уцелел большой деревянный клуб!
Вид огромного черного пепелища с печально торчащими к небу «указательными пальцами» – закопченными трубами печей, поверг меня в гнетущее недоумение. Но и на этот раз во мне пока не возникло ощущение страха. Просто всё как-то диковинно было для восприятия семилетнего мальчика. Фантасмагория! – сказал бы взрослый человек, увидев такое впервые.
Отец, шумно вздыхая, поковырялся немного под обгоревшими досками нашего дома и извлек из-под них медный самовар. Он даже почти не закоптился. Мы отнесли его в наш «новый» дом. Но надо было спасать все остальное, что еще могло сохраниться под толстым слоем золы и пепла. И отец снова отправился на пепелище. На этот раз с мамой и моими старшими сестрой и братом. А я остался дома один, печалясь, что сгорели мои книжки и игрушки. Впрочем, надо сказать, что сгорело не все наше имущество. Часть его была перенесена родителями в школьный дом заблаговременно. То есть в соответствии с выражением «на всякий пожарный случай». А выражаясь языком военным, мы «отступили на заранее подготовленные позиции».
На следующий день, а может быть, и позже в деревне снова появились немцы. Вели они себя достаточно миролюбиво, ходили по домам, выпрашивая молоко, яйца, кур. Иногда сами ловили домашнюю птицу, но не всю, а выборочно. Хозяйки в ответ на их действия, не стесняясь, громко «голосили», то есть причитали вкрик, а немцы только добродушно гоготали, похлопывая их по спинам. Я все это видел, и у меня не возникало чувства протеста. Просто росло удивление, замешанное на любопытстве.
Но все постепенно становилось привычным и обычным по-новому, по-военному, не так, как в мирное время: кто-то ушел в партизаны, кого-то забрали немцы, кто-то из соседей стал полицаем. Где-то иногда постреливают. Где-то, кого-то, что-то… Но все это далеко от глаз, а значит, и не страшно. Среди взрослых бродят слухи, пересуды, царит атмосфера возбужденно-приподнятой настороженности, грозящей чем-то нехорошим впереди, но пока будто бы сносной. Немцы не лютуют. В деревне чаще чувствуют себя хозяевами не они, а партизаны. И вообще между теми и другими пока будто игра в прятки идет: партизаны идут – немцы уходят, немцы идут – партизаны уходят. Без стрельбы, без каких-либо явно выраженных репрессий с обеих сторон по отношению к мирным жителям. Так, по крайней мере, мне, пацану, виделось. Но это только пока…
Мрачное оцепенение вызвал в деревне расстрел председателя колхоза. Он будто бы был человеком добрым, заботился об односельчанах даже в условиях оккупации. Но партизаны почему-то подозревали, что он работает и на немцев. Этого оказалось достаточно для того, чтобы без лишних разбирательств покончить с ним. Помню, как бабы заливались слезами, сочувствуя семье Гекана. Гекан – было деревенское прозвище председателя, а настоящего его имени я и не знал. Расстрелял его собственноручно сам Василий Иванович Кошелев, командир партизанского отряда имени Чапаева. Это произошло недалеко от школы на краю берегового оврага. Я не слышал выстрелов, но уже через полчаса беспечные пацаны кричали на улице: «Хлопцы, побегли Гекана глядеть!».
И хлопцы побежали. Побежал с ними и я. То, что мы там увидели, навечно впаялось в структуру моего мозга. И он, мой мозг, всю мою жизнь периодически высвечивает перед глазами жесточайшую картину того далекого испытания моей детской психики.
Светило мягкое солнышко. В природе было тихо и благостно. А перед нами на крутом склоне оврага головой вниз лежал наш председатель. Только где же сама голова? И мы сбежали в овраг, чтобы ее увидеть. И увидели… Мы увидели голову Гекана, но только… изнутри… Голова была похожа на опрокинутую чернильницу, из которой только что выплеснулись красные чернила. Пока я смотрел внутрь этой страшной чернильницы, густая темная капля крови собралась по ее верхнему краю и упала в траву. Две дворняжки слизывали с травы кусочки мозга… А я смотрел и грыз яблоко. Меня не вытошнило, мне не стало дурно. Я, видно, был еще слишком мал для такой реакции на столь чудовищное впечатление. Но, может быть, именно с того дня я стал громко и часто вскрикивать во сне, пугая по ночам своих близких.
Вскоре смертельная опасность коснулась и непосредственно нашей семьи. Она вошла в наш дом в облике все того же командира Кошелева. Вдруг как-то прозрачным осенним утром в сенях раздались громкие голоса и топот ног. Резко распахнулась дверь, и на пороге появился ОН в сопровождении двух телохранителей. Был ли он лицом похож на своего легендарного тезку, сказать не могу. Возможно, что и был. Но вот по образу мыслей, решительности и дерзости проводимых им операций – был похож на Чапаева бесспорно. Он сразу стал наводить ужас на деревенские фашистские и полицейские гарнизоны. И уже тогда о нем ходили легенды в уважительно-настораживающих выражениях. Ходила поговорка: «Я – Чапай! Меня не чапай!». То есть не трогай. Родилась ли эта поговорка еще при Чапаеве, или относилась только к нашему местному герою, не знаю. Но помню, что Кошелев гордился такого рода разговорами о нем.
Отец неуверенно шагнул навстречу вошедшим гостям и замер посреди комнаты.
– Ты что ж это, Кузьмич, делаешь? – не здороваясь, загремел с порога Василий Иванович. – Детей наших калечить надумал? Не позволю!
– Видите ли, товарищ Кошелев, сентябрь уже на исходе. Детям учиться надо.
– Какая учеба! Война идет! Оккупация! Чему ты можешь научить детей при фрицах? Или уже с ними снюхался? А?
– Василий Иванович, поймите, я же не…
– Ладно, все! Некогда мне тут с тобой рассусоливать! Чтоб сегодня же школу закрыл! Ты меня понял, старый? Иначе…
Что могло быть «Иначе» (с мощным нажимом «И») мы все уже хорошо себе представляли. Хлопнув дверью, Василий Иванович исчез. А отец мой все стоял и стоял посреди комнаты… И колени его мелко-мелко дрожали. А перед моими глазами возникла падающая капля крови из головы председателя Гекана. Вся наша семья наблюдала эту драматичную сцену, и никто потом не осудил отца за дрожание коленей, за бледность в лице и слабость в голосе. Никто не осудил и Кошелева. Он был наш герой. Борец за правое дело. Я же, кажется, впервые подумал тогда, что война – штука действительно нехорошая.
Отец, конечно же, школу немедленно закрыл. А новые власти открытия ее, похоже, и не требовали. К нашему счастью. Смертельно было бы даже такому мирному человеку, как мой отец, оказаться между двух огней. В то время ему, уважаемому сельскому интеллигенту, преподавателю русского языка и литературы, не директору школы даже, а добровольно подменившему ушедшего на фронт директора, шел уже пятьдесят шестой год. Отец был слаб здоровьем, невоеннообязанный, белобилетник, как тогда говорили. Но это все, конечно же, не помешало бы ни той, ни другой стороне без колебаний пустить его в расход.
Пустить в расход… – какое протокольно-беспощадное и холодное словосочетание! Но его значение я усвоил еще тогда. Только до меня никак не доходил его смысл. Человека? В расход? Пустить? Как это всё? Да вот так! – подсказывал уже появившийся опыт. – Раз! И все, что было в голове у человека, вмиг разбрызгивается по склону оврага… И кровь капля за каплей высачивается в траву.
Хлопнув у нас дверью, Кошелев тогда надолго ушел из деревни, так как в нее вскоре вошли новые подразделения немцев. Вместо прежних довольно скромных фрицев появились рослые, крепкие, холеные и очень наглые экземпляры завоевателей. Эти уж без всяких церемоний брали у крестьян все, что хотели. Ходили по деревне, никого не замечая, и никого ни в чем не стесняясь, будто нас вообще и не было. На глазах у женщин могли справлять и малую и большую нужду, ходить голыми по двору. Они все время как будто демонстрировали свое превосходство над нами. Но мы не оставались в долгу и платили им той же монетой. Ни разу не видел я на лицах наших людей какого-либо подобострастия, покорности судьбе. «Не на тех напали!» – думал каждый из нас. И немцы это, видно, прекрасно понимали. От того и пыжились в своем высокомерии.
Они громко горланили на своем неприятно лающем языке, перекликаясь с одного крестьянского двора на другой. Крестьяне между собой метко передразнивали непрошенных гостей: «Пришли – гыр-гыр, гыр-гыр – все облазили, обнюхали, что захотели – забрали и пошли!». Глядя на этих мордастых и горластых фрицев, мне все больше начинало казаться, что фашисты и не люди вовсе, а какие-то двуногие овчарки из страшной сказки. Но как им удалось ворваться из нее в нашу жизнь? Пришли и вмиг разрушили все мои прекрасные детские мечты. Почему из-за них я не должен ходить в школу? В мой долгожданный первый класс. Да-да, из-за них! У меня не было обиды на Кошелева. я понимал, что его действия – прямое следствие прихода к нам немцев. Не пришли бы они – не пришел бы к нам в дом и Кошелев со своим суровым приказом.
Всего с недельку успел я походить в школу. Правда, к тому времени я уже умел и читать и писать, но так хотелось сидеть со своими сверстниками в классе и слушать свою первую учительницу Анну Лукиничну, нашу соседку по квартире в школьном доме!
Во мне росло, набирало силу острое чувство неприязни и к немцам, и ко всему, что с ними связано. Но это еще не была ненависть. Безмятежное детство не знает такого крепкого чувства. Однако все, что я видел теперь вокруг себя, что переживал, уже подготавливало меня к той школе ненависти, которую предстояло пройти мне за годы войны.
Картина Вторая
Ленин на рыбалке
В постсоветское время стало модным подвергать сомнению все то, что еще совсем недавно для всех нас было свято. Опыт в разрушении святынь у нас, как известно, накоплен немалый. Оголтело разрушали, к примеру, христианские святыни и с большим энтузиазмом занялись воздвижением коммунистических. Теперь вот разрушили и коммунистические, реанимируя христианские… Между тем еще в «Божественной комедии» Данте есть замечательные слова:
- чем больше говорящих «наше»,
- Тем большей долей каждый наделен,
- И тем любовь горит светлей и краше.
Чистилище, Песнь 15
Там речь идет о жизни в «верхних сферах», то есть в Раю. Но если забыть, что эти слова написаны в начале четырнадцатого века, то, согласитесь, воспринимаются они как строчки из Коммунистического Манифеста. И не согласитесь ли вы после этого с тем, что Коммунизм и Рай – два полюса одного глобального предмета: извечной мечты человечества о Свободе, Равенстве, Братстве? Что, скажете громкие слова? А что поделаешь! Громкие слова иногда нужны, чтобы разбудить спящих.
Часто приходится слышать: потеря веры (имеется в виду религия) приводит к нравственному вырождению и падению нравов. Тоталитарный коммунистический режим выжал из человека всю его душу… Спрашивается, кто же тогда страдал, погибал и побеждал в минувшей страшной войне? Нравственно падший и убогий человек? Полное ничтожество? Забитый и запуганный фанатик тоталитарного режима? Или все-таки гордый Человек, окрыленный святой верой в коммунистический рай!? И оказался ли, скажем, мой, внутренний мир беднее оттого, что я с детства воспитывался на вере не в какое-либо верховное мистическое существо, а исключительно только в своего ближнего, реального человека?
Моей религией с раннего возраста стала для меня великая русская литература. К ней меня приобщал, естественно, мой отец, так как сам был в нее страстно влюблен. Преподавал он ее в школе с большим знанием дела и очень увлеченно. Ученики на его уроках всегда слушали, затаив дыхание. А когда он в лицах читал им отрывки из Гоголя, Салтыкова-Щедрина или басни Крылова, то весь класс периодически взрывался дружным хохотом. И вся школа понимала, что это Александр Кузьмич тешит учеников своим «единоличным театром».
Литературные чтения он нередко устраивал и дома. На них читали не только отец, но и мои сестра и брат. Я знал наизусть много стихов и тоже выступал с ними. Причем отец всех нас учил читать как можно более выразительно. В деревне хорошо знали о таланте Кузьмича-рассказчика, и крестьяне всегда охотно слушали его литературные и бытовые истории, когда он сиживал с мужиками где-нибудь на завалинке.
Отец начал работать в Сагутьевской школе еще в начале двадцатых годов и за двадцать лет им было воспитано немало будущих учителей, агрономов, зоотехников. Но пожалуй, больше всего его воспитанников стало профессиональными военными. Таково уж было время!
К Кузьмичу за советом по любому поводу ходила вся деревня. И он часто выступал то в роли адвоката, то – судьи. Разве что роль прокурора ему никто никогда не навязывал, так как все знали о благородной мягкости его характера.
Была и негативная сторона у его необычайной популярности: его часто звали на различные семейные торжества, с которых он приходил домой иногда сильно «навеселе». Мама на него в таких случаях ругалась, мол, не с его здоровьем пить, а он в ответ только отшучивался, называя себя свадебным генералом.
От матери я не раз слышал историю о том, как отец однажды усмирял деревенского богатыря и задиру. Как-то вместе с отцом она тоже была у кого-то в гостях. Гостей было много, все крепко подвыпили. Но больше всех, как видно, выпил этот самый богатырь и начал ко многим задираться. От него отмахивались, он разозлился и разбушевался не на шутку. А это уже грозило серьезными последствиями. Мужики пытались всем скопом связать буяна полотенцами, но он их легко расшвырял во все стороны. Вот тогда вдруг и выступил вперед мой щупленький отец. Он набросил на себя эдакую дурашливую маску Соловья-разбойника и гаркнул, насколько хватило сил: «Иван!!! Да я же сейчас тебя раздавлю!». Все, кто при сем присутствовал, на мгновение замерли в гоголевских позах из немой сцены «Ревизора», а потом раздался такой сильный взрыв смеха, что его услышала, пожалуй, вся деревня, и любопытные стали сбегаться посмотреть, что там такое происходит. Буян же сначала остолбенел от изумления, а потом, на глазах трезвея, тоже мощно расхохотался. Он нежно обнял моего отца за плечи и сказал виновато, но так, чтобы все слышали: «Ну, Кузьмич! Век помнить буду! Ты ж меня сейчас от тюрьмы спас! Я ж ба их тута усех перекалечив!»
Были у отца и другие природные дарования. Он отлично рисовал и любил лепить из глины различные настольные статуэтки. А так как он увлекался еще и рыбной ловлей, то в его скульптурках нередко воплощались и рыболовецкие сюжеты. И слепил он однажды еще до войны небольшую фигурку Ленина, сидящего на бережку с удочкой. Очень симпатичная работа получилась! Многие приходили на нее посмотреть. Прослышало о скульптурке и районное начальство. Им тоже она понравилась. Хвалили. Однако на выставку народного творчества не взяли, так как показалось им, что вождю не пристало терять время на какой-то там рыбалке. Взяли какие-то другие отцовы работы. А «Ленин на рыбалке» так и остался стоять у него на столе до самого прихода немцев.
Теперь статуэтка Ленина уже не могла стоять на виду, и отец припрятал ее под полом в картофельном подвале. Там же нашла свое место и другая крамольная для нового режима вещь: толстый том «Истории Гражданской войны» с золотой пятиконечной звездой на красном переплете. Этой книгой отец очень дорожил. Прежде всего, может быть, потому, что в нашей семье царил трепетный культ книги, а эта была, вероятно, самой ценной.
Как-то уже глубокой осенью к на в дом староста привел нескольких немцев и сказал, что они, мол, у нас переночуют, а мы им с вечера должны набрать картошки. И поставил возле печи большую пустую корзину. Когда староста ушел, немцы, не теряя времени и громко галдя, стали готовиться к ночлегу, для чего принесли со двора сена, расстелили его на полу, чего-то набросали сверху. У нас не взяли ничего и, как всегда, не обращали на нас почти никакого внимания. Мы молча поглядывали на них, делая вид, что тоже целиком поглощены каждый своим делом. Потом мама потихоньку взяла корзину, вздохнула и направилась к люку в подвал. И тут молодой рослый немец то ли из галантности, то ли из желания набрать получше картофеля, резво подскочил к ней и учтиво отобрал корзину.
Первым почувствовал недоброе отец, потом и мы сообразили, что может вынести немец из подвала вместе с картошкой. И была еще одна причина, из-за которой мои родители сильно перепугались. Как я узнал значительно позже, как раз в эти дни в своем подвале наша соседка по квартире моя первая учительница Анна Лукинична прятала двух советских офицеров. Пол над обоими подвалами был общий. Практически оба подвала по верхней части соединялись как два сообщающихся сосуда. Любой шум или запах могли свободно проникать из одного в другой. И не дай Бог, если бы немец что-нибудь почувствовал! Схватить наших военных в подвале у Анны Лукиничны немцам ничего бы не стоило. Но этого, к счастью, не случилось, и офицеры вскоре благополучно ушли в лес к партизанам.
А пока к немцу, стараясь выглядеть непринужденной, подошла моя сестра и заговорила с ним на немецком языке. Ну, что-то в роде того, что, мол, в подвале грязно, не извольте беспокоиться, мы сами наберем вам хорошей картошки.
Надя неплохо говорила по-немецки, так как старательно учила этот язык сверх школьной программы. А в сорок первом она уже должна была учиться в десятом классе. Немец, видно, был приятно поражен ее знанием его языка и расплылся в улыбке. Но предложил спуститься в подвал вместе с ним. Делать нечего, пришлось Наде спускаться вместе с ним. А мама не выдержала и последовала за ними. Немец, кажется, возражать не стал. Через некоторое время первым вылез немец с тяжелой корзиной, потом подал руку Наде, а мама выбралась сама. Отец смотрел на них, счастливо улыбаясь.