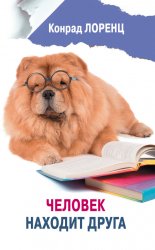Русь в «Бунташный век» (сборник) Соловьев Сергей

Ему позволили видеться с Мариною во дворце, и без свидетелей: не нужно было знать, что они могли сказать друг другу в своем злополучии! Воевода Сендомирский шел к ней и назад сквозь ряды мечей и копий, обагренных кровию его соотечественников; но москвитяне смотрели на него уже более с любопытством, нежели с яростию: победа укротила злобу.
Еще смятение продолжалось несколько времени; еще из слобод городских и ближних деревень стремилось множество людей с дрекольем в Москву на звук колоколов; еще грабили имение литовское, но уже без кровопролития. Бояре не сходили с коней и повелевали с твердостию; дружины воинские разгоняли чернь, везде охраняя ляхов как пленников.
Наконец, в 11 часов утра, все затихло. Велели народу смириться, и народ, утомленный мятежом, спешил домой отдыхать и говорить в семействах о чрезвычайных происшествиях сего дня, незабвенного для тех, которые были свидетелями его ужасов: «В течение семи часов, пишут они, мы не слыхали ничего, кроме набата, стрельбы, стука мечей и крика: секи, руби злодеев! Не видали ничего, кроме волнения, бегания, скакания, смертоубийства и мятежа».
Число жертв простиралось за тысячу, кроме избитых и раненых; но знатнейшие ляхи остались живы, многие в рубашках и на соломе. Чернь ошибкою умертвила и некоторых россиян, носивших одежду польскую в угодность Самозванцу. Немцев щадили; ограбили только купцов аугсбургских, вместе с миланскими и другими, которые жили в одной улице с ляхами. Сей для человечества горестный день был бы еще несравненно ужаснее, по сказанию очевидцев, если бы ляхи остереглися, успели соединиться для отчаянной битвы и зажгли город, к несчастию Москвы и собственному: ибо никто из них уже не избавился бы тогда от мести россиян; следственно беспечность ляхов уменьшила бедствие.
До самого вечера москвитяне ликовали в домах или мирно сходились на улицах поздравлять друг друга с избавлением России от Самозванца и поляков, хвалились своею доблестию и «не думали» (говорит летописец) «благодарить Всевышнего: храмы были затворены!» Радуясь настоящему, не тревожились о будущем – и после такого бурного дня настала ночь совершенно тихая: казалось, что Москва вдруг опустела; нигде не слышно было голоса человеческого: одни любопытные иноземцы выходили из домов, чтобы удивляться сей мертвой тишине города многолюдного, где за несколько часов пред тем все кипело яростным бунтом. Еще улицы дымились кровию, и тела лежали грудами; а народ покоился как бы среди глубокого мира и непрерывного благоденствия – не имея царя, не зная наследника – опятнав себя двукратною изменою и будущему венценосцу угрожая третьею!
Но в сем безмолвии бодрствовало властолюбие с своими обольщениями и кознями, устремляя алчный взор на добычу мятежа и смертоубийства: на венец и скипетр, обагренные кровию двух последних царей. Легко было предвидеть, кто возьмет сию добычу, силою и правом. Смелейший обличитель Самозванца, чудесно спасенный от казни и еще бесстрашный в новом усилии низвергнуть его; виновник, герой, глава народного воесстания, князь от племени Рюрика, Св. Владимира, Мономаха, Александра Невского; второй боярин местом в Думе, первый любовию москвитян и достоинствами личными, Василий Шуйский мог ли еще остаться простым царедворцем и после такой отваги, с такою знаменитостию, начать новую службу лести пред каким-нибудь новым Годуновым?
Но Годунова не было между тогдашними вельможами. Старейший из них, князь Федор Мстиславский, отличаясь добродушием, честностию, мужеством, еще более отличался смирением или благоразумием; не хотел слышать о державном сане и говорил друзьям: «Если меня изберут в цари, то немедленно пойду в монахи». Сказание некоторых чужеземных историков, что боярин князь Иван Голицын, имея многих знатных родственников и величаясь своим происхождением от Гедимина литовского, вместе с Шуйским искал короны, едва ли достойно вероятия, будучи несогласно с известиями очевидцев. Сообщник Басманова, коего обнаженное тело в сии часы лежало на площади, загладил ли измену изменою, предав юного Феодора, предав и Лжедимитрия? Не равняясь ни сановитостию, ни заслугами, мог ли равняться и числом усердных клевретов с тем, кто без имени царя уже начальствовал в день решительный для отечества, вел Москву и победил с нею?
Имея силу, имея право, Шуйский употребил и всевозможные хитрости: дал наставления друзьям и приверженникам, что говорить в синклите и на лобном месте, как действовать и править умами; сам изготовился, и в следующее утро, собрав Думу, произнес, как уверяют, речь весьма умную и лукавую: славил милость Божию к России, возвеличенной самодержцами варяжского племени; славил особенно разум и завоевания Иоанна IV, хотя и жестокого; хвалился своею блестящею службою и важною государственною опытностию, приобретенною им в сие деятельное царствование; изобразил слабость Иоаннова наследника, злое властолюбие Годунова, все бедствия его времени и ненависть народную к святоубийце, которая была виною успехов Лжедимитрия и принудила бояр следовать общему движению.
«Но мы, – говорил Шуйский, – загладили сию слабость, когда настал час умереть или спасти Россию. Жалею, что я, предупредив других в смелости, обязан жизнию Самозванцу: он не имел права, но мог умертвить меня, и помиловал, как разбойник милует иногда странника. Признаюсь, что я колебался, боясь упрека в неблагодарности; но глас совести, веры, отечества, вооружил мою руку, когда я увидел в вас ревность к великому подвигу. Дело наше есть правое, необходимое, святое; оно, к несчастию, требовало крови: но Бог благословил нас успехом – следственно оно ему угодно!.. Теперь, избыв злодея, еретика, чернокнижника, должны мы думать об избрании достойного властителя. Уже нет племени царского, но есть Россия: в ней можем снова найти угасшее на престоле. Мы должны искать мужа знаменитого родом, усердного к Вере и к нашим древним обычаям, добродетельного, опытного, следственно уже не юного – человека, который, прияв венец и скипетр, любил бы не роскошь и пышность, но умеренность и правду, ограждал бы себя не копьями и крепостями, но любовию подданных; не умножал бы золота в казне своей, но избыток и довольствие народа считал бы собственным богатством. Вы скажете, что такого человека найти трудно: знаю; но добрый гражданин обязан желать совершенства, по крайней мере возможного, в государе!»
Все знали, видели, чего хотел Шуйский: никто не дерзал явно противиться его желанию; однако ж многие мыслили и говорили, что без Великой Земской думы нельзя приступить к делу столь важному; что должно собрать в Москве чины государственные из всех областей российских, как было при избрании Годунова, и с ними решить, кому отдать царство. Сие мнение было основательно и справедливо: вероятно, что и вся Россия избрала бы Шуйского; но он не имел терпения, и друзья его возражали, что время дорого; что правительство без царя как без души, а столица в смятении; что надобно предупредить и всеобщее смятение России немедленным вручением скиптра достойнейшему из вельмож; что где Москва, там и государство; что нет нужды в Совете, когда все глаза обращены на одного, когда у всех на языке одно имя…
Сим именем огласилась вдруг и Дума и Красная площадь. Не все избирали, но никто не отвергал избираемого – и 19 мая, во втором часу дня, звук литавр, труб и колоколов возвестил нового монарха столице. Бояре и знатнейшее дворянство вывели князя Василия Шуйского из Кремля на лобное место, где люди воинские и граждане, гости и купцы, особенно к нему усердные, приветствовали его уже как отца России… там, где еще недавно лежала голова Шуйского на плахе и где в сей час лежало окровавленное тело расстригино! Подобно Годунову изъявляя скромность, он хотел, чтобы синклит и духовенство прежде всего избрали архипастыря для церкви, на место лжесвятителя Игнатия. Толпы восклицали: «Государь нужнее патриарха для отечества!» и проводили Шуйского в храм Успения, в коем митрополиты и епископы ожидали и благословили его на царство. Все сделалось так скоро и спешно, что не только россияне иных областей, но и многие именитые москвитяне не участвовали в сем избрании – обстоятельство несчастное: ибо оно служило предлогом для измен и смятений, которые ожидали Шуйского на престоле, к новому стыду и бедствию отечества!
В день государственного торжества едва успели очистить столицу от крови и трупов: вывезли, схоронили их за городом. Труп Басманова отдали родственникам для погребения у церкви Николы Мокрого, где лежал его сын, умерший в юности. Тело Самозванца, быв три дня предметом любопытства и ругательств на площади, было также вывезено и схоронено в убогом доме, за Серпуховскими воротами, близ большой дороги. Но Судьба не дала ему мирного убежища и в недрах земли.
В.П. Верещагин. Царь Василий Иоаннович Шуйский. 1606–1610 гг. «История государства Российского в изображении державных его правителей с кратким пояснительным текстом». 1896 г.
С 18 до 25 мая были тогда жестокие морозы, вредные для садов и полей: суеверие приписывало такую чрезвычайность волшебству расстриги и видело какие-то ужасные явления над его могилою: чтобы пресечь сию молву тело мнимого чародея вынули из земли, сожгли на Котлах и, смешав пепел с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда Самозванец пришел в Москву с великолепием! Ветер развеял бренные остатки злодея; но пример остался: увидим следствия!
Описав историю сего первого Лжедимитрия, должны ли мы еще уверять внимательных читателей в его обмане? Не явна ли для них истина сама собою в изображении случаев и деяний? Только пристрастные иноземцы, ревностно служив обманщику, ненавидя его истребителей и желая очернить их, писали, что в Москве убит действительный сын Иоаннов, не бродяга, а царь законный, – хотя россияне, казнив и бродягу, не могли хвалиться своим делом, соединенным с нарушением присяги: ибо святость ее нужна для целости гражданских обществ, и вероломство есть всегда преступление.
Недовольные укоризною справедливою, зложелатели России выдумали басню, украсили ее любопытными обстоятельствами, подкрепили доводами благовидными, в пищу умам наклонным к историческому вольнодумству, к сомнению в несомнительном, так что и в наше время есть люди, для коих важный вопрос о Самозванце остается еще нерешенным. Может быть, представив все главные черты истины в связи, мы дадим им более силы, если не для совершенного убеждения всех читателей, то по крайней мере для нашего собственного оправдания, чтобы они не укоряли нас слепою верою к принятому в России мнению, основанному будто бы на доказательствах слабых.
Выслушаем защитников Лжедимитриевой памяти. Они рассказывают следующее:
«Годунов, предприяв умертвить Димитрия, за тайну объявил свое намерение царевичеву медику, старому немцу, именем Симону, который, притворно дав слово участвовать в сем злодействе, спросил у девятилетнего Димитрия, имеет ли он столько душевной силы, чтобы снести изгнание, бедствие и нищету, если Богу угодно будет искусить оными твердость его? Царевич ответствовал: имею; а медик сказал: в сию ночь хотят тебя умертвить. Ложась спать, обменяйся бельем с юным слугою, твоим ровесником; положи его к себе на ложе и скройся за печь: что бы ни случилось в комнате, сиди безмолвно и жди меня. Димитрий исполнил предписание. В полночь отворилась дверь: вошли два человека, зарезали слугу вместо царевича и бежали. На рассвете увидели кровь и мертвого: думали, что убит царевич, и сказали о том матери. Сделалась тревога. Царица кинулась на труп и в отчаянии не узнала, что сей мертвый отрок не сын ее. Дворец наполнился людьми: искали убийц; резали виновных и невинных; отнесли тело в церковь, и все разошлися. Дворец опустел, и медик в сумерки вывел оттуда Димитрия, чтобы спастися бегством в Украину, к князю Ивану Мстиславскому, который жил там в ссылке еще со времен Иоанновых. Чрез несколько лет доктор и Мстиславский умерли, дав совет Димитрию искать безопасности в Литве. Сей юноша пристал к странствующим инокам; был с ними в Москве, в земле Волошской, и наконец явился в доме князя Вишневецкого».
Известно, что и сам расстрига приписывал свое чудесное спасение доктору; но сочинители сей басни не знали, что князь Иван Мстиславский умер иноком Кирилловской обители еще в 1586 году и что Иоанн никогда не ссылал его в Украину. Другие изобретатели называют медика-спасителя Августином, прибавляя, что он был из числа многих людей ученых, которые жили тогда в Угличе, и бежал с царевичем к Ледовитому морю, в пустынную обитель. Еще другие пишут, что сама царица, угадывая злое намерение Борисово, с помощию своего иноземного дворецкого (родом из Кельна), тайно удалила Димитрия и в его место взяла иерейского сына.
Исаак Масса. Убийство царевича Дмитрия в Угличе. Около 1611 года
Все такие сказки основаны на предположении, что убийство совершилось ночью, когда злодеи могли не распознать жертвы: и в сем случае вероятно ли, чтобы слуги царицыны (не говорим о ней самой) и жители Углича, нередко видав Димитрия в церкви, обманулись в убитом, коего тело пять дней лежало пред их глазами? Но царевич убит в полдень: кем? Злодеями, которые жили во дворце и не спускали глаз с несчастного младенца… И кто предал его на убиение? Мамка: от колыбели до могилы Димитрий был в руках у Годунова. Сии обстоятельства ясно, несомнительно утверждены свидетельством летописцев и допросами целого Углича, сохраненными в нашем государственном архиве.
Если расстрига не был самозванец, то для чего же он, сев на престоле, не удовлетворил народному любопытству знать все подробности его судьбы чрезвычайной? для чего не объявил России о местах своего убежища, о своих воспитателях и хранителях в течение двенадцати или тринадцати лет, чтобы разрешить всякое сомнение? Никакою беспечностию невозможно изъяснить столь важного упущения. Манифесты, или грамоты, Лжедимитриевы внесены в летописи, и даже подлинники их целы в архивах: следственно нельзя с вероятностию предположить, чтобы именно любопытнейшую из сих бумаг истребило время. Бродяга молчал, ибо не имел свидетельств истинных и думал, что, признанный царем, безопасно может не трудить себя вымыслом ложных. В Литве говорил он, что в спасении его участвовали некоторые вельможи и дьяки Щелкаловы: сии вельможи остались без известной награды и неизвестными для России; а Василий Щелкалов, вместе с другими опальными Борисова царствования, хотя и снова явился у двора, однако ж не в числе ближних и первых людей. Расстригу окружали не старые, верные слуги его юности, а только новые изменники: от чего и пал он с такою легкостию!
«Но царица-инокиня Марфа признала сына в том, кто назывался Димитрием?» Она же признала его и самозванцем: первым свидетельством, безмолвным, неоткровенным, выраженным для народа только слезами умиления и ласками к расстриге, невольная монахиня возвращала себе достоинство царицы; вторым, торжественным, клятвенным, в случае лжи мать предавала сына злой смерти: которое же из двух достовернее? И что понятнее, обыкновенная ли слабость человеческая или действие ужасное, столь неестественное для горячности родительской? Геройство знаменитой жены лигурийской, которая, скрыв сына от ярости неприятелей, на вопрос: где он? сказала: здесь, в моей утробе, и погибла в муках, не объявив его убежища – сие геройство, прославленное римским историком, трогает, но не изумляет нас: видим мать! Не удивились бы мы также, если бы и царица-инокиня, спасая истинного Димитрия, кинулась на копья москвитян с восклицанием: он сын мой! И ей не грозили смертию за правду: грозили единственно судом Божиим за ложь.
Слово царицы решило жребий того, кто чтил ее как истинную мать и делился с нею величием. Осуждая Лжедимитрия на смерть, Марфа осуждала и себя на стыд вечный, как участницу обмана – и не усомнилась: ибо имела еще совесть и терзалась раскаянием. Сколько людей слабых не впало бы в искушение зла, если бы они могли предвидеть, чего стоит всякое беззаконие для сердца!
Заметим еще обстоятельство, достойное внимания: Шуйский искал гибели Лжедимитрия и был спасен от казни неотступным молением царицы-инокини, с явною опасностию для ее мнимого сына, изобличаемого им в самозванстве: клеветник, изменник мог ли бы иметь право на такое ревностное заступление? Но спасение Героя истины умиряло совесть виновной Марфы. К сему прибавим вероятное сказание одного писателя иноземного (находившегося тогда в Москве), что расстрига велел было извергнуть тело Димитриево из углицкого Соборного храма и погребсти в другом месте, как тело мнимого иерейского сына, но что царица-инокиня не дозволила ему сделать того, ужасаясь мысли отнять у мертвого, истинного ее сына царскую могилу.
Возражают еще: «Король Сигизмунд не взял бы столь живого участия в судьбе обманщика, и вельможа Мнишек не выдал бы дочери за бродягу»; но король и Мнишек могли быть легковерны в случае обольстительном для их страстей: Сигизмунд надеялся дать россиянам царя-католика, взысканного его милостию, а воевода Сендомирский видеть дочь на престоле московском. И кто знает, что они действительно не сомневались в высоком роде беглеца? Удача была для них важнее правды.
Король не дерзнул торжественно признать Лжедимитрия истинным до его решительного успеха, и воевода Сендомирский, сделав только опыт, пожертвовав частию своего богатства надежде величия, оставил будущего зятя, когда увидел сопротивление россиян. Сигизмунд и Мнишек обманулись, может быть, не во мнении о правах, но единственно во мнении о счастии или благоразумии Самозванца, думав, что он удержит на голове венец, данный ему изменою и заблуждением: для того король спешил громогласно объявить себя виновником расстригина державства, и пан вельможный быть тестем царя, хотя бы и племени Отрепьевых. Похитителями в их силе и благоденствии гнушаются не страсти мирские, но только чистая совесть и добродетель уединенная.
Убедительнее ли и суждение тех друзей Лжедимитрия, которые говорят: «Войско, бояре, Москва не приняли бы его в цари без сильных доказательств, что он сын Иоаннов?» Но войско, бояре, Москва и свергнули его как уличенного самозванца: для чего верить им в первом случае и не верить в последнем? В обоих, конечно, действовало удостоверение, основанное на доказательствах; но люди и народы всегда могли ошибаться, как свидетельствует история… и самого Лжедимитрия!
Напомним читателям, что знаменитейший из клевретов и единственный верный друг расстриги в беседах искренних не скрывал его самозванства: такое важное признание слышал и сообщил потомству немецкий пастор Вер, который любил, усердно славил Лжедимитрия и клял россиян за убиение царя, хотя и не сына Иоаннова. Сей же очевидец тогдашних деяний предал нам следующие, не менее достопамятные свидетельства истины:
«1) Голландский аптекарь Аренд Клаузенд, быв сорок лет в России, служив Иоанну, Феодору, Годунову, Самозванцу и лично знав, ежедневно видав Димитрия во младенчестве, сказывал мне утвердительно, что мнимый царь Димитрий есть совсем другой человек и не походит на истинного, имевшего смуглое лицо и все черты матери, с которою Самозванец нимало не сходствовал.
2) В том же уверяла меня ливонская пленница, дворянка Тизенгаузен, освобожденная в 1611 году, быв повивальною бабкою царицы Марии, служив ей днем и ночью, не только в Москве, но и в Угличе – непрестанно видав Димитрия живого, видев и мертвого.
3) Скоро по убиении Лжедимитрия выехал я из Москвы в Углич и, разговаривая там с одним маститым старцем, бывшим слугою при дворе Марии, заклинал его объявить мне истину о царе убитом. Он встал, перекрестился и так ответствовал: москвитяне клялися ему в верности и нарушили клятву: не хвалю их. Убит человек разумный и храбрый, но не сын Иоаннов, действительно зарезанный в Угличе: я видел его мертвого, лежащего на том месте, где он всегда игрывал. Бог судия князьям и боярам нашим: время покажет, будем ли счастливее».
В заключение упомянем о свидетельстве известного шведа Петрея, который был посланником в Москве от Карла IX и Густава Адольфа, лично знал Самозванца и пишет, что он казался человеком лет за тридцать; а Димитрий родился в 1582 году и следственно имел бы тогда не более двадцати четырех лет от рождения.
Одним словом, несомнительные исторические и нравственные доказательства убеждают нас в истине, что мнимый Димитрий был самозванец. Но представляется другой вопрос: кто же именно? Действительно ли расстрига Отрепьев? Многие иноземцы-современники не хотели верить, чтобы беглый инок Чудовской обители мог сделаться вдруг мужественным витязем, неустрашимым бойцом, искусным всадником, и многие считали его поляком или трансильванцем, незаконным сыном Героя Батория, воспитанником иезуитов, утверждаясь на мнении некоторых знатных ляхов, и прибавляя, что он нечисто говорил языком русским: мнение явно несправедливое, когда современные донесения иезуитов к их начальству свидетельствуют, что они узнали его в Литве уже под именем Димитрия, и не католиком, а сыном греческой церкви.
Никто из россиян не упрекал Самозванца худым знанием языка нашего, коим он владел совершенно, говорил правильно, писал с легкостию и не уступал никакому дьяку тогдашнего времени в красивом изображении букв. Имея несколько подписей Самозванцевых, видим в латинских слабую, неверную руку ученика, а в русских твердую, мастерскую, кудрявый почерк грамотея приказного, каков был Отрепьев, книжник патриарший. Возражение, что келий не производят витязей, уничтожается историею его юности: одеваясь иноком, не вел ли он жизни смелого дикаря, скитаясь из пустыни в пустыню, учась бесстрашию, не боясь в дремучих лесах ни зверей, ни разбойников, и наконец быв сам разбойником под хоругвию козаков днепровских? Если некоторые из людей, ослепленных личным к нему пристрастием, находили в Лжедимитрии какое-то величие, необыкновенное для человека, рожденного в низком состоянии, то другие хладнокровнейшие наблюдатели видели в нем все признаки закоснелой подлости, не изглаженные ни обхождением с знатными ляхами, ни счастием нравиться Мнишковой дочери.
С умом естественным, легким, живым и быстрым, даром слова, знаниями школьника и грамотея соединяя редкую дерзость, силу души и воли, Самозванец был однако ж худым лицедеем на престоле, не только без основательных сведений в государственной науке, но и без всякой сановитости благородной: сквозь великолепие державства проглядывал в царе бродяга. Так судили о нем и поляки беспристрастные.
Доселе мы могли затрудняться одним важным свидетельством: известный в Европе капитан Маржерет, усердно служив Борису и Самозванцу, видев людей и происшествия собственными глазами, уверял Генрика IV, знаменитого историка де-Ту и читателей своей книги о Московской державе, что Григорий Отрепьев был не Лжедимитрий, а совсем другой человек, который с ним (Самозванцем) ушел в Литву и с ним же возвратился в Россию, вел себя непристойно, пьянствовал, употреблял во зло благосклонность его, и сосланный им за то в Ярославль, дожил там до воцарения Шуйского.
Ныне, отыскав новые современные предания исторические, изъясняем Маржеретово сказание обманом монаха Леонида, который назвался именем Отрепьева для уверения россиян, что Самозванец не Отрепьев. Царь Годунов имел способы открыть истину: тысячи лазутчиков ревностно служили ему не только в России, но и в Литве, когда он разведывал о происхождении обманщика. Вероятно ли, чтобы в случае столь важном Борис легкомысленно, без удостоверения, объявил Лжедимитрия беглецом чудовским, коего многие люди знали в столице и в других местах, следственно узнали бы и неправду при первом взоре на Самозванца? Наконец москвитяне видели Лжедимитрия, живого, мертвого, и все еще утвердительно признавали диаконом Григорием; ни один голос сомнения не раздался в потомстве до нашего времени.
Сего довольно. Приступаем к описанию дальнейших бедствий России, не менее чрезвычайных, не менее оскорбительных для ее чести, но уже подобных мрачному сновидению, – уже только любовных для народа, коему Небо судило временным уничижением достигнуть величия и который достиг оного, загладив память слабости великодушным напряжением сил и память стыда необыкновенною славою.
Царствование Василия Иоанновича Шуйского. 1606–1608 гг
Василий Иоаннович Шуйский, происходя в осьмом колене от Димитрия Суздальского, спорившего с Донским о великом княжестве, был внуком ненавистного олигарха Андрея Шуйского, казненного во время Иоанновой юности, и сыном боярина-воеводы, убитого шведами в 1573 году под стенами Лоде.
Если всякого венценосца избранного судят с большею строгостию, нежели венценосца наследственного; если от первого требуют обыкновенно качеств редких, чтобы повиноваться ему охотно, с усердием и без зависти: то какие достоинства, для царствования мирного и непрекословного, надлежало иметь новому самодержцу России, возведенному на трон более сонмом клевретов, нежели отечеством единодушным, вследствие измен, злодейств, буйности и разврата?
Василий, льстивый царедворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после бессовестный угодник и все еще тайный зложелатель Борисов, достигнув венца успехом кова, мог быть только вторым Годуновым: лицемером, а не Героем добродетели, которая бывает главною силою и властителей и народов в опасностях чрезвычайных. Борис, воцаряясь, имел выгоду: Россия уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примеров в крамольстве.
Но Василий имел другую выгоду: не был святоубийцею; обагренный единственно кровию ненавистною и заслужив удивление россиян делом блестящим, оказав в низложении Самозванца и хитрость и неустрашимость, всегда пленительную для народа. Чья судьба в истории равняется с судьбою Шуйского? Кто с места казни восходил на трон и знаки жестокой пытки прикрывал на себе хламидою царскою? Сие воспоминание не вредило, но способствовало общему благорасположению к Василию: он страдал за отечество и веру!
Без сомнения уступая Борису в великих дарованиях государственных, Шуйский славился однако ж разумом мужа думного и сведениями книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его считали волхвом; с наружностию невыгодною (будучи роста малого, толст, несановит и лицом смугл; имея взор суровый, глаза красноватые и подслепые, рот широкий), даже с качествами вообще нелюбезными, с холодным сердцем и чрезмерною скупостию, умел, как вельможа, снискать любовь граждан, честною жизнию, ревностным наблюдением старых обычаев, доступностию, ласковым обхождением. Престол явил для современников слабость в Шуйском: зависимость от внушений, склонность и к легковерию, коего желает зломыслие, и к недоверчивости, которая охлаждает усердие. Но престол же явил для потомства и чрезвычайную твердость души Василиевой в борении с неодолимым Роком: вкусив всю горесть державства несчастного, уловленного властолюбием, и сведав, что венец бывает иногда не наградою, а казнию, Шуйский пал с величием в развалинах государства!
Царь Василий Иванович Шуйский
Он хотел добра отечеству, и без сомнения искренно: еще более хотел угождать россиянам. Видев столько злоупотреблений неограниченной державной власти, Шуйский думал устранить их и пленить Россию новостию важною. В час своего воцарения, когда вельможи, сановники и граждане клялися ему в верности, сам нареченный венценосец, к общему изумлению, дал присягу, дотоле не слыханную: 1) не казнить смертию никого без суда боярского, истинного, законного; 2) преступников не лишать имения, но оставлять его в наследие женам и детям невинным; 3) в изветах требовать прямых явных улик с очей на очи и наказывать клеветников тем же, чему они подвергали винимых ими несправедливо.
«Мы желаем (говорил Василий), чтобы православное христианство наслаждалось миром и тишиною под нашею царскою хранительною властию» – и, велев читать грамоту, которая содержала в себе означенный устав, целовал крест в удостоверение, что исполнит его добросовестно. Сим священным обетом мыслил новый царь избавить россиян от двух ужасных зол своего века: от ложных доносов и беззаконных опал, соединенных с разорением целых семейств в пользу алчной казны; мыслил, в годину смятений и бедствий, дать гражданам то благо, коего не знали ни деды, ни отцы наши до человеколюбивого царствования Екатерины Второй. Но вместо признательности многие люди, знатные и незнатные, изъявили негодование и напомнили Василию правило, уставленное Иоанном III, что не государь народу, а только народ государю дает клятву.
Сии россияне были искренние друзья отечества, не рабы и не льстецы низкие: имея в свежей памяти грозы тиранства, еще помнили и бурные дни Иоаннова младенчества, когда власть царская в пеленах дремала: боялись ее стеснения, вредного для государства, как они думали, и предпочитали свободную милость закону. Царь не внял их убеждениям, действуя или по собственному изволению или в угодность некоторым боярам, склонным к аристократии, и чтобы блеснуть великодушием, торжественно обещал забыть всякую личную вражду, все досады, претерпенные им в Борисово время: ему верили, но недолго.
Отменив новости, введенные Лжедимитрием, и восстановив древнюю Государственную думу, как она была до его времени, Василий спешил известить всю Россию о своем воцарении и не оставить в умах ни малейшего сомнения о Самозванце: послали всюду чиновников знатных приводить народ к крестному целованию с обетом, не делать, не говорить и не мыслить ничего злого против царя, будущей супруги и детей его; велели, как обыкновенно, три дни звонить в колокола, от Москвы до Астрахани и Чернигова, до Тары и Колы, – молиться о здравии государя и мире отечества. Читали в церквах грамоты от бояр, царицы-инокини Марфы и Василия (именованного в сих бумагах потомком Кесаря Римского).
Описав дерзость, злодейства, собственное в том признание и гибель Самозванца, бояре величали род и заслугу Шуйского, спасителя церкви и государства. Марфа свидетельствовалась Богом, что ее сердце успокоено казнию обманщика; а Василий уверял россиян в своей любви и милости беспримерной.
Обнародовали найденную во внутренних комнатах дворца переписку Лжедимитрия с римским двором и духовенством о введении у нас латинской веры, запись, данную воеводе Сендомирскому на Смоленск и Северскую землю, также допросы Мнишка и Бучинских, Яна и Станислава: Мнишек винился в заблуждении, сказывая, что он и сам уже не мог считать мнимого Димитрия истинным, приметив в нем ненависть к России, и для того часто впадал в болезнь от горести. Бучинские объявляли, что расстрига действительно хотел с помощью ляхов умертвить 18 мая, на лугу Сретенском, двадцать главных бояр и всех лучших москвитян; что пану Ратомскому надлежало убить князя Мстиславского, Тарлу и Стадницким Шуйских; что ляхи должны были занять все места в Думе, править войском и государством: свидетельство едва ли достойное уважения, и если не вымышленное, то вынужденное страхом из двух малодушных слуг, которые, желая спасти себя от мести россиян, не боялись клеветать на пепел своего милостивца, развеянный ветром! Современники верили; но трудно убедить потомство, чтобы Лжедимитрий, хотя и нерассудительный, мог дерзнуть на дело ужасное и безумное: ибо легко было предвидеть, что бояре и москвитяне не дали бы резать себя как агнцев, и что кровопролитие заключилось бы гибелию ляхов вместе с их главою.
Июня 1 совершилось царское венчание в храме Успения, с наблюдением всех торжественных обрядов, но без всякой расточительной пышности: корону Мономахову возложил на Василия митрополит новогородский. Синклит и народ славили венценосца с усердием; гости и купцы отличались щедростию в дарах, ему поднесенных.
Являлось однако ж какое-то уныние в столице. Не было ни милостей, ни пиров; были опалы. Сменили дворецкого, князя Рубца-Мосальского, одного из первых клятвопреступников Борисова времени, и велели ему ехать воеводою в Корелу, или Кексгольм; Михайлу Нагому запретили именоваться конюшим, желая ли навеки уничтожить сей знаменитый сан, чрезмерно возвышенный Годуновым, или единственно в знак неблаговоления к злопамятному страдальцу Василиева криводушия в деле о Димитриевом убиении; великого секретаря и подскарбия, Афанасия Власьева, сослали на воеводство в Уфу как ненавистного приверженника расстригина; двух важных бояр, Михаила Салтыкова и Бельского, удалили, дав первому начальство в Иване-городе, второму в Казани; многих иных сановников и дворян, не угодных царю, тоже выслали на службу в дальние города; у многих взяли поместья.
Василий, говорит летописец, нарушил обет свой не мстить никому лично, без вины и суда. Оказалось неудовольствие; слышали ропот. Василий, как опытный наблюдатель тридцатилетнего гнусного тиранства, не хотел ужасом произвести безмолвия, которое бывает знаком тайной, всегда опасной ненависти к жестоким властителям; хотел равняться в государственной мудрости с Борисом и превзойти Лжедимитрия в свободолюбии, отличать слово от умысла, искать в нескромной искренности только указаний для правительства и грозить мечом закона единственно крамольникам. Следствием была удивительная вольность в суждениях о царе, особенная величавость в боярах, особенная смелость во всех людях чиновных; казалось, что они имели уже не государя самовластного, а полуцаря.
Никто не дерзнул спорить о короне с Шуйским, но многие дерзали ему завидовать и порочить его избрание как незаконное. Самые усердные клевреты Василия изъявляли негодование: ибо он, доказывая свою умеренность, беспристрастие и желание царствовать не для клевретов, а для блага России, не дал им никаких наград блестящих в удовлетворении их суетности и корыстолюбия. Заметили еще необыкновенное своевольство в народе и шатость в умах: ибо частые перемены государственной власти рождают недоверие к ее твердости и любовь к переменам: Россия же в течение года имела четвертого самодержца, праздновала два цареубийства и не видала нужного общего согласия на последнее избрание. Старость Василия, уже почти шестидесятилетнего, его одиночество, неизвестность наследия также производили уныние и беспокойство. Одним словом, самые первые дни нового царствования, всегда благоприятнейшие для ревности народной, более омрачили, нежели утешили сердца истинных друзей отечества.
Между тем, как бы еще не полагаясь на удостоверение россиян в самозванстве расстриги, Василий дерзнул явлением торжественным напомнить им о своих лжесвидетельствах, коими он, в угодность Борису, затмил обстоятельства Димитриевой гибели: царь велел святителям, Филарету Ростовскому и Феодосию Астраханскому с боярами князем Воротынским, Петром Шереметевым, Андреем и Григорием Нагими, перевезти в Москву тело Димитрия из Углича, где оно, в господствование Самозванца, лежало уединенно в опальной могиле, никем не посещаемой: иереи не смели служить панихид над нею; граждане боялись приближиться к сему месту, которое безмолвно уличало мнимого Димитрия в обмане.
Перенесение мощей царевича Дмитрия из Углича в Москву. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.
Но падение обманщика возвратило честь гробу царевича: жители устремились к нему толпами: пели молебны, лили слезы умиления и покаяния, лучше других россиян знав истину и молчав против совести. Когда святители и бояре московские, прибыв в Углич, объявили волю государеву, народ долго не соглашался выдать им драгоценные остатки юного мученика, взывая: «Мы его любили и за него страдали! Лишенные живого, лишимся ли и мертвого?»
Когда же, вынув из земли гроб и сняв его крышку, увидели тело, в пятнадцать лет едва поврежденное сыростию земли: плоть на лице и волосы на голове целые, равно как и жемчужное ожерелье, шитый платок в левой руке, одежду также шитую серебром и золотом, сапожки, горсть орехов, найденных у закланного младенца в правой руке и с ним положенных в могилу: тогда, в единодушном восторге, жители и пришельцы начали славить сие знамение святости – и за чудом следовали новые чудеса, по свидетельству современников: недужные, с верою и любовию касаясь мощей, исцелялись.
Из Углича несли раку [3 июня], переменяясь, люди знатнейшие, воины, граждане и земледельцы: Василий, царица-инокиня Марфа, духовенство, синклит, народ встретили ее за городом; открыли мощи, явили их нетление, чтобы утешить верующих и сомкнуть уста неверным. Василий взял святое бремя на рамена свои и нес до церкви Михаила Архангела, как бы желая сим усердием и смирением очистить себя перед тем, кого он столь бесстыдно оклеветал в самоубийстве! Там, среди храма, инокиня Марфа, обливаясь слезами, молила царя, духовенство, всех россиян простить ей грех согласия с Лжедимитрием для их обмана – и святители, исполняя волю царя, разрешили ее торжественно, из уважения к ее супругу и сыну.
Народ исполнился умиления, и еще более, когда церковь огласилась радостными кликами многих людей, вдруг излеченных от болезней действием веры к мощам Димитриевым, как пишут очевидцы. Хотели предать земле сии святые остатки и раскопали засыпанную могилу Годунова, чтобы поставить в ней гроб его жертвы, в пределе, где лежат царь Иоанн и два сына его; но благодарность исцеленных и надежда болящих убедили Василия не скрывать источника благодати: вложили тело в деревянную раку, обитую золотым атласом, оставили ее на помосте и велели петь молебны новому Угоднику Божию, вечно праздновать его память и вечно клясть Лжедимитриеву.
Еще церковь не имела патриарха: в самый первый день Василиева царствования свели Игнатия с престола, без суда духовного, единственно по указу государеву, – одели в черную рясу и заперли в келиях Чудова монастыря; Иов же, в печали, в слезах лишась зрения, не хотел возвратиться в Москву, где находились тогда все святители российские, кроме митрополита Ермогена, удаленного Лжедимитрием и тем возвышенного во мнении народа. Среди жалостных примеров слабости, оказанной несчастным Иовом и всем духовенством, Ермоген, не обольщенный милостию Самозванца, не устрашенный опалою за ревность к православию, казался Героем церкви и был единодушно, единогласно наречен патриархом, – нетерпеливо ожидаем и немедленно посвящен, как скоро прибыл из Казани в столицу, собором наших епископов. Царь, с любовью вручая Ермогену жезл Св. Петра митрополита, и Ермоген, с любовью благословляя царя, заключили искренний, верный союз церкви с государством, но не для их мира и счастия!
Патриарх Гермоген. Миниатюра из «Царского титулярника». 1672 г.
Утвердив себя на престоле великодушным обетом блюсти закон, всенародным оправданием казни расстригиной, своим царским венчанием, торжеством Димитриевой святости, избранием патриарха ревностного и мужественного духом, – поставив войско на берегах Оки и в Украине, велев надежным чиновникам осмотреть его и воеводам ждать царского указа, чтобы идти для усмирения врагов, где они явятся, – Василий немедленно занялся делами внешними.
Важнейшим делом было решить мир или войну с Литвою, не уронить достоинства России, но без крайности не начинать кровопролития в смутных обстоятельствах государства, коего внутреннее устройство, после измен и бунтов, требовало времени и тишины. Еще тело Самозванца лежало на лобном месте, когда духовенство наше отправило гонца в Киев, к тамошнему воеводе, князю Острожскому, с известительною грамотою о всем, что случилось в Москве, и с уверением в миролюбии российского правительства, невзирая на все козни литовского. В сем смысле действовал и новый венценосец: хранил поляков от злобы народа, велел давать им все нужное в изобилии и с честию отвезти Марину к отцу, который, обманывая себя и других, еще именовал ее царицею, и в виде слуги усердного благоговел пред дочерью.
Марина изъявляла более высокомерия, нежели скорби, и говорила своим ближним: «Избавьте меня от ваших безвременных утешений и слез малодушных!» У нее взяли сокровища, одежды богатые, данные ей мужем: она не жаловалась от гордости. Взяли и все имение воеводы Сендомирского: 10 000 рублей деньгами, кареты, лошадей, приборы конские, вина, всего на 250 000 нынешних рублей серебряных, сказав ему: «возвратим тебе, что найдется твоим собственным: удержим достояние казны царской». В свидании с боярами Мнишек не скрывал глубокой своей печали, ни раскаяния, вероятно искреннего, быв знаменитейшим вельможею в отечестве и видя себя невольником в стране чуждой, где народная месть, им заслуженная, угрожала ему гибелию или узами, после его сновидения о державном величии. Бояре обещали Мнишку не только безопасность, но и свободу, если король удостоверит Василия в истинном расположении к миру.
Они имели несколько свиданий и с послами литовскими. Первое было 27 мая, во дворце, где сии паны заметили разительную перемену: исчезла пышность Лжедимитриева времени; скрылись блестящие золотом телохранители и стрельцы; самые знатные чиновники, угождая вкусу Василиеву к бережливости, не отличались богатством платья. Вместо роскоши и веселия являлись везде простота, угрюмая важность, безмолвная печаль. «Нам казалось, – пишут ляхи-очевидцы, – что двор московский готовился к погребению».
Князья Мстиславский, Дмитрий Шуйский, Трубецкой, Голицыны, Татищев приняли Олесницкого и Госевского в той же палате, в коей они беседовали с ними именем Лжедимитрия, называя его тогда непобедимым цесарем, а в сие время гнусным исчадием ада! Мстиславский произнес сильную речь о злодейском убиении истинного сына Иоаннова по воле Годунова, о нелепом самозванстве расстриги, о кознях Сигизмундовых, желая доказать, что бродяга без вспоможения ляхов никогда не овладел бы московским престолом; что сей бродяга достойно казнен Россиею, а немногие ляхи в час мятежа убиты чернию за их наглость, без ведома бояр и дворянства. «Одним словом, – заключил Мстиславский, – кто виною зла и всех бедствий? Король и вы, паны, нарушив святость мирного договора и крестного целования».
М.П. Клодт. Марина Мнишек с отцом под стражей. 1883 г.
Олесницкий и Госевский тихо советовались друг с другом и дали ответ не менее сильный, изъясняясь смело, и если не во всем искренно, то по крайней мере умно и благородно.
«Мы слышали о бедственной кончине Димитрия, – говорили паны, – и жалели о ней как христиане, гнушаясь убийцею. Но явился человек под именем сего царевича, свидетельствуясь разными приметами в истине своего уверения, и сказывая, как он спасен Небом от убийц, – как Борис тайно умертвил царя Феодора, истребил знатнейшие роды дворянские, теснил, гнал всех людей именитых. Не то ли самое говорили нам о Борисе и некоторые из вас, мужей думных? И читая историю, не находим ли в ней примеров, что мнимоусопшие являются иногда живы в казнь злодейству? Но мы еще не верили бродяге: поверил ему только добросердечный воевода Сендомирский, и не ему одному, но многим россиянам, признавшим в нем Димитрия: они клялися, что Россия ждет его; что города и войско сдадутся Иоаннову наследнику. Действуя самовольно, Мнишек хотел быть свидетелем торжества Димитриева – и был; но, повинуясь указу королевскому, возвратился, чтобы не нарушить мира, заключенного нами с Годуновым. Димитрий, как он называл себя, остался в земле Северской единственно с россиянами, донскими и запорожскими козаками: что ж сделали россияне? Пали к ногам его: воеводы и войско. Что сделали и вы, бояре? Выехали к нему навстречу с царскою утварию; вопили, что принимаете государя любимого от Бога, и кипели гневом, когда ляхи смели утверждать, что они дали царство Димитрию. Мы, послы, собственными глазами видели, как вы пред ним благоговели. Здесь, в сей самой палате, рассуждая с нами о делах государственных, вы не изъявляли ни малейшего сомнения о роде его и сане. Одним словом, не мы, поляки, но вы, русские, признали своего же русского бродягу Димитрием, встретили с хлебом и солью на границе, привели в столицу, короновали и… убили; вы начали, вы и кончили. Для чего же вините других? Не лучше ли молчать и каяться в грехах, за которые Бог наказал вас таким ослеплением? Не говорим о клятвопреступлении и цареубийстве; не осуждаем вашего дела и не имеем причины жалеть о сем человеке, который в ваших глазах оскорблял нас, величался, безумно требовал неслыханных титулов и едва ли мог быть надежным другом нашего отечества; но дивимся, что вы, бояре, как люди известно умные, дозволяете себе суесловить, желая оправдать душегубство: бесчеловечное избиение наших братьев… Они не воевали с вами, не помогали вашему Лжедимитрию, не хранили его: ибо он вверил жизнь свою не им, а вам единственно! Слагаете вину на чернь: поверим тому, если можно; поверим, если вы невредимо отпустите с нами воеводу Сендомирского, дочь его и всех ляхов к королю, дабы мы своим миролюбивым ходатайством обезоружили месть готовую. Но доколе, вопреки народному праву, уважаемому и варварами, будете держать нас, как бы пленников, дотоле в глазах короля, республики и всей Европы, не чернь московская, а вы с вашим новым царем останетесь виновниками сего кровопролития, и не в безопасности. Рассудите!»
Бояре слушали с великим вниманием и долго сидели в молчании, смотря друг на друга; наконец ответствовали панам: «Вы были послами у Самозванца, а теперь уже не послы: следственно не должно говорить вам так вольно и смело»; но расстались с ними ласково; виделись снова и сказали им, что Василий милостиво приказал освободить всех нечиновных ляхов и вывезти за границу; но что послы, воевода Сендомирский и другие знатные паны должны ждать в России решения судьбы своей от Сигизмунда, к коему едет царский чиновник для важных объяснений и переговоров.
Дворянин князь Григорий Волконский немедленно был послан в Краков. Олесницкий и Госевский остались в Москве под стражею; Мнишка с дочерью вывезли в Ярославль, Вишневецкого в Кострому, товарищей их в Ростов и Тверь. Они имели дозволение писать к королю и писали миролюбиво, желая как можно скорее избавиться от неволи, чтобы говорить и действовать иначе.
Уже слух о гибели Самозванца и многих ляхов в Москве встревожил всю Польшу: в городах и в местечках литовских останавливали князя Волконского и дьяка его, бесчестили, ругали, называли убийцами, злодеями; метали в их людей камнями и грязью; а королевские чиновники отвечали им на жалобы, что никакая власть не может унять народного негодования. Быв четыре месяца в дороге, Волконский приехал в Краков, где Сигизмунд встретил его с лицом угрюмым, не звал к обеду, не удостоил ни одного ласкового слова и, скрыв печаль свою о судьбе Лжедимитрия, от коего Польша ждала столько выгод, слушал холодно извещение о новом самодержце в России. В переговорах с коронными панами Волконский доказывал то же, что наши бояре доказывали в Москве послам Сигизмундовым; а паны ответствовали ему то же, что послы боярам. Мы говорили ляхам: «Вы дали нам Лжедимитрия!» Ляхи возражали: «Вы взяли его с благодарностию!»
Но с обеих сторон умеряли колкость выражений, оставляя слово на мир. Волконский требовал удовлетворения за бедствие, претерпенное Россиею от Самозванца: за гибель многих людей и расхищение нашей казны; король же требовал освобождения своих послов и платежа за товары, взятые Лжедимитрием у купцов литовских и галицких, или разграбленные чернию московскою в день мятежа. Не могли согласиться, однако ж не грозили войною друг другу. «Швеция, – сказал Волконский, – уступает царю знатную часть Ливонии, желая его вспоможения; но он не хочет нарушить прежнего мирного договора».
Паны уверяли, что они также не нарушат сего договора, если мы будем соблюдать его. Ничего не решили и ни в чем не условились. Сигизмунд не взял даров от Волконского и хотел писать с ним к Василию; но Волконский отвечал: «Я не гонец». Король велел ему ехать к царю с поклоном, сказав, что пришлет в Москву собственного чиновника; но медлил, уже зная о новых мятежах России и готовясь воспользоваться ими, как сосед деятельный в ненависти к ее величию.
Еще Василий имел время возобновить дружественные сношения с императором, с королями английским и датским. Гонец Рудольфов и посланник шведский находились в Москве. Непримиримый враг врага нашего, Сигизмунда, Карл IX ревностно искал союза России, и Василий действительно не спешил заключить его, в надежде обойтись без войны с Сигизмундом. Хан Казы-Гирей уверял царя в братстве, ногайский князь Иштерек в повиновении. Воевода князь Ромодановский отправился к шаху Аббасу для важных переговоров о Турции и христианских землях Востока. Еще двор московский занимался делами Европы и Азии, политикою Австрии и Персии; но скоро опасности ближайшие, внутренние, многочисленные и грозные скрыли от нас внешность, и Россия, терзая свои недра, забыла Европу и Азию!.. Сии новые бедствия началися таким образом. В первые дни июня, ночью, тайные злодеи, всегда готовые подвижники в бурные времена гражданских обществ, – желая ли только беззаконной корысти или чего важнейшего, бунта, убийств, испровержения верховной власти, – написали мелом на воротах у богатейших иноземцев и у некоторых бояр и дворян, что царь предает их домы расхищению за измену. Утром скопилось там множество людей, и грабители приступили к делу; но воинские дружины успели разогнать их без кровопролития.
Чрез несколько дней новое смятение. Уверили народ, что царь желает говорить с ним на лобном месте. Вся Москва пришла в движение, и Красная площадь наполнилась любопытными, отчасти и зломысленными, которые лукавыми внушениями подстрекали чернь к мятежу. Царь шел в церковь; услышал необыкновенный шум вне Кремля, сведал о созвании народа и велел немедленно узнать виновников такого беззакония; остановился и ждал донесения, не трогаясь с места.
Бояре, царедворцы, сановники окружали его: Василий без робости и гнева начал укорять их в непостоянстве и в легкомыслии, говоря: «Вижу ваш умысел; но для чего лукавствовать, ежели я вам не угоден? Кого вы избрали, того можете и свергнуть. Будьте спокойны: противиться не буду». Слезы текли из глаз сего несчастного властолюбца. Он кинул жезл царский, снял венец с головы и примолвил: «Ищите же другого царя!»
Все молчали от изумления. Шуйский надел снова венец, поднял жезл и сказал: «Если я царь, то мятежники да трепещут! Чего хотят они? Смерти всех невинных иноземцев, всех лучших, знаменитейших россиян, и моей; по крайней мере, насилия и грабежа. Но вы знали меня, избирая в цари; имею власть и волю казнить злодеев». Все единогласно ответствовали: «Ты наш государь законный! Мы тебе присягали и не изменим! Гибель крамольникам!»
Объявили указ гражданам мирно разойтися, и никто не ослушался; схватили пять человек в толпах как возмутителей народа и высекли кнутом. Доискивались и тайных, знатнейших крамольников; подозревали Нагих: думали, что они волнуют Москву, желая свести Шуйского с престола, собрать Великую Думу земскую и вручить державу своему ближнему, князю Мстиславскому. Исследовали дело, честно и добросовестно; выслушали ответы, свидетельства, оправдания и торжественно признали невинность скромного Мстиславского, не тронули и Нагих; сослали одного боярина Петра Шереметева, воеводу псковского, также их родственника, действительно уличенного в кознях. Шуйский в сем случае оказал твердость и не нарушил данной им клятвы судить законно. Ему готовились искушения важнейшие!
Столица утихла до времени; но знатная часть государства уже пылала бунтом!.. Там, где явился первый Лжедимитрий, явился и второй, как бы в посмеяние России, снова требуя легковерия или бесстыдства и находя его в ослеплении или в разврате людей, от черни до вельможного сана.
Казалось, что Самозванец, всеми оставленный в час бедствия, не имел ни друзей, ни приверженников, кроме Басманова. Те, коих он любил с доверенностию, осыпал милостями и наградами, громогласнее других кляли память его, желая неблагодарностию спасти себя – и спаслися: сохранили всю добычу измены, сан и богатство. Некоторые из них умели даже снискать доверенность Василиеву: так, князь Григорий Петрович Шаховской, известный любимец расстригин, был послан воеводою в Путивль, на смену князю Бахтеярову, честному, но, может быть, не весьма расторопному и смелому. Правительство знало важность сего назначения: нигде граждане и чернь не оказывали столько усердия к Самозванцу и не могли столько бояться нового царя, как в земле Северской, где оставалось еще немало бродяг, беглых разбойников, злодеев, сподвижников Отрепьева, и куда многие из них, после его гибели, спешили возвратиться. Шаховской без сомнения говорил Василию то же, что Басманов несчастному Феодору, – и сделал то же.
Рожденный в свое время, в век мятежей и беззаконий, со всеми качествами, нужными для первенства в оных, Шаховской пылал ненавистию к виновникам Лжедимитриевой гибели; знал расположение народа северского и неудовольствие многих россиян, которые имели право участвовать и не участвовали в избрании венценосца; знал волнение умов и в Москве и в целом государстве, смятенном бунтами и еще не совсем успокоенном властию закона; считал державство Василия нетвердым, обстоятельства благоприятными и, прельщаясь блеском великой отваги, решился на злодейство, удивительное и для сего времени: созвал граждан в Путивле и сказал им торжественно, что московские изменники вместо Димитрия умертвили какого-то немца; что Димитрий, истинный сын Иоаннов, жив, но скрывается до времени, ожидая помощи своих друзей северских; что злобный Василий готовит жителям Путивля и всей Украйны, за оказанное ими усердие к Димитрию, жребий новогородцев, истерзанных Иоанном Грозным; что не только за истинного царя, но и для собственного спасения они должны восстать на Шуйского.
Народ не усомнился и восстал. Казалось, что все города южной России ждали только примера: Моравск, Чернигов, Стародуб, Новгород-Северский немедленно, а скоро и Белгород, Борисов, Оскол, Трубчевск, Кромы, Ливны, Елец отложились от Москвы. Граждане, стрельцы, козаки, люди боярские, крестьяне толпами стекались под знамя бунта, выставленное Шаховским и другим, еще знатнейшим сановником, черниговским воеводою, мужем думным, некогда верным закону: князем Андреем Телятевским.
Сей человек удивительный, не хотев вместе с целым войском предаться живому, торжествующему Самозванцу, с шайками крамольников предался его тени, имени без существа, ослепленный заблуждением или неприязнию к Шуйским: так люди, кроме истинно великодушных, изменяются в государственных смятениях! Еще не видали никакого Димитрия, ни лица, ни меча его, и все пылало к нему усердием, как в Борисово и Феодорово время! Сие роковое имя с чудною легкостию побеждало власть законную, уже не обольщая милосердием, как прежде, но устрашая муками и смертию. Кто не верил грубому, бесстыдному обману, кто не хотел изменить Василию и дерзал противиться мятежу: тех убивали, вешали, кидали с башен, распинали!
Так, еще ко славе отечества, погибли воеводы, боярин князь Буйносов в Белегороде, Бутурлин в Осколе, Плещеев в Ливнах, двое Воейковых, Пушкин, князь Щербатый, Бартенев, Мальцов; других ввергали в темницы. Злодейством доказывалась любовь к царю; верность называли изменою, богатство преступлением: холопы грабили имение господ своих, бесчестили их жен, женились на дочерях боярских. Плавая в крови, утопая в мерзостях насилия, терпеливо ждали Димитрия и едва спрашивали: где он? Уверяя в необходимости молчания до некоторого времени, Шаховской давал однако ж разуметь, что солнце взойдет для России – из Сендомира!
Мог ли один человек предпринять и совершить такое дело, равно ужасное и нелепое, без условия с другими, без приготовления и заговора? Шаховской имел клевретов в Москве, где скоро по убиении Лжедимитрия распустили слух, что он жив, за несколько часов до мятежа, ночью, ускакав верхом с двумя царедворцами, неизвестно куда.
В то же время видели на берегу Оки, близ Серпухова, трех необыкновенных, таинственных путешественников: один из них дал перевозчику семь злотых и сказал: «Знаешь ли нас? Ты перевез государя Димитрия Иоанновича, который спасается от московских изменников, чтобы возвратиться с сильным ополчением, казнить их, а тебя сделать великим человеком. Вот он!» – примолвил незнакомец, указав на младшего из спутников, и немедленно удалился вместе с ними.
Многие другие видели их и далее, за Тулою, около Путивля, и слышали то же. Сии путешественники, или беглецы, выехали из пределов России в Литву, – и вдруг вся Польша заговорила о Димитрии, который будто бы ушел из Москвы в одежде инока, скрывается в Сендомире и ждет счастливой для него перемены обстоятельств в России. Посол Василиев, князь Волконский, будучи в Кракове, сведал, что жена Мнишкова действительно объявила какого-то человека своим зятем Димитрием; что он живет то в Сендомире, то в Самборе, в ее доме и в монастыре, удаляясь от людей; что с ним только один москвитянин, дворянин Заболоцкий, но что многие знатные россияне, и в числе их князь Василий Мосальский, ему тайно благоприятствуют.
Новый Самозванец нимало не сходствовал наружностию с первым: имел волосы кудрявые, черные (вместо рыжеватых); глаза большие, брови густые, навислые, нос покляпый, бородавку среди щеки, ус и бороду стриженую; но так же, как Отрепьев, говорил твердо языком польским и разумел латинский. Волконский удостоверился, что сей обманщик был дворянин Михайло Молчанов, гнусный убийца юного царя Феодора, и мнимый чернокнижник, сеченный за то кнутом в Борисово время: он скрылся в начале Василиева царствования. Действуя по условию с Шаховским, Молчанов успел в главном деле: ославил воскресение расстриги, чтобы питать мятеж в земле Северской; но не спешил явиться там, где его знали, и готовился передать имя Димитрия иному, менее известному или дерзновеннейшему злодею.
Уже самый первый слух о бегстве расстриги встревожил московскую чернь, которая, три дня терзав мертвого лжецаря, не знала, верить ли или не верить его спасению: ибо думала, что он, как известный чародей, мог ожить силою адскою или в час опасности сделаться невидимым и подставить другого на свое место; некоторые даже говорили, что человек, убитый вместо Лжедимитрия, походил на одного молодого дворянина, его любимца, который с сего времени пропал без вести. Действовала и любовь к чудесному и любовь к мятежам: «Чернь московская (пишут свидетели очевидные) была готова менять царей еженедельно, в надежде доискаться лучшего или своевольствовать в безначалии» – и люди, обагренные, может быть, кровию Самозванца, вдруг начали жалеть о его днях веселых, сравнивая их с унылым царствованием Василия! Но легковерие многих и зломыслие некоторых не могли еще произвести общего движения в пользу расстриги там, где он воскрес бы к ужасу своих изменников и душегубцев, – где все, от вельмож до мещан, хвалились его убиением. Клевреты Шаховского в столице желали единственно волнения, беспокойства народного и вместе с слухами распространяли письма от имени Лжедимитрия, кидали их на улицах, прибивали к стенам: в сих грамотах упрекали россиян неблагодарностию к милостям великодушнейшего из царей, и сказывали, что Димитрий будет в Москве к новому году. Государь велел искать виновников такого возмущения; призывали всех дьяков, сличали их руки с подметными письмами и не открыли сочинителей.
Тушинский вор (Лжедмитрий II)
Еще правительство не уважало сих козней, изъясняя оные бессильною злобою тайных, малочисленных друзей расстригиных; но сведав в одно время о бунте южной России и сендомирском Самозванце, увидело опасность и спешило действовать – сперва убеждением. Василий послал Крутицкого митрополита Пафнутия в Северскую землю, образумить ее жителей словом истины и милосердия, закона и совести: митрополита не приняли и не слушали.
Царица-инокиня Марфа, исполненная ревности загладить вину свою, писала к жителям всех городов украинских, свидетельствуя пред Богом и Россиею, что она собственными глазами видела убиение Димитрия в Угличе и Самозванца в Москве; что одни ляхи и злодеи утверждают противное; что царь великодушный дал ей слово покрыть милосердием вину заблуждения; что не только возмущенные, но даже и возмутители могут жить безопасно и мирно в домах своих, если изъявят раскаяние; что она шлет к ним брата, боярина Григория Нагого, и святый образ Димитриев, да услышат истину, да зрят Ангельское лицо ее сына, который был рожден любить, а не терзать отечество смутами и злодействами. Ни грамоты, ни посольства не имели успеха. Бунт кипел: остервенение возрастало. Действуя неусыпно, Шаховской звал всю Россию соединиться с Украйною; писал указы именем Димитрия и прикладывал к ним печать государственную, которую он похитил в день московского мятежа. Рать изменников усиливалась и выступала в поле, с воеводою достойным такого начальства, холопом князя Телятевского, Иваном Болотниковым. Сей человек, взятый в плен татарами, проданный в неволю туркам и выкупленный немцами в Константинополе, жил несколько времени в Венеции, захотел возвратиться в отечество, услышал в Польше о мнимом Димитрии, предложил ему свои услуги и явился с письмом от него к князю Шаховскому в Путивле. Внутренно веря или не веря Самозванцу, Болотников воспламенил других любопытными о нем рассказами; имея ум сметливый, некоторые знания воинские и дерзость, сделался главным орудием мятежа, к коему пристали еще двое князей Мосальских и Михайло Долгорукий.
Видя необходимость кровопролития, Василий велел полкам идти к Ельцу и Кромам. Предводительствовали боярин Воротынский, сын отца столь знаменитого, и князь Юрий Трубецкой, стольник, удостоенный необыкновенной чести иметь мужей думных под своими знаменами. Воротынский близ Ельца рассеял шайки мятежников; но чиновник царский, везя к нему золотые медали в награду его мужества, вместо победителей встретил беглецов на пути. Где некогда сам Шуйский с сильным войском не умел одолеть горсти изменников и где измена Басманова решила судьбу отечества, там, в виду несчастных Кром, Болотников напал на пять тысяч царских всадников: они, с князем Трубецким, дали тыл; за ними и Воротынский ушел от Ельца; винили, обгоняли друг друга в срамном бегстве и, как бы еще имея стыд, не хотели явиться в столице: разъехались по домам, сложив с себя обязанность чести и защитников царства.
Г.Н. Горелов. Восстание Ивана Болотникова. 1944 г.
Победитель Болотников ругался над пленными: называл их кровопийцами, злодеями, бунтовщиками, царя Василия Шубником; велел одних утопить, других вести в Путивль для казни; некоторых сечь плетьми и едва живых отпустить в Москву; шел вперед и восстановлял державу Самозванца. Орел, Мценск, Тула, Калуга, Венев, Кашира, вся земля Рязанская пристали к бунту, вооружились, избрали начальников: сына боярского Истому Пашкова, веневского сотника; Григория Сунбулова, бывшего воеводою в Рязани, и тамошнего дворянина Прокопия Ляпунова, дотоле неизвестного, отселе знаменитого, созданного быть вождем и повелителем людей в безначалии, в мятежах и бурях, – одаренного красотою и крепостию телесною, силою ума и духа, смелостию и мужеством. Сие новое войско отличалось ревностию чистейшею, составленное из граждан, владельцев, людей домовитых.
Быв первыми, усерднейшими клевретами Басманова в измене Феодору, они хотя и присягнули Василию, но осуждали дело москвитян, убиение расстриги, и думали, что присяга Шуйскому сама собою уничтожается, когда жив Димитрий, старейший и следственно один венценосец законный. Но ревность их также вела к злодействам: лилась кровь воинов и граждан, верных чести и Василию. Рязанский наместник боярин князь Черкасский, воеводы князь Тростенский, Вердеревский, князь Каркадинов, Измайлов были скованные отправлены Ляпуновым в Путивль на суд или смерть. Разбойники северские жгли, опустошали селения; грабя, не щадили и святыни церквей; срамили человечество гнуснейшими делами. Ужас распространял измену, как буря пламень, с неимоверною быстротою, от пределов Тулы и Калуги к Смоленску и Твери: Дорогобуж, Вязьма, Ржев, Зубцов, Старица предались тени Лжедимитрия, чтобы спастися от ярости мятежников; но Тверь, издревле славная в наших летописях верностию, не изменила: достойный ее святитель Феоктист, великодушно негодуя на слабость воевод, явился бодрым стратигом: ополчил духовенство, людей приказных, собственных детей боярских, граждан, разбил многочисленную шайку злодеев и послал к государю несколько сот пленных.
Встревоженный бегством воевод от Ельца и Кром, бегством чиновников и рядовых от воевод и знамен, – наконец силою, успехами бунта, Василий еще не смутился духом, имея данное ему от природы мужество, если не для одоления бедствий, то по крайней мере для великодушной гибели. Летописец говорит, что царь без искусных стратигов и без казны есть орел бескрылый и что таков был жребий Шуйского. Борис оставил преемнику казну и только одного славного храбростию воеводу, Басманова-изменника: Лжедимитрий-расточитель не оставил ничего, кроме изменников; но Василий делал, что мог. Объявив всенародно о происхождении мятежа – о нелепой басне расстригина спасения, о сонмище воров и негодяев, коим имя Димитрия служит единственно предлогом для злодейства, в самых тех местах, где жители, ими обманутые, встречают их как друзей, – царь выслал в поле новое сильнейшее войско и, как бы спокойный сердцем, как бы в мирное, безмятежное время, удумал загладить несправедливость современников в глазах потомства: снять опалу с памяти венценосца, хотя и ненавистного за многие дела злые, но достойного хвалы за многие государственные благотворения: велел, пышно и великолепно, перенести тело Бориса, Марии, юного Феодора из бедной обители Св. Варсонофия в знаменитую лавру Сергиеву Торжественно огласив убиение и святость Димитрия, Шуйский не смел приблизить к его мощам гроб убийцы и снова поставить между царскими памятниками; но хотел сим действием уважить законного монарха в Годунове, будучи также монархом избранным; хотел возбудить жалость, если не к Борису виновному, то к Марии и к Феодору невинным, чтобы произвести живейшее омерзение к их гнусным умертвителям, сообщникам Шаховского, жадным к новому цареубийству.
С.И. Грибков. Ксения Годунова. Вторая половина XIX века
В присутствии бесчисленного множества людей, всего духовенства, двора и синклита, открыли могилы: двадцать иноков взяли раку Борисову на плечи свои (ибо сей царь скончался иноком); Феодорову и Мариину несли знатные сановники, провождаемые святителями и боярами. Позади ехала, в закрытых санях, несчастная Ксения и громко вопила о гибели своего Дома, жалуясь Богу и России на изверга Самозванца. Зрители плакали, воспоминая счастливые дни ее семейства, счастливые и для России в первые два года Борисова царствования. Многие о нем тужили, встревоженные настоящим и страшася будущего.
В лавре, вне церкви Успения, с благоговением погребли отца, мать и сына; оставили место и для дочери, которая жила еще шестнадцать горестных лет в Девичьем монастыре Владимирском, не имея никаких утешений, кроме небесных. Новым погребением возвращая сан царю, лишенному оного в могиле, думал ли Василий, что некогда и собственные его кости будут лежать в неизвестности, в презрении, и что великодушная жалость, справедливость и политика также возвратят им честь царскую?
Уже не только политика мирила Василия с Годуновым, но и злополучие, разительное сходство их жребия. Обоим власть изменяла; опоры того и другого, видом крепкие, падали, рушились, как тлен и брение. Рати Василиевы, подобно Борисовым, цепенели, казалось, пред тению Димитрия. Юноша, ближний государев, князь Михаил Скопин-Шуйский, имел успех в битве с неприятельскими толпами на берегах Пахры; но воеводы главные, князья Мстиславский, Дмитрий Шуйский, Воротынский, Голицыны, Нагие, имея с собою всех дворян московских, стольников, стряпчих, жильцов, встретились с неприятелем уже в пятидесяти верстах от Москвы, в селе Троицком, сразились и бежали, оставив в его руках множество знатных пленников.
Уже Болотников, Пашков, Ляпунов, взяв, опустошив Коломну, стояли (в октябре месяце) под Москвою, в селе Коломенском; торжественно объявили Василия царем сверженным; писали к москвитянам, духовенству, синклиту и народу, что Димитрий снова на престоле и требует их новой присяги; что война кончилась и царство милосердия начинается. Между тем мятежники злодействовали в окрестностях, звали к себе бродяг, холопей; приказывали им резать дворян и людей торговых, брать их жен и достояние, обещая им богатство и воеводство; рассыпались по дорогам, не пускали запасов в столицу, ими осажденную…
Войско и самое государство как бы исчезли для Москвы, преданной с ее святынею и славою в добычу неистовому бунту. Но в сей ужасной крайности еще блеснул луч великодушия: оно спасло царя и царство, хотя на время!
Василий, велев написать к мятежникам, что ждет их раскаяния и еще медлит истребить жалкий сонм безумцев, спокойно устроил защиту города, предместий и слобод. Духовенство молилось; народ постился три дни и, видя неустрашимость в государе, сам казался неустрашимым. Воины, граждане по собственному движению обязали друг друга клятвою в верности, и никто из них не бежал к злодеям. Полководцы, князья Скопин-Шуйский, Андрей Голицын и Татев расположились станом у Серпуховских ворот, для наблюдения и для битвы в случае приступа. Высланные из Москвы отряды восстановили ее сообщение с городами, ближними и дальними. Патриарх, святители писали всюду грамоты увещательные: верные одушевились ревностию, изменники устыдились. Тверь, Смоленск служили примером: их дворяне, дети боярские, люди торговые кинули семейства и спешили спасти Москву. К добрым тверитянам присоединились жители Зубцова, Старицы, Ржева; к добрым смолянам граждане Вязьмы, Дорогобужа, Серпейска, уже не преступники от малодушия, но снова достойные россияне; везде били злодеев; выгнали их из Можайска, Волока, обители Св. Иосифа; не давали им пощады: казнили пленных.
Тогда же в Коломенском стане открылась важная измена. Болотников, называя себя воеводою царским, хотел быть главным; но воеводы, избранные городами, не признавали сей власти, требовали Димитрия от него, от Шаховского: не видали и начинали хладеть в усердии. Ляпунов первый удостоверился в обмане и, стыдясь быть союзником бродяг, холопей, разбойников без всякой государственной, благородной цели, первый явился в столице с повинною (вероятно, вследствие тайных, предварительных сношений с царем); а за Ляпуновым и все рязанцы, Сунбулов и другие.
Василий простил их и дал Ляпунову сан думного дворянина. Скоро и многие иные сподвижники бунта, удостоверенные в милосердии государя, перебежали из Коломенского в Москву, где уже не было ни страха, ни печали; все ожило и пылало ревностию ударить на остальных мятежников. Василий медлил; изъявляя человеколюбие и жалость к несчастным жертвам заблуждения, говорил: «Они также русские и христиане: молюся о спасении их душ, да раскаются, и кровь отечества да не лиется в междоусобии!» Василий или действительно надеялся утишить бунт без дальнейшего кровопролития, торжественно предлагая милость самым главным виновникам оного, или для вернейшей победы ждал смолян и тверитян: они соединились в Можайске с воеводою царским Колычевым и приближались к столице.
Еще мятежники упорствовали в намерении овладеть Москвою; укрепили Коломенский стан валом и тыном, терпеливо сносили ненастье и холод глубокой осени; приступали к Симонову монастырю и к Тонной, или Рогожской, слободе; были отражены, лишились многих людей и все еще не унывали – по крайней мере Болотников: он не слушал обещаний Василия забыть его вину и дать ему знатный чин, ответствуя: «Я клялся Димитрию умереть за него и сдержу слово: буду в Москве не изменником, а победителем»; уже видел знамена тверитян и смолян на Девичьем поле; видел движение в войске московском и смело ждал битвы неравной.
С.М. Зейденберг. Свидание Скопина-Шуйского с царем Василием Шуйским в Москве
Василий, сам опытный в деле бранном, еще не хотел и пред стенами Кремлевскими ратоборствовать лично, как бы стыдясь врага подлого; хотел быть только невидимым зрителем сей битвы: вверил главное начальство усерднейшему или счастливейшему витязю: двадцатилетнему князю Скопину-Шуйскому, который свел полки в монастыре Даниловском, и мыслил окружить неприятеля в стане. Болотников и Пашков [2 декабря] встретили воевод царских: первый сразился как лев; второй, не обнажив меча, передался к ним со всеми дворянами и с знатною частию войска. У Болотникова остались козаки, холопы, северские бродяги; но он бился до совершенного изнурения сил и бежал с немногими к Серпухову: остальные рассеялись. Козаки еще держались в укрепленном селении Заборье и наконец с атаманом Беззубцевым сдалися, присягнув Василию в верности. Кроме их, взяли на бою столь великое число пленных, что они не уместились в темницах московских и были все утоплены в реке, как злодеи ожесточенные; но козаков не тронули и приняли в царскую службу. Юноше-победителю, князю Скопину, рожденному к чести, утешению и горести отечества, дали сан боярина, а воеводе Колычеву – боярина и дворецкого. Радовались и торжествовали; пели молебны с колокольным звоном и благодарили Небо за истребление мятежников, но прежде времени.
Болотников думал остановиться в Серпухове. Жители не впустили его. Он засел в Калуге; в несколько дней укрепил ее глубокими рвами и валом; собрал тысяч десять беглецов, изготовился к осаде и писал к северской Думе изменников, что ему нужно вспоможение и еще нужнее Димитрий, истинный или мнимый; что имя без человека уже не действует, и что все их клевреты готовы следовать примеру Ляпунова, Сунбулова и Пашкова, если явление вожделенного царя-изгнанника, столь долго славимого и невидимого, не даст им нового усердия и новых сподвижников. Но кого было представить? Сендомирского ли самозванца, Молчанова, известного в России и нимало не сходного с Лжедимитрием, еще известнейшим? Сей беглец мог действовать на легковерных только издали, слухом, а не присутствием, которое изобличило бы его в обмане. Пишут, что злодеи российские хотели назвать Димитрием иного человека, какого-то благородного ляха, но что он – взяв, вероятно, деньги за такую отвагу – раздумал искать гибельного величия в бурях мятежа, мирно остался в Польше жить нескудным дворянином и прервал наконец связь с Шаховским, коему случай дал между тем другое орудие.
Мы упоминали о бродяге Илейке, Лжепетре, мнимом сыне царя Феодора. На пути к Москве узнав о гибели расстриги, он с терскими козаками бежал назад, мимо Казани, где бояре Морозов и Бельский хотели схватить его: козаки обманули их; прислали сказать, что выдадут им Самозванца, и ночью уплыли вниз по Волге; грабили людей торговых и служивых; злодействовали, жгли селения на берегах, до Царицына, где убили князя Ромодановского, ехавшего послом в Персию, и воеводу Акинфеева; остановились зимовать на Дону и расславили в Украйне о своем лжецаревиче. Обман способствовал обману: Шаховский признал Илейку сыном Феодоровым, звал к себе вместе с шайкою терских мятежников, встретил в Путивле с честию, как племянника и наместника Димитриев а в его отсутствие, и даже не усомнился обещать ему царство, если Димитрий, ими ожидаемый, не явится. Сей союз злодейства праздновали новым душегубством, в доказательство державной власти разбойника Илейки. Он велел умертвить всех знатных пленников, которые еще сидели в темницах: верных воевод рязанских, думного мужа Сабурова, князя Приимкова-Ростовского, начальников города Борисова, и воеводу Путивльского, князя Бахтеярова, взяв его дочь в наложницы.
Искали и союзников внешних, там, где вред России всегда считался выгодою и где старая ненависть к нам усилилась желанием мести за стыд неудачного дружества с бродягою: новый самозванец Петр также обратился к Сигизмунду и вельможные паны не устыдились сказать князю Волконскому, который еще находился тогда в Кракове, что они «ждут послов от государя северского, сына Феодорова, который вместе с Димитрием, укрывающимся в Галиции, намерен свергнуть Василия с престола; что если царь возвратит свободу Мнишку и всем знатным ляхам, московским пленникам, то не будет ни Лжедимитрия, ни Лжепетра; а в противном случае оба сделаются истинными и найдут сподвижников в республике!» Но ляхи только грозили Василию; манили, вероятно, мятежников обещаниями и не спешили действовать; Шаховский, Телятевский, Долгорукий, Мосальские, с новым атаманом Илейкою не имели времени ждать их; призвали к себе запорожцев; ополчили всех, кого могли, в земле Северской и выступили в поле, чтобы спасти Болотникова.
Умел ли Василий воспользоваться своею победою, дав мятежникам соединиться и вновь усилиться в Калуге? Он послал к ней войско, но уже чрез несколько дней, и малочисленное, смятое первою смелою вылазкою; послал и другое, сильнейшее с боярином Иваном Шуйским, который, одержав верх в кровопролитном деле с Болотниковым при устье реки Угры, осадил Калугу (30 декабря), но без надежды взять ее скоро. Худые вести, одна за другою, встревожили Москву. В Калужской и Тульской области новые шайки злодеев скопились и заняли Тулу. Бунт вспыхнул в уезде Арзамасском и в Алатырском: мордва, холопы, крестьяне грабили, резали царских чиновников и дворян, утопили алатырского воеводу Сабурова, осадили Нижний Новгород именем Димитрия.
Астрахань также изменила: ее знатный воевода, окольничий князь Иван Хворостинин, взял сторону Шаховского: верных умертвили: доброго, мужественного дьяка Карпова и многих иных. Самых границ Сибири коснулось возмущение, но не проникло в оную: там начальствовали усердные Годуновы, хотя и в честной ссылке. Из Вятки, из Перми силою гнали воинов в Москву, а чернь славила Димитрия. К сему смятению присоединилось ужасное естественное бедствие: язва в Новегороде, где умерло множество людей, и в числе их боярин Катырев. Между тем целое войско злодеев разными путями шло от Путивля к Туле, Калуге и Рязани.
Василий бодрствовал неусыпно, распоряжал хладнокровно: послал рати и воевод: знатнейшего саном князя Мстиславского и знаменитейшего мужеством Скопина-Шуйского к Калуге; Воротынского к Туле, Хилкова к Веневу, Измайлова к Козельску, Хованского к Михайлову, боярина Федора Шереметева к Астрахани, Пушкина к Арзамасу; а сам еще остался в Москве с дружиною царскою, чтобы хранить святыню отечества и церкви или явиться на поле битвы в час решительный. Василий думал предупредить соединение мятежников, истребить их отдельно, нападениями разными, единомысленными, чтобы вдруг и везде утишить бунт. Действуя в воинских распоряжениях как стратиг искусный, он хотел действовать и на сердца людей, оживить в них силу нравственную, успокоить совесть, возмущенную беззакониями государственными, и снова скрепить союз царя с царством, нарушенный злодейством.
Имев торжественное совещание с Ермогеном, духовенством, синклитом, людьми чиновными и торговыми, Василий определил звать в Москву бывшего патриарха Иова для великого земского дела. Ермоген писал к Иову: «Преклоняем колена: удостой нас видеть благолепное лицо твое и слышать глас твой сладкий: молим тебя именем отечества смятенного». Иов приехал и (20 февраля) явился в церкви Успения, извне окруженной и внутри наполненной несметным множеством людей. Он стоял у патриаршего места в виде простого инока, в бедной ризе, но возвышаемый в глазах зрителей памятию его знаменитости и страданий за истину, смирением и святостию: отшельник, вызванный почти из гроба примирить Россию с законом и Небом. Все было изготовлено царем для действия торжественного, в коем патриарх Ермоген с любовию уступал первенство старцу, уже бесчиновному. В глубокой тишине общего безмолвия и внимания поднесли Иову бумагу и велели патриаршему диакону читать ее на амвоне.
В сей бумаге народ – и только один народ – молил Иова отпустить ему, именем Божиим, все его грехи пред законом, строптивость, ослепление, вероломство и клялся впредь не нарушать присяги, быть верным государю; требовал прощения для живых и мертвых, дабы успокоить души клятвопреступников и в другом мире; винил себя во всех бедствиях, ниспосланных Богом на Россию, но не винился в цареубийствах, приписывая убиение Феодора и Марии одному расстриге; наконец молил Иова, как святого мужа, благословить Василия, князей, бояр, христолюбивое воинство и всех христиан, да восторжествует царь над мятежниками и да насладится Россия счастием тишины.
Иов ответствовал грамотою, заблаговременно, но действительно им сочиненною, писанною известным его слогом, умилительно и не без искусства. Тот же диакон читал ее народу. Изобразив в ней величие России, произведенное умом и счастием ее монархов – хваля особенно государственный ум Иоанна Грозного, Иов соболезновал о гибельных следствиях его преждевременной кончины и Димитриева заклания, но умолчал о виновнике оного, некогда любив и славив Бориса; напомнил единодушное избрание Годунова в цари и народное к нему усердие; дивился ослеплению россиян, прельщенных бродягою; говорил: «Я давал вам страшную на себя клятву в удостоверение, что он самозванец: вы не хотели мне верить – и сделалось, чему нет примера ни в священной, ни в светской истории».
Патриарх Иов. Миниатюра из «Царского титулярника». 1672 г.
Описав все измены, бедствия отечества и церкви, свое изгнание, гнусное цареубийство, если не совершенное, то по крайней мере допущенное народом, воздав хвалу Василию, царю святому и праведному, за великодушное избавление России от стыда и гибели, Иов продолжал: «Вы знаете, убит ли самозванец; знаете, что не осталось на земле и скаредного тела его – а злодеи дерзают уверять Россию, что он жив и есть истинный Димитрий! Велики грехи наши пред Богом, в сии времена последние, когда вымыслы нелепые, когда сволочь мерзостная, тати, разбойники, беглые холопы могут столь ужасно возмущать отечество!»
Наконец, исчислив все клятвопреступления россиян, не исключая и данной Лжедимитрию присяги, Иов именем Небесного милосердия, своим и всего духовенства объявлял им разрешение и прощение, в надежде, что они уже не изменят снова царю законному и добродетелию верности, плодом чистого раскаяния, умилостивят Всевышнего, да и победят врагов и возвратят государству мир с тишиною.
Действие было неописанное. Народу казалось, что тяжкие узы клятвы спали с него и что сам Всевышний устами праведника изрек помилование России. Плакали, радовались – и тем сильнее тронуты были вестию, что Иов, едва успев доехать из Москвы до Старицы, преставился [8 марта]. Мысль, что он, уже стоя на пороге вечности, беседовал с Москвою, умиляла сердца. Забыли в нем слугу Борисова: видели единственно мужа святого, который в последние минуты жизни и в последних молениях души своей ревностно занимался судьбою горестного отечества, умер, благословляя его и возвестив ему умилостивление Неба!
Но происшествия не соответствовали благоприятным ожиданиям. Воеводы, посланные царем истребить скопища мятежников, большею частию не имели успеха. Мстиславский, с главным войском обступив Калугу, стрелял из тяжелых пушек, делал примет к укреплениям, издали вел к ним деревянную гору и хотел зажечь ее вместе с тыном острога: но Болотников подкопом взорвал сию гору; не знал и не давал успокоения осаждающим; сражался день и ночь; не жалел людей, ни себя; обливался кровию в битвах непрестанных и выходил из оных победителем, доказывая, что ожесточение злодейства может иногда уподобляться геройству добродетели. Он боялся не смерти, а долговременной осады, предвидя необходимость сдаться от голода: ибо не успел запастися хлебом. Разбойники калужские ели лошадей, не жаловались и не слабели в сечах. Царь велел снова обещать милость их атаману, если покорится: ответом его было: «Жду милости единственно от Димитрия!»
Тщетно прибегали и к средствам, менее законным: московский лекарь Фидлер вызвался отравить главного злодея, дал на себя страшную клятву и, взяв сто флоринов, обманул Василия: уехал в Калугу служить за деньги Болотникову, из любви к расстриге. Неудачная осада продолжалась четыре месяца.
Другие воеводы, встретив неприятеля в поле, бежали: Хованский от Михайлова в Переславль Рязанский, Хилков от Венева в Коширу, Воротынский от Тулы в Алексин, наголову разбитый предводителем изменников, князем Андреем Телятевским, который успел прежде его занять и Тулу и Дедилов. Только Измайлов и Пушкин честно сделали свое дело: первый, рассеяв многочисленную шайку изменника князя Михайла Долгорукого, осадил мятежников в Козельске; второй спас Нижний Новгород, усмирил бунт в Арзамасе, в Ардатове и еще приспел к Хилкову в Коширу, чтобы идти с ним к Серебряным Прудам, где они истребили скопище злодеев и взяли их двух начальников, князя Ивана Мосальского и литвина Сторовского; но близ Дедилова были разбиты сильными дружинами Телятевского и в беспорядке отступили к Кошире: воевода Ададуров положил голову на месте сей несчастной битвы, и множество беглецов утонуло в реке Шате. – Боярин Шереметев, коему надлежало усмирить Астрахань, не мог взять города; укрепился на острове Болдинском и, не взирая на зимний холод, нужду, смертоносную цынгу в своем войске, отражал все приступы тамошних бунтовщиков, которые в исступлении ярости мучили, убивали пленных. Глава их, князь Хворостинин, объявив самого Шереметева изменником, грозил ему лютейшею казнию и звал ногайских владетелей под знамена Димитрия. Но царь уже не думал о том, что происходило в отдаленной Астрахани, когда судьба его и царства решилась за 160 верст от столицы.
Ежедневно надеясь победить Болотникова если не мечом, то голодом – надеясь, что Воротынский в Алексине и Хилков в Кошире заслоняют осаду Калуги и блюдут безопасность Москвы, главный воевода князь Мстиславский отрядил бояр, Ивана Никитича Романова, Михайла Нагого и князя Мезецкого против злодея, Василия Мосальского, который шел с своими толпами Белевскою дорогою к Калуге. Они сразились с неприятелем на берегах Вырки, смело и мужественно. Целые сутки продолжалась битва. Мосальский пал, оказав храбрость, достойную лучшей цели. Так пали и многие клевреты его: уже не имея вождя, теснимые, расстроенные, не хотели бежать, ни сдаться: умирали в сече; другие зажгли свои пороховые бочки и взлетели на воздух, как жертвы остервенения, свойственного только войнам междоусобным. Романов, дотоле известный единственно великодушным терпением в несчастии, удостоился благодарности царя и золотой медали за оказанную им доблесть.
Но изменники в другом месте были счастливее. Они, подобно царю, соображали свои действия наступательные, следуя общей мысли и стремясь с разных сторон к одной цели: освободить Болотникова. Гибель Мосальского не устрашила Телятевского, который также шел к Калуге и также встретил московских воевод, князей Татева, Черкасского и Борятинского, высланных Мстиславским из калужского стана. В жестокой битве на Пчелне легли Татев и Черкасский со многими из добрых воинов; остальные спаслися бегством в стан калужский и привели его в ужас, коим воспользовался Болотников: сделал вылазку и разогнал войско, еще многочисленное; все обратили тыл, кроме юного князя Скопина-Шуйского и витязя Истомы Пашкова, уже верного слуги царского: они упорным боем дали время малодушным бежать, спасая если не честь, то жизнь их; отступили, сражаясь, к Боровску, где несчастный Мстиславский и другие воеводы соединили рассеянные остатки войска, бросив пушки, обоз, запасы в добычу неприятелю. Еще хуже робости была измена: пятнадцать тысяч воинов царских, и в числе их около ста немцев, пристали к мятежникам. Узнав, что сделалось под Калугою, Измайлов снял осаду Козельска; по крайней мере не кинул снаряда огнестрельного и засел в Мещовске.
Сии вести поразили Москву. Шуйский снова колебался на престоле, но не в душе: созвал духовенство, бояр, людей чиновных; предложил им меры спасения, дал строгие указы, требовал немедленного исполнения и грозил казнию ослушникам: все россияне, годные для службы, должны были спешить к нему с оружием, монастыри запасти столицу хлебом на случай осады, и самые иноки готовиться к ратным подвигам за веру. Употребили и нравственное средство: святители предали анафеме Болотникова и других известных, главных злодеев: чего царь не хотел дотоле, в надежде на их раскаяние. Время было дорого: к счастию, мятежники не двигались вперед, ожидая Илейки, который с последними силами и с Шаховским еще шел к Туле.
21 мая Василий сел на ратного коня и сам вывел войско, приказав Москву брату Димитрию Шуйскому, князьям Одоевскому и Трубецкому, а всех иных бояр, окольничих, думных дьяков и дворян взяв с собою под царское знамя, коего уже давно не видали в поле с таким блеском и множеством сановников: уже не стыдились идти всем царством на скопище злодеев храбрых! Близ Серпухова соединились с Василием Мстиславский и Воротынский, оба как беглецы в унынии стыда. Довольный числом, но боясь робости сподвижников, царь умел одушевить их своим великодушием: в присутствии ста тысяч воинов целуя крест, громогласно произнес обет возвратиться в Москву победителем или умереть; он не требовал клятвы от других, как бы опасаясь ввести слабых в новый грех вероломства, и дал ее в твердой решимости исполнить. Казалось, что Россия нашла царя, а царь нашел подданных: все с ревностию повторили обет Василиев – и на сей раз не изменили.
Сведав, что Илейка с Шаховским уже в Туле и что Болотников к ним присоединился, Василий послал князей Андрея Голицына, Лыкова и Прокопия Ляпунова к Кошире. Самозванец Петр, как главный предводитель злодеев, велел также занять сей город Телятевскому Рати сошлися на берегах Восми [5 июня]: началось дело кровопролитное, и мятежники одолевали: но Голицын и Лыков кинулись в пыл битвы с восклицанием: «Нет для нас бегства; одна смерть или победа!» и сильным, отчаянным ударом смяли неприятеля. Телятевский ушел в Тулу, оставив москвитянам все свои знамена, пушки, обоз; гнали бегущих на пространстве тридцать верст и взяли пять тысяч пленных. Храбрейшие из злодеев, козаки терские, яицкие, донские, украинские, числом 1700, засели в оврагах и стреляли; уже не имели пороха и все еще не сдавались: их взяли силою на третий день и казнили, кроме семи человек, помилованных за то, что они спасли некогда жизнь верным дворянам, которые были в руках у злодея Илейки: черта достохвальная в самой неумолимой мести!
Обрадованный столь важным успехом и геройством воевод своих еще более, нежели числом врагов истребленных, Василий изъявил Голицыну и Лыкову живейшую благодарность; двинулся к Алексину, выгнал оттуда мятежников, шел к Туле. Еще злодеи хотели отведать счастия и в семи верстах от города, на речке Воронее, сразились с полком князя Скопина-Шуйского: стояли в месте крепком, в лесу, между топями, и долго противились; наконец москвитяне зашли им в тыл, смешали их и вогнали в город; некоторые вломились за ними даже в улицы, но там пали: ибо воеводы без царского указа не дерзнули на общий приступ; а царь жалел людей или опасался неудачи, зная, что в Туле было еще не менее двадцати тысяч злодеев отчаянных: россияне умели оборонять крепости, не умея брать их. Обложили Тулу. Князь Андрей Голицын занял дорогу Коширскую: Мстиславский, Скопин и другие воеводы Кропивинскую; тяжелый снаряд огнестрельный расставили за турами близ реки Упы; далее, в трех верстах от города, шатры царские.
Началась осада [30 июня], медленная и кровопролитная, подобно калужской: тот же Болотников и с тою же смелостию бился в вылазках; презирая смерть, казался и невредимым и неутомимым: три, четыре раза в день нападал на осаждающих, которые одерживали верх единственно превосходством силы и не могли хвалиться действием своих тяжелых стенобитных орудий, стреляя только издали и не метко. Воеводы московские взяли Дедилов, Кропивну, Епифань и не пускали никого ни в Тулу, ни из Тулы: Василий хотел одолеть ее жестокое сопротивление голодом, чтобы в одном гнезде захватить всех главных злодеев и тем прекратить бедственную войну междоусобную. «Но Россия, – говорит летописец, – утопала в пучине крамол, и волны стремились за волнами: рушились одно, поднимались другие».
Замышляя измену, Шаховской надеялся, вероятно, одною сказкою о царе изгнаннике низвергнуть Василия и дать России юного венценосца, нового ли бродягу или кого-нибудь из вельмож, знаменитых родом, если, невзирая на свою дерзость, не смел мечтать о короне для самого себя; но обманутый надеждою, уже стоял на краю бездны. Ежедневно уменьшались силы, запасы и ревность стесненных в Туле мятежников, которые спрашивали: «Где же тот, за кого умираем? Где Димитрий?»
Шаховской и Болотников клялися им: первый, что царь в Литве; второй, что он видел его там собственными глазами. Оба писали в Галицию, к ближним и друзьям Мнишковым, требуя от них какого-нибудь Димитрия или войска, предлагая даже Россию ляхам, такими словами: «От границы до Москвы все наше: придите и возьмите; только избавьте нас от Шуйского».
Э.Э. Лисснер. Восстание Болотникова. 1939 г.
С письмами и наказом послали в Литву атамана козаков днепровских, Ивана Мартынова Заруцкого, смелого и лукавого: умев ночью пройти сквозь стан московский, он не хотел ехать далее Стародуба, жил в сем городе безопасно и питал в гражданах ненависть к Василию.
Послали другого вестника, который достиг Сендомира, не нашел там никакого Димитрия, но заставил ближних Мнишковых искать его: искали и нашли бродягу, жителя Украины, сына поповского, Матвея Веревкина, как уверяют летописцы, или жида, как сказано в современных бумагах государственных. Сей самозванец и видом и свойствами отличался от расстриги: был груб, свиреп, корыстолюбив до низости: только, подобно Отрепьеву, имел дерзость в сердце и некоторую хитрость в уме; владел искусно двумя языками, русским и польским; знал твердо Св. Писание и Круг Церковный; разумел, если верить одному чужеземному историку, и язык еврейский, читал тальмуд, книги раввинов, среди самых опасностей воинских; хвалился мудростию и предвидением будущего.
Пан Меховецкий, друг первого обманщика, сделался руководителем и наставником второго; впечатлел ему в память все обстоятельства и случаи Лжедимитриевой истории, – открыл много и тайного, чтобы изумлять тем любопытных; взял на себя чин его гетмана; пригласил сподвижников, как некогда воевода Сендомирский, чтобы возвратить державному изгнаннику царство; находил менее легковерных, но столько же, или еще более, ревнителей славы или корысти. «Не спрашивали, – говорит историк польский, – истинный ли Димитрий или обманщик зовет воителей? Довольно было того, что Шуйский сидел на престоле, обагренном кровию ляхов. Война Ливонская кончилась: юношество, скучая праздностию, кипело любовию к ратной деятельности; не ждало указа королевского и решения чинов государственных: хотело и могло действовать самовольно», но, конечно, с тайного одобрения Сигизмундова и панов думных. Богатые давали деньги бедным на предприятие, коего целью было расхищение целой державы. Выставили знамена, образовалось войско; и весть за вестию приходила к жителям северским, что скоро будет у них Димитрий.
Наконец, 1 августа, явились в Стародубе два человека: один именовал себя дворянином Андреем Нагим, другой Алексеем Рукиным, московским подъячим; они сказали народу, что Димитрий недалеко с войском и велел им ехать вперед, узнать расположение граждан: любят ли они своего царя законного? Хотят ли служить ему усердно? Народ единодушно воскликнул: «где он? где отец наш? идем к нему все головами». Он здесь, ответствовал Рукин и замолчал, как бы устрашась своей нескромности. Тщетно граждане убеждали его изъясниться; вышли из терпения, схватили и хотели пытать безмолвного упрямца: тогда Рукин объявил им, что мнимый Андрей Нагой есть Димитрий. Никто не усомнился: все кинулись лобызать ноги пришельца; вопили: «Хвала Богу! Нашлося сокровище наших душ!»
Ударили в колокола, пели молебны, честили Самозванца, коего прислал Меховецкий, готовясь идти вслед за ним с войском: прислал с одним клевретом безоружного, беззащитного, по тайному уговору, как вероятно, с главными стародубскими изменниками, желая доказать ляхам, что они могут надеяться на россиян в войне за Димитрия. Путивль, Чернигов, Новгород Северский, едва услышав о прибытии Лжедимитрия и еще не видя знамен польских, спешили изъявить ему свое усердие и дать воинов. Заблуждение уже не извиняло злодейства: многие из северян знали первого Самозванца и следственно знали обман, видя второго, человека им неизвестного; но славили его как царя истинного, от ненависти к Шуйскому, от буйности и любви к мятежу. Так атаман Заруцкий, быв наперсником расстригиным, упал к ногам стародубского обманщика, уверяя, что будет служить ему с прежнею ревностию, и бесстыдно исчисляя опасности и битвы, в коих они будто бы вместе храбровали. Но были и легковерные, с горячим сердцем и воображением, слабые умом, твердые душою. Таким оказал себя один стародубец, сын боярский: взял и вручил царю, в стане под Тулою, письмо от городов северских, в котором мятежники советовали Шуйскому уступить престол Димитрию и грозили казнию в случае упорства: сей посол дерзнул сказать в глаза Василию то же, называя его не царем, а злым изменником; терпел пытку, хваляся верностию к Димитрию и был сожжен в пепел, не изъявив ни чувствительности к мукам, ни сожаления о жизни, в исступлении ревности удивительной.
Василий, узнав о сем явлении Самозванца, о сем новом движении и скопище мятежников в южной России, отрядил воевод, князей Литвинова-Мосальского и Третьяка Сеитова, к ее пределам: первый стал у Козельска; второй занял Лихвин, Белев и Волхов. Скоро услышали, что Меховецкий уже в Стародубе с сильными литовскими дружинами; что Заруцкий призвал несколько тысяч козаков и соединил их с толпами северскими; что Лжедимитрий, выступив в поле, идет к Туле. Воеводы царские не могли спасти Брянска и велели зажечь его, когда жители вышли с хлебом и солью навстречу к мнимому Димитрию…
В сие время один из польских друзей его, Николай Харлеский, исполненный к нему усердия и надежды завоевать Россию, писал к своим ближним в Литву следующее письмо любопытное: «Царь Димитрий и все наши благородные витязи здравствуют. Мы взяли Брянск, сожженный людьми Шуйского, которые вывезли оттуда все сокровища, и бежали так скоро, что их нельзя было настигнуть. Димитрий теперь в Карачеве, ожидая знатнейшего вспоможения из Литвы. С ним наших 5000, но многие вооружены худо… Зовите к нам всех храбрых; прельщайте их и славою и жалованьем царским. У вас носится слух, что сей Димитрий есть обманщик: не верьте. Я сам сомневался и хотел видеть его; увидел и не сомневаюсь. Он набожен, трезв, умен, чувствителен; любит военное искусство; любит наших; милостив и к изменникам: дает пленным волю служить ему или снова Шуйскому. Но есть злодеи: опасаясь их, Димитрий никогда не спит на своем царском ложе, где только для вида велит быть страже: положив там кого-нибудь из русских, сам уходит ночью к гетману или ко мне и возвращается домой на рассвете. Часто бывает тайно между воинами, желая слышать их речи, и все знает. Зная даже и будущее, говорит, что ему властвовать не долее трех лет; что лишится престола изменою, но опять воцарится и распространит государство. Без прибытия новых, сильнейших дружин польских он не думает спешить к Москве, если возьмет и самого Шуйского, который в ужасе, в смятении снял осаду Тулы; все бегут от него к Димитрию…»
Но Самозванец, оставив за собою Болхов, Белев, Козельск и разбив князя Литвинова-Мосальского близ Мещовска, на пути к Туле сведал, что в ней славится уже не Димитриево, а Василиево имя.
Еще мятежники оборонялись там усильно до конца лета, хотя и терпели недостаток в съестных припасах, в хлебе и соли. Счастливая мысль одного воина дала царю способ взять сей город без кровопролития. Муромец, сын боярский, именем Сумин Кровков, предложил Василию затопить Тулу, изъяснил возможность успеха и ручался в том жизнию. Приступили к делу; собрали мельников; велели ратникам носить землю в мешках на берег Упы, ниже города, и запрудили реку деревянною плотиною: вода поднялася, вышла из берегов, влилась в острог, в улицы и дворы, так что осажденные ездили из дому в дом на лодках; только высокие места остались сухи и казались грядами островов. Битвы, вылазки пресеклись.
Ужас потопа и голода смирил мятежников: они ежедневно целыми толпами приходили в стан к царю, винились, требовали милосердия и находили его, все без исключения. Главные злодеи еще несколько времени упорствовали: наконец и Телятевский, Шаховской, сам непреклонный Болотников известили Василия, что готовы предать ему Тулу и самозванца Петра, если царским словом удостоверены будут в помиловании, или, в противном случае, умрут с оружием в руках и скорее съедят друг друга от голода, нежели сдадутся. Уже зная, что новый Лжедимитрий недалеко, Василий обещал милость, – и десятого октября боярин Колычев, вступив в Тулу с воинами московскими, взял подлейшего из злодеев, Илейку Болотников явился с головы до ног вооруженный, пред шатрами царскими, сошел с коня, обнажил саблю, положил ее себе на шею, пал ниц и сказал Василию: «Я исполнил обет свой: служил верно тому, кто называл себя Димитрием в Сендомире: обманщик или царь истинный, не знаю; но он выдал меня. Теперь я в твоей власти: вот сабля, если хочешь головы моей; когда же оставишь мне жизнь, то умру в твоей службе, усерднейшим из рабов верных». Он угадывал, кажется, свою долю. Миловать таких злодеев есть преступление; но Василий обещал и не хотел явно нарушить слова: Болотникова, Шаховского и других начальников мятежа отправили, вслед за скованным Илейкою, в Москву с приставами; а князя Телятевского, знатнейшего и тем виновнейшего изменника, из уважения к его именитым родственникам, не лишили ни свободы, ни боярства, к посрамлению сего вельможного достоинства и к соблазну государственному: слабость бесстыдная, вреднейшая жестокости!
А.А. Сафонов. Иван Болотников перед царем Василием Шуйским
Но общая радость все прикрывала. Взятие Тулы праздновали как завоевание Казанского царства или Смоленского княжества; и, желая, чтобы сия радость была еще искреннее для войска утомленного, царь дал ему отдых: уволили дворян и детей боярских в их поместья, сведав, что Лжедимитрий, испуганный судьбою Лжепетра, ушел назад к Трубчевску Вопреки опыту презирая нового злодея России, Василий не спешил истребить его; послал только легкие дружины к Брянску, а конницу черемисскую и татарскую в Северскую землю для грабежа и казни виновных ее жителей; не хотел ждать, чтобы сдалася Калуга, где еще держались клевреты Болотникова с атаманом Скотницким: велел осаждать ее малочисленной рати и возвратился к столицу. Москва встретила его как победителя.
Он въезжал с необыкновенною пышностию, с двумя тысячами нарядных всадников, в богатой колеснице, на прекрасных белых конях; умиленно слушал речь патриарха, видел знаки народного усердия и казался счастливым! Три дни славили в храмах милость Божию к России; пять дней молился Василий в лавре Св. Сергия и заключил церковное торжество действием государственного правосудия: злодея Илейку повесили на серпуховской дороге, близ Данилова монастыря. Болотникова, атамана Федора Нагибу и строптивейших мятежников отвезли в Каргополь и тайно утопили. Шаховского сослали в каменную пустыню Кубенского озера, а вероломных немцев, взятых в Туле, числом пятьдесят два, и с ними медика Фидлера, в Сибирь. Всех других пленников оставили без наказания и свободными. Калуга, Козельск еще противились; вся южная Россия, от Десны до устья Волги, за исключением немногих городов, признавали царем своим мнимого Димитрия: сей злодей, отступив, ждал времени и новых сил, чтобы идти вперед, – а Москва, утомленная тревогами, наслаждалась тишиною, после ужасной грозы и пред ужаснейшею! Испытав ум, твердость царя и собственное мужество, верные россияне думали, что главное сделано; хотели временного успокоения и надеялись легко довершить остальное.
Воинский устав Русского царства, подготовленный при царе Василии Шуйском в 1607 году
Так думал и сам Василий. Быв дотоле в непрестанных заботах и в беспокойстве, мыслив единственно о спасении царства и себя от гибели, он вспомнил наконец о своем счастии и невесте: жестокою политикою лишенный удовольствия быть супругом и отцом в летах цветущих, спешил вкусить его хотя в летах преклонных и женился на Марии, дочери боярина князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского. Верить ли сказанию одного летописца, что сей брак имел следствия бедственные: что Василий, алчный к наслаждениям любви, столь долго ему неизвестным, предался неге, роскоши, ленности: начал слабеть в государственной и в ратной деятельности, среди опасностей засыпать духом, и своим небрежением охладил ревность лучших советников Думы, воевод и воинов, в царстве самодержавном, где все живет и движется царем, с ним бодрствует или дремлет? Но согласно ли такое очарование любви с природными свойствами человека, который в недосугах заговора и властвования смутного целые два года забывал милую ему невесту? И какое очарование могло устоять противу таких бедствий?
По крайней мере до сего времени Василий бодрствовал не только в усилиях истребить мятежников, но с удивительным хладнокровием, едва избавив от них Москву, занимался и земскими или государственными уставами и способами народного образования, как бы среди глубокого мира.
В марте 1607 года, имев торжественное рассуждение с патриархом, духовенством и синклитом, он издал соборную грамоту о беглых крестьянах, велел их возвратить тем владельцам, за коими они были записаны в книгах с 1593 года: то есть подтвердил уложение Феодора Иоанновича, но сказав, что оно есть дело Годунова, не одобренное боярами старейшими, и произвело в начале много зла, неизвестного в Иоанново время, когда земледельцы могли свободно переходить из селения в селение. Далее уставлено в сей грамоте, что принимающий чужих крестьян должен платить в казну десять рублей пени с человека, а господам их три рубля за каждое лето; что подговорщик, сверх денежной пени, наказывается кнутом, что муж беглой девки или вдовы делается рабом ее господина; что если господин не женит раба до двадцати лет, а рабы не выдаст замуж до осьминадцати, то обязан дать им волю и не имеет права жаловаться в суде на их бегство, даже и в случае кражи или сноса: закон благонамеренный, полезный не только для размножения людей, но и для чистоты нравственной!
Тогда же Василий велел перевести с немецкого и латинского языка «Устав дел ратных», желая, как сказано в начале оного, чтобы «россияне знали все новые хитрости воинские, коими хвалятся Италия, Франция, Испания, Австрия, Голландия, Англия, Литва, и могли не только силе силою, но и смыслу смыслом противиться с успехом, в такое время, когда ум человеческий всего более вперен в науку, необходимую для благосостояния и славы государств: в науку побеждать врагов и хранить целость земли своей».
Ничто не забыто в сей любопытной книге: даны правила для образования и разделения войска, для строя, похода, станов, обоза, движений пехоты и конницы, стрельбы пушечной и ружейной, осады и приступов, с ясностию и точностию. Не забыты и нравственные средства. Пред всякою битвою надлежало воеводе ободрять воинов лицом веселым, напоминать им отечество и присягу; говорить: «Я буду впереди… Лучше умереть с честию, нежели жить бесчестно», и с сим вручать себя Богу.
Угождая народу своею любовию к старым обычаям русским, Василий не хотел однако ж, в угодность ему, гнать иноземцев: не оказывал к ним пристрастия, коим упрекали расстригу и даже Годунова, но не давал их в обиду мятежной черни; выслал ревностных телохранителей Лжедимитриевых и четырех медиков германских за тесную связь с поляками, – оставив лучшего из них, лекаря Вазмера, при себе: но старался милостию удержать всех честных немцев в Москве и в царской службе, как воинов, так и людей ученых, художников, ремесленников, любя гражданское образование и зная, что они нужны для успехов его в России; одним словом, имел желание, не имел только времени сделаться просветителем отечества… И в какой век! В каких обстоятельствах ужасных!
Продолжение Василиева царствования. 1607–1609 г.г
В то время, когда Москва праздновала Василиево бракосочетание, война междоусобная уже снова пылала.
Калуга упорствовала в бунте. От имени царя ездил к ее жителям и людям воинским прощенный изменник атаман Беззубцев с убеждением смириться. Они сказали: «Не знаем царя, кроме Димитрия: ждем и скоро его увидим!» Вероятно, что явление второго Лжедимитрия было им уже известно. Василий, жалея утомлять войско трудами зимней осады, предложил, весьма неосторожно, четырем тысячам донских мятежников, которые в битве под Москвою ему сдалися, загладить вину свою взятием Калуги: донцы изъявили не только согласие, но и живейшую ревность; клялись оказать чудеса храбрости; прибыли в калужский стан к государевым воеводам и чрез несколько дней взбунтовались так, что устрашенные воеводы бежали от них в Москву. Часть мятежников вступила в Калугу; другие ушли к Самозванцу.
Сей наглый обманщик недолго был в бездействии. Дружины за дружинами приходили к нему из Литвы, конные и пехотные, с вождями знатными: в числе их находились мозырский хорунжий Иосиф Будзило, паны Тишкевичи и Лисовский, беглец, за какое-то преступление осужденный на казнь в своем отечестве: смелостью и мужеством витязь, ремеслом грабитель. Узнав, что Василий распустил главное войско, Лжедимитрий, по совету Лисовского, немедленно выступил из Трубчевска с семью тысячами ляхов, осмью тысячами козаков и немалым числом россиян. Воеводы царские, князь Михайло Кашин и Ржевский, укрепились в Брянске: Самозванец осадил его, но не мог взять, от храбрости защитников, которые терпели голод, ели лошадей и, не имея воды, доставали ее своею кровью, ежедневными вылазками и битвами.
Рать Лжедимитриева усилилась шайками новых донских выходцев: они представили ему какого-то неизвестного бродягу, мнимого царевича Феодора, будто бы второго сына Ирины; но Лжедимитрий не хотел признать его племянником и велел умертвить. Осада длилась, и Василий успел принять меры: боярин князь Иван Семенович Куракин из столицы, а князь Литвинов из Мещовска шли спасти Брянск. Литвинов первый с дружинами московскими достиг берегов Десны, видел сей город и стан Лжедимитриев на другой стороне ее, но не мог перейти туда, ибо река покрывалась льдом: осажденные также видели его; кричали своим московским братьям: «спасите нас! не имеем куска хлеба!» – и со слезами простирали к ним руки.
Сей день (15 декабря 1607) остался памятным в нашей истории: Литвинов кинулся в реку на коне; за Литвиновым все, восклицая: «Лучше умереть, нежели выдать своих: с нами Бог!», плыли, разгребая лед, под выстрелами неприятеля, изумленного такою смелостию; вышли на берег и сразились. Кашин и Ржевский сделали вылазку. Неприятель между двумя огнями не устоял, смешался, отступил. Уже победа совершилась, когда приспел Куракин, дивиться мужеству добрых россиян и славить Бога русского; но сам, как главный воевода, не отличился: только запас город всем нужным для осады; укрепился на левом берегу Десны и дал время неприятелю образумиться. Река встала.
Лжедимитрий соединил полки свои и напал на Куракина. Бились мужественно, несколько раз, без решительного следствия, и войско царское, оставив Брянск, заняло Карачев. Не имея надежды взять ни того, ни другого города, Самозванец двинулся вперед, мирно вступил в Орел и написал оттуда следующую грамоту к своему мнимому тестю, воеводе Сендомирскому: «Мы, Димитрий Иоаннович, Божиею милостию царь всея России, великий князь московский, дмитровский, углицкий, городецкий… и других многих земель и татарских Орд, московскому царству подвластных, государь и наследник… Любезному отцу нашему! Судьбы Всевышняго непостижимы для ума человеческого. Все, что бывает в мире, искони предопределено Небом, коего страшный суд совершился и надо мною: за грехи ли наших предков или за мои собственные, изгнанный из отечества и, скитаясь в землях чуждых, сколько терпел я бедствий и печали! Но Бог же милосердый, не помянув моих беззаконий, и спас меня от изменников, возвращает мне царство, карает наших злодеев, преклоняет к нам сердца людей, россиян и чужеземцев, так что надеемся скоро освободить вас и всех друзей наших, к неописанной радости вашего сына. Богу единому слава! Да будет также вам известно, что его величество, король Сигизмунд, наш приятель, и вся Речь Посполитая усердно содействуют мне в отыскании наследственной державы».
Сия грамота, вероятно, не дошла до Мнишка, заключенного в Ярославле, но была конечно и писана не для него, а единственно для тех, которые еще могли верить обману.
Самозванец зимовал в Орле спокойно, умножая число подданных обольщением и силою; следуя правилу Шаховского и Болотникова, возмущал крестьян: объявлял независимость и свободу тем, коих господа служили царю; жаловал холопей в чины, давал поместья своим усердным слугам, иноземцам и русским. Там прибыли к нему знатные князья Рожинский и Адам Вишневецкий с двумя или тремя тысячами всадников. Первый, властолюбивый, надменный и необузданный, в жаркой распре собственною рукою умертвил Меховецкого, друга, наставника Лжедимитриева, и заступил место убитого: сделался гетманом бродяги, презираемого им и всеми умными ляхами.
Но Василий уже не мог презирать сего злодея: еще не думая оставить юной супруги и столицы, он вверил рать любимому своему брату, Дмитрию Шуйскому, князьям Василию Голицыну, Лыкову, Волконскому, Нагому; велел присоединиться к ним Куракину, коннице татарской и мордовской, посланной еще из Тулы на Северскую землю, и если не был, то, по крайней мере, казался удостоверенным, что власть законная, невзирая на смятение умов в России, одолеет крамолу. В сие время чиновник шведский, Петрей, находясь в Москве, остерегал Василия, доказывая, что явление Лжедимитриев есть дело Сигизмунда и папы, желающих овладеть Россиею, предлагал нам, от имени Карла IX, союз и значительное вспоможение; но Василий – так же, как и Годунов – сказал, что ему нужен только один помощник, Бог, а других не надобно. К несчастию, он должен был скоро переменить мысли.
Главный воевода, Дмитрий Шуйский, отличался единственно величавостию и спесию; не был ни любим, ни уважаем войском; не имел ни духа ратного, ни прозорливости в советах и в выборе людей; имел зависть к достоинствам блестящим и слабость к ласкателям коварным: для того, вероятно, не взял юного, счастливого витязя, Скопина-Шуйского и для того взял князя Василия Голицына, знаменитого изменами. Рать московская остановилась в Волхове; не действовала, за тогдашними глубокими снегами, до самой весны и дала неприятелю усилиться. Шуйский и сподвижники его, утружденные зимним походом, с семидесятью тысячами воинов отдыхали; а толпы Лжедимитриевы, не боясь ни морозов, ни снегов, везде рассыпались, брали города, жгли села и приближались к Москве. Начальники Рязани, князь Хованский и думный дворянин Ляпунов, хотели выгнать мятежников из Пронска, овладели его внешними укреплениями и вломились в город; но Ляпунова тяжело ранили: Хованский отступил – и чрез несколько дней, под стенами Зарайска, был наголову разбит паном Лисовским, который оставил там памятник своей победы, видимый и доныне: высокий курган, насыпанный над могилою убитых в сем деле россиян. Царю надлежало защитить Москву новым войском. Писали к Дмитрию Шуйскому, чтобы он не медлил, шел и действовал: Шуйский наконец выступил [13 апреля] и верстах в десяти от Волхова уже встретил Самозванца.
Первый вступил в дело князь Василий Голицын и первый бежал; главное войско также дрогнуло: но запасное, под начальством Куракина, смелым ударом остановило стремление неприятеля. Бились долго и разошлись без победы. С честию пали многие воины, московские и немецкие, коих главный сановник Ламсдорф тайно обещал Лжедимитрию передаться к нему со всею дружиною, но пьяный забыл о сем уговоре и не мешал ей отличаться мужеством в битве.
Памятный курган воинам арзамасских и рязанских дружин, пришедших на помощь зарайским ратникам и погибших в сражении за город с польско-литовским войском шляхтича Александра Лисовского 30 марта 1608 года
В следующий день возобновилось кровопролитие, и Шуйский, излишно осторожный или робкий, велев преждевременно спасать тяжелые пушки и везти назад к Болхову, дал мысль войску о худом конце сражения: чем воспользовался Лжедимитрий, извещенный переметчиком (боярским сыном Лихаревым) и сильным нападением смял ряды москвитян; все бежали, еще кроме немцев: капитан Ламсдорф, уже не пьяный, предложил им братски соединиться с ляхами; но многие, сказав: «наши жены и дети в Москве», ускакали вслед за россиянами.
Остались двести человек при знаменах с Ламсдорфом, ждали чести от Лжедимитрия – были изрублены козаками: гетман Рожинский велел умертвить их как обманщиков, за кровь ляхов, убитых ими накануне. Сия измена немцев утаилась от Василия: он наградил их вдов и сирот, думая, что Ламсдорф с добрыми сподвижниками лег за него в жаркой сече.
Царские воеводы и воины бежали к Москве; некоторые с князем Третьяком Сеитовым засели в Волхове; другие ушли в домы. Волхов, где находилось пять тысяч людей ратных, сдался Лжедимитрию: все они присягнули ему в верности, выступили с ним к Калуге, но шли особенно, под начальством князя Сеитова. Москва была в ужасе. Беглецы, оправдывая себя, в рассказах своих умножали силы Самозванца, число ляхов, козаков и российских изменников; даже уверяли, что сей второй Лжедимитрий есть один человек с первым; что они узнали его в битве по храбрости еще более, нежели по лицу. Чернь начинала уже винить бояр в несчастной измене Самозванцу ожившему и думала, в случае крайности, выдать их ему головами; некоторые только страшились, чтобы он, как волшебник, не увидел на них крови истерзанных ими ляхов или своей собственной! Но в то же время достойные россияне, многие дворяне и дети боярские, оставив семейства, из ближних городов спешили в столицу защитить царя в опасности.
Явились и мнимые изменники болховские, князь Третьяк Сеитов с пятью тысячами воинов: удостоверенные, что Самозванец есть подлый злодей, они ушли от него с берегов Оки в Москву, извиняясь минутным страхом и неволею. Василий составил новое войско и дал начальство – к несчастию, поздно – знаменитому Ивану Романову. Сие войско стало на берегах Незнани, между Москвою и Калугою, ждало неприятеля и готовилось к битве, – но едва не было жертвою гнусного заговора. Главные сподвижники Скопина и Романова, чистых сердцем пред людьми и Богом, не имели их души благородной: воеводы, князья Иван Катырев, Юрий Трубецкой, Троекуров, думая, что пришла гибель Шуйских, как некогда Годуновых, и что лучше ускорением ее снискать милость бродяги, как сделал Басманов, нежели гибнуть вместе с царем злосчастным, начали тайно склонять дворян и детей боярских к измене. Умысел открылся.
Василий приказал их схватить, везти в Москву, пытать – и, несомненно уличенных, осудил единственно на ссылку, из уважения к древним родам княжеским: Катырева удалили в Сибирь, Трубецкого в Тотьму, Троекурова в Нижний; но менее знатных и менее виновных преступников, участников злодейского кова, казнили: Желябовского и Невтева. Встревоженный сим происшествием и вестию, что Самозванец обходит стан воевод царских и приближается к Москве другим путем, государь велел им также идти к столице, для ее защиты.
1 июня Лжедимитрий с своими ляхами и россиянами стал в двенадцати верстах оттуда, на дороге Волоколамской, в селе Тушине, думая одним своим явлением взволновать Москву и свергнуть Василия; писал грамоты к ее жителям и тщетно ждал ответа. Войско, верное царю, заслоняло с сей стороны город. Были кровопролитные сшибки, но ничего не решили. Уверяют, что князь Рожинский хотел взять Москву немедленным приступом, но что Лжедимитрий сказал ему: «Если разорите мою столицу, то где же мне царствовать? Если сожжете мою казну, то чем же будет мне наградить вас?»
«Сия жалость к Москве погубила его, – пишет историк чужеземный, который доброхотствовал злодею более, нежели России. – Самозванец щадил столицу, но не щадил государства, преданного им в жертву ляхам и разбойникам. На пепле Москвы скоро явилась бы новая; она уцелела, а вся Россия сделалась пепелищем».
Но Самозванец, имея тысяч пятнадцать ляхов и козаков, пятьдесят или шестьдесят тысяч российских изменников, большею частию худо вооруженных, действительно ли имел способ взять Москву, обширную твердыню, где, кроме жителей, находилось не менее осьмидесяти тысяч исправных воинов под защитою крепких стен и бесчисленного множества пушек?
Лжедимитрий надеялся более на измену, нежели на силу; хотел отрезать Москву от городов северных и перенес стан в село Тайнинское, но был сам отрезан: войско московское заняло Калужскую дорогу и пресекло его сообщение с Украйною, откуда шли к нему новые дружины литовские и везли запасы: дружины были рассеяны, запасы взяты, и Лжедимитрий стеснен на малом пространстве. Усильным боем очистив себе путь, он возвратился в Тушино, избрал место выгодное, между реками Моквою и Всходнею, подле Волоколамской дороги, и спешил там укрепиться валом с глубокими рвами (коих следы видим и ныне). Воеводы царские, князь Скопин-Шуйский, Романов и другие, стали между Тушиным и Москвою, на Ходынке; за ними и сам государь, на Пресне или Ваганкове, со всем двором и полками отборными: выезжая из столицы, он видел усердие и любовь народа, слышал его искренние обеты верности и требовал от него тишины, великодушного спокойствия.
Столица, действительно, казалась спокойною, извне оберегаемая царем, внутри особенным засадным войском, коим предводительствовали бояре, и которое, храня все укрепления от Кремля до слобод, в случае нападения могло одно спасти город. Воспоминали нашествие, угрозы и гибель Болотникова; надеялись, что будет то же и Самозванцу, а царю новая слава, и ежечасно ждали битвы. Но царь, готовый обороняться, не думал наступать и дал время неприятелю укрепиться в тушинском стане: Василий занимался переговорами.
С.В. Иванов. В Смутное время. 1908 г.
Уже несколько месяцев находились в Москве чиновники Сигизмундовы, Витовский и князь Друцкий-Соколинский, присланные королем поздравить Василия с воцарением и требовать свободы всех знатных ляхов. Бояре предложили им возобновить мирный договор Годунова времени, нарушенный Сигизмундом столь бессовестно; но чиновники королевские объявили, что им должно видеться для того с литовскими послами, заключенными в Москве, и что без них они не могут ничего сделать. Бояре согласились.
Жив 18 месяцев в страхе и в скуке, тщетно хотев бежать и даже силою вырваться из неволи, Олесницкий и Госевский снова явились в Кремлевском дворце, как послы, с верющею [верительной] грамотою королевскою; говорили, спорили, расходились с неудовольствием, чтобы опять сойтися. Мы желали мира: ляхи желали только освободить единоземцев своих из рук наших. Исполняя их требование, царь велел привезти в Москву воеводу Сендомирского и дозволил ему беседовать с ними тайно, наедине, без сомнения не в миролюбивом к нам расположении… Но Самозванец был уже под Москвою! Имея одну цель: отнять у него союзников-ляхов, Василий дозволил князю Рожинскому наведываться, словесно или письменно, о здоровье послов Сигизмундовых: для чего сановники литовские ездили из тушинского стана в Москву свободно и безопасно. Наконец, 25 июля, послы заключили с боярами следующий договор:
«1) В течение трех лет и одиннадцати месяцев не быть войне между Россиею и Литвою.
2) В сие время условиться о вечном мире или двадцатилетием перемирии.
3) Обоим государствам владеть, чем владеют.
4) Царю не помогать врагам королевским, королю врагам царя ни людьми, ни деньгами.
5) Воеводу Сендомирского с дочерью и всех ляхов освободить и дать им нужное для путешествия до границы.
6) Князьям Рожинскому, Вишневецкому и другим ляхам, без ведома королевского вступившим в службу к злодею, второму Лжедимитрию, немедленно оставить его и впредь не приставать к бродягам, которые вздумают именовать себя царевичами российскими.
7) Воеводе Сендомирскому не называть сего нового обманщика своим зятем и не выдавать за него дочери.
8) Марине не именоваться и не писаться московскою царицею».
Договор утвердили с обеих сторон клятвою; но не Василий, а Сигизмунд достиг цели. Коварство ляхов открылось еще во время переговоров.
Чиновники, посыланные от князя Рожинского из Тушина в Москву, действовали как лазутчики, высматривая укрепления города и стана ходынского. Царь был неосторожен: воеводы еще неосторожнее. Сперва они бодрствовали неутомимо, днем и ночью, в доспехах и на конях; вдали легкие отряды, вокруг неусыпная стража. Но тишина, бездействие и слух о мире с ляхами уменьшили опасение: россияне уже не береглися; а гетман Лжедимитриев, ночью, с ляхами и козаками внезапно ударил на стан ходынский: захватил обоз и пушки, резал сонных или безоружных и гнал изумленных ужасом беглецов почти до самой Пресни, где их встретило войско, высланное царем с людьми ближними, стольниками, стряпчими и жильцами. Тут началася кровопролитная битва, и неприятель должен был отступить; его теснили и гнали до Ходынки.
Василий мог справедливо жаловаться, что ляхи, заключая мир, воюют и нападают врасплох: он скоро увидел их совершенное вероломство. Исполняя договор, Василий вместе с послами немедленно отпустил в Литву воеводу Сендомирского, Марину и всех их знатных единоземцев из Москвы и других мест, где они содержались; дал им для хранения воинскую дружину под начальством князя Владимира Долгорукого и надеялся, что Рожинский, Вишневецкий и другие паны, извещенные об условиях мира, оставят Лжедимитрия: но никто из них не думал оставить его!
Они дали время послам и Мнишку удалиться и снова начали воевать, не внимая убеждениям наших бояр, которые писали к ним, что обман столь гнусный достоин не витязей державы христианской, а подлых слуг злодея подлого; что если Рожинский имеет хотя искру чести в душе, то обязан выдать Самозванца для казни и немедленно выйти из России. Число ляхов грабителей еще умножилось семью тысячами всадников, приведенных в Тушино усвятским старостою Яном Петром Сапегою. Сей рыцарь знатный, воинскими способностями превосходя всех иных сподвижников бродяги, превосходил их и в бесстыдстве: знал, кто он; смеялся над ним и над россиянами; говорил: «мы жалуем в цари московские, кого хотим»; жег, грабил и хвалился римским геройством! Сапега хотел битвою решить судьбу Москвы и тревожил нападениями стан ходынский: Рожинский, управляя Самозванцем, медлил, ожидая скорой измены в столице: ибо там уже действовали злодеи, ненавистники Василиевы; сносились еще с послами литовскими, сносились и с гетманом Лжедимитриевым, давали им советы, готовили предательство.
Нетерпеливый и гордый Сапега отделился от гетмана; желал начальствовать независимо, завоевать внутренние области России и с пятнадцатью тысячами двинулся к лавре Сергиевой, чтобы разграбить ее богатство. С другой стороны, пан Лисовский, именем Димитрия присоединив к своим шайкам 30 000 изменников тульских и рязанских, взял Коломну, пленил тамошнего воеводу Долгорукого, епископа Иосифа, детей боярских и шел к Москве. Царь выслал против него князей Куракина и Лыкова, которые на берегах Москвы-реки, на Медвежьем броду, сражались целый день, разбили неприятеля, освободили коломенских пленников – и Лисовский, хотев явиться в Тушине победителем, явился там беглецом с немногими всадниками. Царские воеводы Иван Бутурлин и Глебов снова заняли Коломну.
Ян Петр Сапега – государственный и военный деятель Великого княжества Литовского
Сей успех был предтечею бедствия. Князья Иван Шуйский и Григорий Ромодановский, посланные с войском вслед за Сапегою, настигли его между селом Здвиженским и Рахманцовым: отразили два нападения и взяли пушки. Казалось, что они победили; но Сапега, раненный пулею в лицо, не выпускал меча из рук и, сказав своим: «отечество далеко; спасение и честь впереди, а за спиною стыд и гибель», третьим отчаянным ударом смешал москвитян. Винили воеводу Федора Головина, который первый дрогнул и бежал; хвалили Ромодановского, который не думал о сыне, подле него убитом, и сражался мужественно: другие следовали примеру Головина, а не Ромодановского, и, быв числом вдвое сильнее неприятеля, рассыпались, как стадо овец.