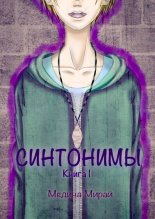Западная социология: современные парадигмы. Антология Коллектив авторов

Составители, авторы библиографических очерков:
Г. Н. Соколова, Л. Г. Титаренко
Рецензенты:
Д. Г. Ротман, директор Центра социологических и политических исследований БГУ, доктор социологических наук, профессор
С. А. Шавель, заведующий отделом социологии инноваций Института социологии НАН Беларуси, доктор социологических наук, профессор
© Соколова Г. Н., Титаренко Л. Г., составление, текст, 2015
© Оформление. РУП «Издательский дом «Беларуская навука», 2015
От авторов-составителей
Предлагаемая вниманию читателей антология по современной западной социологии конца XX – начала XXI в. содержит оригинальную коллекцию текстов по современной западной социологии, в которых излагается логика ее развития, видение процесса ее обогащения и изменения, формирования новых этапов в осмыслении и интерпретации происходящих в обществе процессов. Данный подход позволяет провести классификацию существующих и возникающих концепций, теоретических и эмпирических поисков социологами ответа на поставленные жизнью вопросы.
Данная книга значительно отличается от хрестоматии, изданной теми же авторами-составителями в 2008 г. в издательстве «Тесей». В новом издании внимание авторов сконцентрировано на «Новейших концепциях современности», причем в антологию включены четырнадцать новых текстов (из тридцати трех), которые переведены для этого издания.
Преимущества и новое качество данного издания состоят в следующем.
Во-первых, в отличие от прежнего издания, включающего тексты классической (Р. Парк, Ф. Знанецкий, П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон и др.) и неклассической (А. Шютц, П. Бергер, Дж. Г. Мид, Г. Блумер и др.) социологии XX века, новая антология содержит только тексты, относящиеся к этапу постнеклассической социологии. Сюда включены авторы, которые являются признанными мэтрами современного этапа развития социологии (Э. Гидденс, П. Бурдье, Н. Луман, Ш. Айзенштадт и др.).
Во-вторых, в антологии главное внимание уделено новейшим концепциям, авторы которых ведут сегодня активную исследовательскую работу. Речь идет о результатах исследований, которые уже успели оказать влияние на общее течение мировой социологической мысли и получили мировую известность (И. Валлерстайн, З. Бауман, А. Турен).
В-третьих, в научный оборот отечественной социологии вводятся новые парадигмы, такие как экономическая (Ф. Блок, Ф. Доббин, Н. Флигстин, Р. Сведберг); сетевой подход в социологии (М. Грановеттер, П. ДиМаджио, П. Уолтер); парадигма информационного общества, связанная с именем М. Кастельса; парадигма глобализма (У. Бек и др.). Эти тексты могут расширить поле профессиональных интересов как социологов, так и тех, кто интересуется развитием современной западной социологической мысли, и послужить им хорошей основой для усвоения современного социологического знания.
Особо отметим, что в текст антологии включены работы, относящиеся к марксистской традиции – к неомарксизму, который продолжает успешно развиваться в западной социологической мысли (М. Буравой и О. Э. Райт). Также отметим главу, посвященную феминистским концепциям и теориям сексуальности (Н. Чодоров, Д. Викс и др.), поскольку данное направление выдвинулось в качестве самостоятельного именно во второй половине XX в.
Важнейший элемент построения хрестоматии связан с отбором авторов. В каждом случае мы отбирали ведущих ученых, которые не просто представляют то или иное исследовательское направление, но и сами входят в число его создателей, а их работы дают наиболее полное представление о данном направлении. В одних случаях речь идет об изложении авторских концепций, в других – предлагаются аналитические обзоры исследований в той или иной области, которые демонстрируют и позицию авторов данного обзора.
Наш многолетний научно-исследовательский и преподавательский опыт свидетельствует о том, что полноценное обучение студентов высших учебных заведений неразрывно связано с приобщением будущих специалистов к творческому наследию классиков, а также к трудам наиболее интересных и плодовитых мыслителей современности. Вместе с тем многие книги, составляющие «золотой фонд» науки социологии, оказываются труднодоступными или вообще недоступными даже для преподавателей. Поэтому в предлагаемой Антологии собраны воедино, структурированы и снабжены необходимыми комментариями самые яркие и информационно насыщенные выдержки из произведений, отражающие содержательную глубину фундамента современной западной социологии.
Антология раскрывает эволюцию идей и поисков, анализ внутренней лаборатории мыслителей по исследованию социальных проблем общества с разных точек зрения и различных позиций. Каждая представленная концепция имеет основание для своего существования, содержит в себе новые грани обогащения научного знания, хотя и имеет те или иные ограничения, связанные с определенным историческим этапом развития. Полагаем, что эта книга принесет пользу как научным работникам, преподавателям и студентам, так и всем желающим ознакомиться с трудными путями познания, по которым шла и продолжает идти социальная наука.
Г. Н. Соколова, Л. Г. Титаренко
Введение
В развитии мировой социологии, несмотря на ее неоднородность, можно выделить ряд проблем, характеризующих содержание и организацию этой науки на современном этапе. Что касается содержательной характеристики нынешнего этапа мировой социологии, то она по-прежнему находится в состоянии теоретико-методологического кризиса, начавшегося со второй половины XX века, уже прошедшего стадию обострения, но еще не нашедшего своего разрешения. Речь идет о противоборстве существующих теоретических ориентации и подходов к социальной реальности, выражением чего является плюрализм социологических парадигм: объективистской, активистской, интеракционистской, феноменологической, бихевиористской, неопрагматистской и др.
Проблема не только в наличии многих подходов к определению природы общества, возможностей его познания или активного преобразования. Теоретический плюрализм неразрывно связан и с отсутствием единого (общепринятого среди социологов, а также используемого для практических целей) методологического подхода к определению современной эпохи. Одни авторы упорно настаивают на том, что мир еще находится на стадии индустриализма, другие называют современность модерном или поздним модерном, тогда как третьи утверждают, что человечество уже преодолело постмодерн и движется в неизвестном новом направлении. Отсюда – разнообразие рекомендаций, касающихся социальной политики, будущего демократии, наций, государства и т. д. Подчеркнем, что речь идет о взглядах признанных мэтров современной социологии, хорошо знающих историю науки и заинтересованно ищущих консенсус в этом вопросе. Однако ни синтетическая попытка преодоления противоположности субъективизма и объективизма и интеллектуальной фрагментации знаний в социологии, предпринятая Э. Гидденсом, ни оригинальная интегралистская концепция П. Бурдье, равно как и другие попытки (теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса, системная теория Н. Лумана), не были однозначно восприняты большинством социологов мира как приемлемые. Социология все еще остается «открытым проектом», незавершенность которого отнюдь не тождественна низкому уровню развития науки, хотя и не позволяет считать кризис до конца преодоленным.
Вторая важная теоретико-методологическая проблема, непосредственно связанная с первой, – расширение предметной области социологии. Четкие границы социологии размываются, все новые процессы и явления становятся фокусом социологического исследования. Так, известный американский социолог Дж. Ритцер выпустил в 2004 г. новую книгу, посвященную изучению глобализации того, что реально не существует («The Globalization of Nothing», 2004). Ничто – это обобщенный образ симулякров, пустых социальных форм без субстанционального содержания, которыми столь богата современная массовая культура США, и которые, по мнению автора, являются результатом уродливой глобализации, отрывающей локальное от глобального, реальное от виртуального. Ритцер не только ввел понятие «ничто» как предмет критического исследования, но и доказал, что «ничто», как важная характеристика современного процесса глобализации, также может стать предметом социологического изучения, как и любой другой предмет или аспект общества постмодерна.
Размывание границ социологии, сближение ее с другими социальными науками проявляется и в том, что ряд традиционных предметов исследования теперь рассматриваются как междисциплинарные. Так, социология (наряду с другими науками, прежде всего – психологией и биологией) привлекается к изучению военных конфликтов в Юго-Восточной Азии, состояний детства и взрослости, этнической сегрегации, границ памяти, процесса умирания и сохранения здоровья человека, синтеза экологического и экономического развития партнерства европейских и азиатских институтов, и т. д. И все это – не упоминая этнографических, этнометодологических, глобализационных процессов, ставших предметом социологии несколькими десятилетиями ранее. На мировые социологические форумы собираются представители самых разных профессий, которые совместно заняты проведением современных социологических исследований прикладного характера. По сути дела, социология не столько занята конструкцией (или реконструкцией) собственного дисциплинарного поля, что было ей присуще как академической дисциплине ранее, сколько участвует в диалоговом режиме с другими науками в совместной разработке междисциплинарных полей исследования.
Отличительной чертой конца прошлого века в развитии социологии явилось появление большого числа новых парадигм. изначально сконструированных для изучения отдельных новых процессов или фрагментов социума, или предлагавших новый подход к их пониманию. Появились или значительно окрепли такие направления, как историческая социология, идея многообразия типов общества модерна. Именно так появилась в социологии и парадигма культурной травмы, созданная П. Штомпкой для объяснения посткоммунистической трансформации ряда европейских стран. Однако по прошествии нескольких лет оказалось, что данная парадигма вполне подходит и для понимания других процессов мирового развития, связанных с болезненными переходными состояниями общества, социальных групп, отдельных людей, с необходимостью культурной адаптации к новым условиям существования человечества. Как хорошо показал один из признанных лидеров теоретической социологии Дж. Александер (Alexander J. Towards a Theory of Cultural Trauma // Cultural Trauma and Collective Identity, 2004), парадигма культурной травмы помогает изучать современную социальную поляризацию – процесс, болезненный для ее участников, конструируемый, а не естественно возникающий, полный рисков, но одновременно продуцирующий новые формы групповой ответственности. События 11 сентября 2001 г. – пример культурной травмы, осмысление которой привело не только к радикальному изменению представлений о мировых конфликтующих силах, но и к формированию новых социальных и национальных типов идентичности в разных странах мира.
Укажем также на расширяющийся разрыв между социологами-теоретиками и социологами-практиками, который резко усилился во второй половине XX века и продолжает иметь место в XXI веке. Абсолютное большинство социологов мира занято прикладными проблемами и нуждается в разработке корректных методик и исследовательского инструментария. Лишь малая толика ученых разрабатывает социологию на макроуровне. Оба лагеря всегда отличались отсутствием интереса друг к другу: теоретики работают «для себя» и нужд университетского образования, тогда как практики, получая конкретные заказы на те или иные исследования, заняты сугубо прикладными вопросами и полностью абстрагируются от проблем общетеоретического уровня. Представители лагеря практиков имеют свои журналы, организуют свои корпоративные группы, не считая нужным заниматься теоретической интерпретацией предмета исследования; они рассматривают социологию как рыночную индустрию, сугубо прикладную дисциплину. В свою очередь, теоретики также предпочитают общаться в своем узком профессиональном кругу и не иметь ничего общего с практиками, для которых наука – средство зарабатывания денег.
Данная ситуация, иногда называемая «балканизацией» науки, характерна сегодня для любой страны, включая постсоветские государства: социологи-практики гораздо более востребованы, чем теоретики; причем оба лагеря критикуют друг друга. Данная особенность развития социологии лишь углубляет кризис, ибо без «хорошей теории» (хотя бы отраслевого уровня) практика, в конечном счете, лишается плодотворной «питательной среды» и не может ни объяснить, ни верно интерпретировать сложные современные процессы и явления. Засилие эмпирии без развития теории не обогащает социологию и не позволяет ей служить эффективным средством в решении тех или иных социальных проблем, как на этом настаивают сами эмпирики.
Современная социология имеет некоторые новые черты и в плане организационного развития. Во-первых, углубляется неравенство в формах, интенсивности работы, финансовых средствах, которыми располагают социологи в разных странах и регионах мира. После распада системы социализма социологи из постсоветских стран намного хуже представлены в управленческой структуре международных социологических организаций, они реже участвуют в мировых форумах (или же их участие зависит от наличия богатых спонсоров). За редким исключением, они не развивают новых собственных теорий общесоциологического уровня, а заняты «проверкой» (практическим приложением) западных концепций к постсоветскому обществу, исследованием особенностей протекания социальных проблем в своем регионе, стране, что в целом снижает их вклад в развитие мировой социологии, делает их теоретические наработки «вторичными», не имеющими большого значения в науке.
Во-вторых, поскольку социологи из стран так называемого «второго» и «третьего» эшелонов не могут на равных конкурировать с социологами из наиболее обеспеченных стран, не печатаются регулярно (или мало печатаются) в международных журналах на английском языке, издаваемых на Западе, то даже их реальные научные достижения часто остаются неизвестными западным коллегам, не получают заслуженного мирового признания. В рейтинги цитирования включаются в основном международные журналы на английском языке, что еще больше увеличивает разрыв между социологами, постоянно пользующимися английским языком, и социологами остальных стран мира, публикующимися на других языках. Гегемония английского языка широко обсуждается в мировом социологическом сообществе, однако положение дел, а именно – неравенство в социальных науках, существенно не меняется. В свою очередь, новые западные публикации далеко не всегда известны социологам развивающихся стран, что создает непреодолимые барьеры в профессиональном обмене идеями, организации полноправного научного диалога социологов разных стран и регионов. И хотя все больше западных публикаций переводятся на русский язык, все еще остается проблемой свободный доступ к западной социологической литературе, развитие коммуникации между социологами разных стран.
Социология с самого своего возникновения была и остается интернациональной по духу и целям. Поэтому и сегодня необходимо хорошо понимать важность развития и углубления профессиональных связей социологов, активного включения ученых из постсоветских стран в международные профессиональные сети как посредством их членства в национальных ассоциациях (а этих последних – в международных), так и через международные исследовательские коллективы и проекты. Только профессиональная активность и инициативность социологов из постсоветских стран позволят им на равных включаться в профессиональный диалог, непосредственно участвовать в разработке теоретико-методологических конструктов, осмысливать новую роль своей науки в XXI веке и, отвечая таким образом на «вызовы» глобализации, пытаться преодолеть симптомы ее нынешнего кризиса.
1. Экономические парадигмы
Блок Фред. Роли государства в хозяйстве
Фред Блок (р. 28.06.1947, Нью-Йорк, США) – один их ведущих экономических социологов в сфере изучения хозяйственных идеологий и экономической политики. В 1968 г. получил степень бакалавра по социологии и истории в Колумбийском колледже, в 1970 г. – степень магистра социологии в Калифорнийском университете, в 1974 г. – степень доктора социологии в том же университете.
В настоящее время Ф. Блок является профессором Университета Калифорнии в Беркли и Университета Калифорнии в Девисе, США. Читает курсы – экономическая социология, корпорации и общество, политика и общество и др. По состоянию на 2001 г. Ф. Блоком опубликовано более 30 профильных статей и 5 научных монографий. Труды Ф. Блока российским специалистам пока почти не знакомы. Между тем он хорошо известен своей книгой «Постиндустриальные возможности», нацеленной на критику неоклассического направления в экономической теории; стал одним из авторов самого влиятельного сборника работ по экономической социологии по редакцией М. Смелсера и Р. Сведберга, написав важную главу о роли государства в хозяйственной жизни.
Еще студентом Колумбийского колледжа он посещал курс Т. Хопкинса «Социология хозяйств», когда в американской социологии не было такого понятия, как экономическая социология. Примерно с этого времени он стал ощущать себя социологом хозяйств (a sociologist of economies) и продолжателем традиций анализа экономического процесса К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма.
Основные работы: «Постиндустриальные возможности: критика экономического дискурса» (1990); «Роли государства в хозяйстве» (1994); «Государство-вампир и другие мифы и заблуждения относительно американской экономики» (1996).
В предлагаемом фрагменте книги «Роль государства в хозяйстве» Ф. Блок проводит сравнение старой и новой парадигм анализа роли государства в хозяйственной жизни общества и обосновывает более полный и более плодотворный набор аналитических инструментов в рамках новой парадигмы.
Блок Фред. Роли государства в хозяйстве[1]
Роль государства в хозяйстве уже не одно столетие является центральной проблемой политической и социальной теории. И в продолжительной борьбе между либерализмом и абсолютистскими режимами, и в конфликте между «социализмом» и «капитализмом» ключевое место занимает вопрос о том, какую роль государство должно играть в хозяйстве. В результате на исследования в данной области существенно повлияли эти фундаментальные нормативные дебаты. В то же время литература по данной теме весьма обширна именно вследствие чрезвычайного разнообразия видов хозяйственной деятельности государства. В самом деле, трудно даже вообразить себе вид хозяйственной деятельности, который, по крайней мере где-либо или когда-либо, не подвергался бы прямому регулированию со стороны государственной власти. Сочетание сложной и неоднозначной истории вопроса, с одной стороны, и великое множество проблем, рассматриваемых в данной области, с другой, делают эту тему очень не простым предметом для изложения в одной главе при условии ее ограниченного объема.
Тем не менее эта задача все-таки представляется нам посильной по двум причинам. Во-первых, в данной главе будет рассматриваться только опыт «современного» государства – т. е. той его формы, которая возникла в Европе в эпоху ранней современности и затем стала универсальной, распространившись в результате развития конкурентной международной системы государств, охватившей весь земной шар. Во-вторых, недавно появившиеся работы по экономической социологии и смежным дисциплинам позволили по-новому поставить вопрос о роли государства в хозяйстве. В этих работах подвергаются сомнению способы определения роли государства в хозяйстве, унаследованные нами от социальных теоретиков XIX в. Следовательно, мы можем взглянуть на этот вопрос, анализируя столкновение старой и новой парадигм. Первый раздел данной главы посвящен различным теоретическим позициям в рамках старой парадигмы. В нем также высказываются предположения относительно того, почему прежние теоретические объяснения предмета кажутся неудовлетворительными. Во втором же разделе излагается новая парадигма и обозначаются некоторые направления исследований, которые она открывает.
Старая парадигма строится вокруг двух основных исходных предположений. Первое заключается в том, что государство и хозяйство – это две аналитически самостоятельные общности, каждая из которых функционирует согласно собственным основополагающим принципам. Данное предположение позволяет концептуализировать различные уровни «вмешательства» государства в функционирование хозяйства. Второе положение состоит в том, что все общества, реально существующие или воображаемые, можно расположить вдоль единого континуума, с одной стороны которого располагается «ночной сторож» (night watchman state) – минималистское государство классического либерализма, а с другой – общество, в котором государство взяло на себя ключевые экономические функции производства и распределения, практически перекрыв возможность рыночных трансакций.
Нормативные дебаты в рамках старой парадигмы сосредоточены на поиске идеального места на данном континууме. Часто утверждается, что этот континуум в точности воспроизводит политический спектр левых и правых движений. Считается, что по мере смещения вправо предпочтение отдается все менее значительной роли государства, а сдвиг влево предполагает поддержку более сильной его роли. Различные позиции в рамках старой парадигмы следует анализировать, рассматривая аргументы, которые они используют для оправдания вмешательства государства в хозяйственную деятельность. Хотя на практике эти аргументы пересекаются, среди них можно выделить пять «идеальных типов», которые вполне логично ранжируются от более «правых» до более «левых».
Тип 1. Государство общественных благ (public goods state)
Среди объяснений вмешательства государства в хозяйственную деятельность самой «правой» является идея о том, что государство должно обеспечивать только те общественные блага, которые рынок не может произвести сам. Общественные блага определяются как товары или услуги, которые, «будучи предоставленными одному человеку, могут быть доступны другим без каких бы то ни было дополнительных затрат с их стороны» [Pearce, 1986]. Такая характеристика создает препятствия на пути рыночного производства этих товаров, поскольку предоставляющий их предприниматель не может получить оплату от большинства получателей этих благ. Еще Адам Смит писал, что у суверена есть три обязанности: защита отечества, обеспечение справедливости и «возведение и поддержание общественных институтов и механизмов, которые, даже если они в высшей степени выгодны большей части общества, тем не менее имеют такую природу, что выгода от их работы никогда не может возместить затраты одного индивида или небольшой группы» [Smith, 1776].
Первым важным типом общественных благ являются товары и услуги, которые не могут быть произведены с целью извлечения прибыли отдельными предпринимателями, действующими на свой страх и риск. Наглядный тому пример – городские парки, извлечь из которых прибыль невозможно в силу сложности сбора платы за их посещение. Другие примеры имеют менее ярко выраженный характер и занимают промежуточное положение между чистыми общественными благами и чистыми частными благами. В этих случаях выгоды от увеличения предложения данного блага превышают размер разумной оплаты, которую можно получить от его потребителей. Классический пример – платные автомагистрали и каналы; теоретически они могут быть построены частными предпринимателями, взимающими плату за их использование. Однако поначалу ее размер должен был бы превышать стоимость иных способов передвижения в то время, и нежелание потребителей переходить на более дорогой вид транспорта поставило бы выгодность предприятия под угрозу. Но поскольку новый более эффективный способ передвижения принес бы немалую выгоду многим жителям данной территории, если бы они могли им воспользоваться, общественное финансирование становится необходимым, чтобы обеспечить реализацию выгод от эффективности данного блага. Аналогичный пример – фундаментальные научные исследования.
Второй важный тип общественных благ представляют действия правительства, направленные на сокращение негативных экстерналий (externalities), которые возникают в результате частной хозяйственной деятельности. Такие экстерналии, как загрязнение окружающей среды, небезопасные условия труда, вредные продукты питания, можно назвать «общественным злом» (public bads) [Roemer, 1992]. Их классическое объяснение приводит К. Маркс в «Капитале», описывая продолжительность рабочего дня [Marx, 1867]. Конкуренция между фирмами порождает у каждой из них стимул увеличивать продолжительность рабочего дня, что является общественным злом, отрицательно сказываясь на здоровье рабочих. Английское фабричное законодательство наделило государство властью регулировать продолжительность рабочего дня и непосредственно вовлекло его в производство общественного блага – в процесс систематического регулирования продолжительности рабочего дня. Аналогичные аргументы можно использовать и применительно к другим проявлениям общественного зла – например, поддельным товарам, загрязнению окружающей среды, захвату отдельных рынков олигополиями и монополиями.
Наконец, последний тип включает общественные или смешанные (одновременно общественные и частные) блага, в случае которых индивидуальное истребление имеет значительные позитивные экстерналии, однако существующее распределение доходов удерживает частное потребление ниже оптимального уровня. Именно этот аргумент часто высказывался в пользу развития государственного образования: образованная рабочая сила приносит больше экономических выгод, однако если образование обеспечивается только рынком, многие не смогут его себе позволить. Аналогичные аргументы высказывались в отношении здравоохранения, жилья и питания; позитивные экстерналии от жизнедеятельности здорового, сытого населения, имеющего хорошее жилье, делают неэффективной ситуацию, в которой эти услуги предоставляются одним только рынком.
Концепция государства как производителя «общественных благ» не дает определенного ответа на вопрос о том, где именно роль государства в хозяйстве должна располагаться на континууме между вариантом «ночного сторожа» и полным государственным контролем над экономикой. Однако большинство авторов, рассуждающих об общественных благах, твердо придерживаются убеждения, что именно конкуренция между частными агентами ведет к оптимальному результату, и следовательно, общественное производство следует удерживать на минимальном уровне.
Тип 2. Государство макроэкономической стабилизации (macroeconomic stabilization state)
Вторая распространенная концепция роли государства акцентирована на смягчении влияния бизнес-цикла. Поскольку рыночные хозяйства характеризуются чередованием периодов подъема и спада, высказывались убедительные аргументы в пользу попыток государства выровнять данный цикл. Это означает сдерживание хозяйства в период бума и предупреждение экономического спада, удержание его под контролем. И хотя подобную роль государства можно описать как производство общественного блага – большей экономической стабильности и предсказуемости, – макроэкономическую стабилизацию обычно описывают в других терминах. В действительности в США консерваторы зачастую высказывались против активного вмешательства государства в процесс макроэкономической стабилизации. Они утверждают, что ограничение его роли обеспечением стабильного увеличения предложения денег гораздо более эффективно, нежели его более широкое вмешательство. Одним словом, монетаристы выступали против функции макроэкономической стабилизации, заявляя, что единственное, что требуется от правительства, – это обеспечить общественное благо стабилизации денежного обращения [Friedman, 1963].
Хотя концепция макроэкономической стабилизации обычно связывается с распространением кейнсианской экономической теории, она возникла задолго до Кейнса. В XIX в. периодические кризисы финансовой системы интенсифицировали бизнес-цикл и подталкивали к разнообразным попыткам стабилизировать экономику. Под давлением населения правительства пытались поддерживать постоянный доступ к кредитам, учреждая институты кредитования в критической ситуации, регулируя банковскую сферу и препятствуя вывозу золота [Polanyi, 1944]. <…>
Но, несмотря на эти интеллектуальные предпосылки, понятие «стабилизирующее государство» обычно ассоциируется с кейнсианской революцией – массовым распространением в 1930–1940-е годы идеи о том, что государственные средства можно и должно использовать как противовес бизнес-циклу [Hall, 1989]. Пожалуй, меньше всего дебатов вызвала идея Кейнса о действии «автоматических стабилизаторов» (например, расходов на страхование от безработицы), направленном на поддержание покупательной способности потребителей даже в период роста безработицы. Более противоречива идея о целенаправленном увеличении государственного дефицита как средстве стимулирования слабого хозяйства. Предполагается, что снижение налогов увеличит покупательную способность потребителей, а увеличение расходов государства призвано укрепить совокупный спрос и стимулировать частные инвестиции, которые позволят предотвратить экономический спад. Однако многие современные экономисты опровергают мнение об эффективности подобного наращивания дефицита. Один из аргументов заключается в том, что увеличение государственных займов приводит к соответствующему сокращению покупательной способности [Barro, 1990].
С помощью идеи государственной стабилизации хозяйства путем ограничения влияния бизнес-цикла можно оправдать множество действий правительства – изменение обменного курса, корректировку налогового кодекса, увеличение прав профсоюзов, снижение или повышение расходов общественного сектора на инфраструктуру и общественные блага, распространение или сокращение предоставляемых государством трансфертов и социальных программ, и т. д. И здесь также понятие стабилизирующего государства не предполагает определенного вывода о том, насколько активной должна быть роль государства в хозяйственной деятельности.
Тип 3. Государство социальных прав (social rights state)
В третьем идеальном типе повышение роли государства в хозяйственной деятельности связывается с более глубоким осознанием смысла гражданства. Этот тезис опирается на два явления, о которых говорили аналитики общественных благ: роль государства в регулировании частных трансакций и его роль в обеспечении определенных товаров и услуг для всех граждан.
Наиболее влиятельной в этой традиции является концепция Т. Маршалла о прогрессирующем развитии института гражданства в западных демократиях [Marshall, 1950]. По мнению Маршалла, этот институт зародился в XVIII в., однако в то время ограничивался гражданскими правами, обеспечивавшими защиту граждан от произвола государственной власти. В следующем столетии, когда доступ к избирательному праву был расширен, гражданские права послужили основой для обретения политических прав. Это, в свою очередь, способствовало развитию в XX в. социальных прав, когда граждане начали использовать избирательное право для защиты от стихии рыночных сил путем более интенсивного государственного регулирования хозяйства и введения более значительного государственного обеспечения в случае болезни, инвалидности и старости.
Согласно Маршаллу, развитие социальных прав вынуждало государство играть более активную роль в преодолении последствий рыночных процессов в сфере распределения. Действия государства отчасти способствовали «декоммодификации» рабочей силы, обеспечивая ее источниками дохода помимо тех, что предоставлял рынок.
Концепция Маршалла иллюстрирует общее развитие современного государства благосостояния (welfare state), однако едва ли объясняет существенные вариации в социальных правах в различных рыночных обществах. Почему одни общества давным-давно признали всеобщее право на доступ к медицинской мощи, а другие (например, США) по-прежнему бесконечно далеки от этого? Неясно также, где пролегают внешние границы социальных прав. Велось много дискуссий, например, о том, должны ли граждане иметь право на занятость. Ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение для выработки позиции о том, насколько активной должна быть роль государства в хозяйстве. Словом, концепция социальных прав (как и другие подобные концепции) не дает определенного ответа на вопрос о том, в какой точке на описанном нами континууме роль государства была бы оптимальной.
Тип 4. Государство развития (developmental state)
В XX в. в концепции государства развития наметилось два основных течения. Первое представляет собой попытку осмыслить опыт других стран, успешно справившихся с проблемами запаздывающего развития (late developers). Ключевой работой здесь является «Экономическая отсталость в исторической перспективе» Александра Гершенкрона, в которой он показывает, что страны Западной Европы, позднее вставшие на путь индустриализации, в отличие от Англии полагались на активную роль государства, взявшего на себя роль частных инвесторов. Что касается более новых работ, то все больше авторов настаивают на том, что успех Японии после Второй мировой войны, а позднее – Южной Кореи, Тайваня и Гонконга следует связывать с деятельностью государства развития, которое успешно поддерживало нарождающиеся отрасли и направляло поток финансирования на поддержание высокого уровня инвестиций в производстве [Gerschenkron, 1962].
Эти работы постепенно начали сливаться со вторым течением в рамках этой концепции, которое подчеркивает, что уровень частного инвестирования в рыночных хозяйствах может быть хронически недостаточным, и поэтому для обеспечения адекватного объема инвестиций необходимо постоянное вмешательство государства. Это один из наиболее радикальных тезисов, выдвинутых Кейнсом в «Общей теории…»: он предположил, что функцию инвестирования в конечном счете должно выполнять государство. Кейнс опасался, что предприниматели, столкнувшись с ситуацией неопределенности, не захотят рисковать новыми инвестициями в масштабе, который был бы достаточен для поддержания экономического роста. Лишь обобществление (socializing) инвестиционной функции могло обеспечить полноценное использование экономических ресурсов. Этот тезис имеет аналитически иной характер, нежели идеи стабилизирующего государства, также встречающиеся в работах Кейнса. Последние предполагают необходимость периодического вмешательства государства в целях преодоления последствий бизнес-цикла, в то время как тезис об огосударствлении инвестиций (socialization-of-investment argument) предполагает необходимость постоянной экспансии экономической роли государства. <…>
В 1980-е годы эти предложения в Швеции потерпели поражение, однако кейнсианская концепция государства развития возродилась в иной форме – в виде поддержки высокого уровня государственных расходов на инфраструктуру как средства стимулирования частных инвестиций и общего уровня инвестирования в целом. Конечно, обеспечение инфраструктуры государством легко встраивается в концепцию общественных благ. Однако нынешний масштаб подобных практик в таких странах, как Германия, Франция и Япония, выходит далеко за рамки этой концепции. Значительные расходы государства на развитие транспорта, коммуникаций, энергетики, а также научно-исследовательскую деятельность призваны способствовать частным инвестициям, ускорять технологический прогресс и повышать уровень конкурентоспособности на международном рынке. К концу 1980-х годов эта инфраструктурная версия государства развития получила широкое распространение даже в США [Reich, 1991].
Тип 5. Социалистическое государство
Сущность пятого идеального типа государства заключается в том, что его экономическая роль должна быть расширена, чтобы преодолеть несправедливость, вызванную рыночным распределением ресурсов. В марксистской традиции рынок и частная собственность трактуются как источники неравенства и отчуждения, которые можно уничтожить только путем отмены частной собственности. При этом Маркс и Энгельс полагали, что как только частная собственность на средства производства будет отменена, члены общества смогут организовывать и контролировать хозяйственную деятельность без формирования мощного аппарата государственной власти. Но на практике марксистские режимы привели к построению очень сильного государства, и выполняемый им широкий спектр хозяйственных видов деятельности представляет собой крайний случай государства развития [Skocpol, 1979]. Экономические провалы советской модели в 1970-е и 1980-е годы не отменяют исторического факта: в ряде стран хозяйственное развитие осуществлялось во многом в стиле советского режима.
Фундаментальным в концепции социалистического государства является вопрос о том, что же в рыночном хозяйстве ведет к неприемлемой несправедливости. Представители одного течения подчеркивают, что рынки усиливают дифференциацию в обществе на бедных и богатых и в результате для бедных справедливость оказывается недостижимой. Представители другого показывают, что рыночные трансакции по природе своей негуманистичны: они подчиняют человеческую деятельность инструментальным расчетам, которые заставляют людей отказываться от своих основополагающих потребностей и убеждений или идти на компромиссы по их поводу. Сторонники обоих этих течений вторят влиятельной концепции научного марксизма об эксплуатации и концепции критического марксизма об отчуждении [Gouldner, 1980]. Они также предлагают аргументы, которые в ходе истории использовались для оправдания действий государства, направленных на отмену или ограничение рыночных трансакций.
Оценка старой парадигмы
Самым удивительным во всем этом многообразии взглядов в рамках старой парадигмы является степень неопределенности суждений. Например, легко представить доводы в пользу определенной инициативы в области государственной политики например, реформы трудового права – с опорой на аргументы всех пяти позиций. Более того, в рамках каждой из них можно обосновать целый ряд различных предпочтений относительного того, насколько активной должна быть роль государства в хозяйстве.
Проблема заключается в том, что все эти позиции в рамках старой парадигмы на самом деле предоставляют гораздо меньше аналитических инструментов, чем они претендуют. Как будет показано ниже, это происходит потому, что они опираются на ошибочные исходные суждения относительно анализируемого предмета. Более того, кажущаяся обоснованность этих различных позиций на самом деле объясняется рядом предубеждений, которые лишь изредка упоминаются в открытую или подвергаются серьезной критике.
Первая группа предубеждений связана с оценкой действий государства. Часто считают, что государство – это расточительный паразит: оно по природе своей склонно извлекать из общества больше ресурсов, чем может оправдать своими действиями, при этом оно не способно эффективно распорядиться этими ресурсами. Считают также, что при производстве общественных благ государственные чиновники гораздо менее производительны, нежели частные предприниматели, при этом приоритеты государства искажаются под давлением политических интересов. Вторая группа предубеждений связана с представлением о рынке, сформулированном явно в духе концепции социалистического государства: якобы рынок по природе своей неизбежно порождает неравенство в обществе и его дегуманизацию.
Называть эти взгляды предубеждениями – вполне справедливо, поскольку они высказываются просто как оценочные суждения без какого бы то ни было анализа или выявления конкретных обстоятельств, при которых возможны эти негативные последствия. Однако суть в том, что кажущаяся логичность пяти описанных выше позиций проистекает именно из специфических предубеждений их сторонников. Например, теоретики государства общественных благ, по всей видимости, имеют наиболее сильные предубеждения против действий государства и наиболее слабые – против последствий работы рынка. В результате они выступают против дальнейшего расширения роли государства. И напротив, по мере смещения к левой части континуума недоверие к государству уменьшается, сменяясь недоверием к рынку.
Новая парадигма начинается с опровержения идеи невмешательства государства в хозяйственную деятельность. Вместо этого утверждается, что его действия всегда играют ключевую роль в формировании хозяйства, и позиционировать государство как нечто за рамками хозяйственной деятельности – бессмысленная задача. В отличие от старой парадигмы, рассматривавшей количественные вариации степени вмешательства государства в хозяйственный процесс, новая парадигма сосредоточена на качественных различиях в его деятельности. Она подчеркивает важные элементы сходства между государствами, которые старая парадигма практически не учитывала. Большинство государств: предлагают правила использования производственных активов; устанавливают законодательные рамки, определяющие течение воспроизводимых (recurring) отношений (таких, как отношения между работодателями и наемными работниками); обеспечивают средства платежа для экономических трансакций; наконец, поддерживают границу между своей территорией и остальным миром. Различия в выполнении этих задач имеют важные последствия, которые предоставляют гораздо больше аналитических инструментов, нежели понятия старой парадигмы.
Старая парадигма была структурирована двумя группами предубеждений – недоверием к государству и недоверием к рынку; подход новой парадигмы – совершенно иной. В соответствии с нею хозяйственная деятельность всегда предполагает некоторое сочетание действий государства и рынков. Действия государства необходимы для построения хозяйства. Однако рынки также являются неотъемлемой частью социальной организации, поскольку при наличии у индивидов возможности выбора рынки обеспечивают им логичный и полезный инструмент агрегирования актов их разрозненного выбора. При этом рынки могут быть структурированы самыми разными способами, и вариации в основополагающих правилах этого структурирования будут иметь весьма различные последствия. Просто все зависит от особенностей сочетания действий государства и рынков. Следовательно, предубеждения сменяются эмпирическими вопросами: какое сочетание государства и рынков порождает хищническое государство? Какое их сочетание ведет к увеличению неравенства?
Новая парадигма появилась в последнее десятилетие и пока не получила согласованного названия. Здесь мы будет называть ее реконструированием рынка (market reconstruction), поскольку такое название подчеркивает степень наличного выбора при структурировании рынков и возможность их реконструирования для увеличения эффективности, равенства и достижения других целей. Как и любое важное интеллектуальное течение, концепция реконструирования рынка имеет ряд серьезных исторических предпосылок. В XX в. появились по крайней мере три важных интеллектуальных течения, в рамках которых была развернута критика старой парадигмы. Первое – это теория институциональной экономики [Commons, 1924], предложившая влиятельную критику предпосылок неоклассической экономической теории. Эта институционалисткая традиция снова и снова указывала на ограничения в восприятии действий государства как внешних по отношению к хозяйству. Вторая традиция связана с теорией правового реализма в США. В 1920–1940-е годы сторонники данной традиции выступили с критикой экономических положений, лежавших в основе американской государственной политики, – критикой, которая основывалась на идее о естественности саморегулирующихся рынков [Cohen, 1927]. Позднее критическое направление правовых исследований сделало важный вклад в развитие новой парадигмы, целенаправленно попытавшись развить идеи правовых реалистов [Kennedy, 1987, Singer, 1988]. Наконец, высланный из своей страны венгерский ученый Карл Поланьи написал в 1940–1950-е годы ряд работ, ставших весьма влиятельными в социальных науках и еще более пошатнувших позиции старой парадигмы [Polanyi, 1944]. <…>
Как правило, теоретики реконструирования рынка одинаково критично реагируют на утверждение о том, что единственный путь, по которому могут далее развиваться бывшие социалистические страны, – это капитализм свободного рынка. Они приводят три аргумента. Во-первых, не существует такой единой однородной субстанции, как «капитализм свободного рынка», – существующие рыночные общества характеризуются весьма различными способами структурирования хозяйственных институтов. В реальности нигде нет и не может быть той рыночной экономики, о которой пишут в учебниках. Во-вторых, в процессе перехода к новому типу хозяйства государство должно играть абсолютно ведущую роль в формировании новых прав собственности и новых рынков. В-третьих, общества могут выбирать из целого ряда различных способов сочетания рынков и действий государства, и на самом деле адекватный уровень функционирования экономики может быть достигнут на основе множества таких сочетаний. Поэтому общества при реструктурировании хозяйственных институтов должны сопоставить экономическую эффективность с проблемами равенства, демократии и прав личности [Block, 1990; Block, 1992]. <…>
Реконструирование рынка: роли, которые играет государство
Исследования в рамках старой парадигмы зачастую были сосредоточены вокруг проблемы сопоставления двух плоскостей анализа. Первая плоскость образована типологиями различных способов организации хозяйств – такими, например, как известная марксистская схема, в которой на основании господствующих отношений собственности выделяются три типа обществ: феодальное, буржуазное и социалистическое. Вторая плоскость образована типологиями различных политических режимов, – например, разграничениями между либерально-демократическими, социал-демократическими, фашистскими и консервативными авторитарными режимами. Проблема согласования двух этих плоскостей связана с тем, что при совершенно различных политических режимах порою работают схожие хозяйственные механизмы. Один из способов разрешить это противоречие – выработать всевозможные подкатегории и попытаться уловить более тонкие различия в типах хозяйств и политических режимов. Многие хорошие современные работы как раз и следуют этой стратегии в них, делая попытки более детально проанализировать институциональные образования конкретных обществ или построить более сложные типологии среднего уровня, которые описывали бы вариации в различных обществах. Однако, хотя аргументы в пользу этих новых подкатегорий и типологий зачастую весьма убедительны, опасность заключается в том, что если для каждого случая будет выведена особая категория, это не позволит проводить более общие сопоставления.
Концепция реконструирования рынка предлагает несколько иную аналитическую стратегию. Поскольку государство и хозяйство фундаментально взаимозависимы, попытка анализировать их порознь представляется бессмысленной. Вместо этого предлагается сконцентрировать внимание на особых способах взаимодействия государств и хозяйств и начать исследовать вариации этих способов взаимодействия во времени и пространстве. Данная стратегия обладает рядом преимуществ. Во-первых, она исходит из того, что ключевой вопрос старой парадигмы, – в какой степени государство должно предоставить свободу рынку, – зачастую вовсе не является самой важной проблемой. Во-вторых, следствие этой стратегии заставляет нас осознать высокую степень преемственности между феодальными, буржуазными и социалистическими формами собственности, которая в старой парадигме практически не учитывалась. В-третьих, данная стратегия указывает на возможность выработки более эффективных типологий, которые позволят уловить подлинные исторические вариации способов организации взаимодействий государства и хозяйства. Сферы взаимодействия, которые будут рассматриваться далее, включают: роль государства в установлении контроля над производственными активами, определение природы его обязательств и ответственности в воспроизводимых отношениях (recurring relations), обеспечение средствами платежа и поддержание границы между территорией государства и остальным миром. Данный список сфер не исчерпывающий, однако он позволяет осветить многие наиболее важные вопросы.
Контроль над производственными активами
В любом сложном обществе одной из неизбежных задач государства является установление режима прав собственности. При конструировании такого режима реализация концепции Локка, согласно которой система частной собственности предполагает абсолютные права индивида (individual's ownership rights). не только невозможна, но и нежелательна. С одной стороны, позитивные и негативные экстерналии, связанные с любой сложной формой производства, требуют определенного режима регулирования, который ограничивает способы использования производственных активов. С другой стороны, современное производство зависит от сотрудничества между людьми, контролирующими различные активы: работники контролируют человеческий капитал, менеджеры – физический, инвесторы – финансовый капитал, к ним добавляются также владельцы интеллектуальной собственности. Абсолютистское определение прав собственности не вполне проясняет то, как максимизировать производственную кооперацию между перечисленными владельцами активов. В реальности существует множество способов определения прав собственности для каждой из этих групп. Лишь недавно исследователи начали сравнивать экономические последствия применения различных наборов правил, регулирующих права собственности, но уже сейчас очевидно, что превосходство англосаксонской концепции прав собственности в духе Локка весьма сомнительно [Dore, 1986].
Эти вопросы прав собственности сегодня часто обсуждаются в экономической теории в терминах отношений между принципалом и агентом. Акционеры фирмы являются принципалами, которым теоретически принадлежат права собственности, однако в достижении своих целей они зависят от агентов – менеджеров фирмы. Ведутся жаркие дебаты по поводу того, каковы должны быть институциональные образования и мотивы, которые обеспечат достижение агентами целей принципалов. Одна из ключевых линий в этих дебатах – сопоставление институциональных моделей корпоративного управления в развитых рыночных хозяйствах. И хотя фундаментальные механизмы собственности в этих странах практически одинаковы, существуют значительные различия в том, как решаются проблемы взаимоотношений между принципалом и агентом. Более того, эти различия напрямую вытекают из законодательных действий, которые помогали структурировать определенные способы встраивания фирм в финансовые рынки [Zysman, 1983]. Эти принципиальные различия напоминают нам о том, что зашоренность на вопросах собственности серьезно ограничивает нашу аналитическую перспективу.
Структура воспроизводимых отношений
Со структурой собственности тесно связано государственное регулирование воспроизводимых отношений, наиболее важными из которых являются отношения между членами семьи, работниками и работодателями, владельцами недвижимости и арендаторами. И вновь конкретные наборы правил, структурирующих эти воспроизводимые отношения, влекут за собой чрезвычайно важные последствия. Различие между системой, когда все наследовал старший сын, и правилами, диктующими раздел собственности между сыновьями, порождало принципиальные последствия для моделей землевладения. Наличие или отсутствие прав собственности у жены существенно влияло на стратегии увеличения семейного благосостояния и экономическую активность женщин (анализ важной роли государства в формировании семьи см. в работах F. Olsen и др.). И даже в рамках старой парадигмы признается принципиальный характер того, могут ли наемные работники или арендаторы выйти из отношений эксплуатации.
Принципиальное воздействие на отношения занятости оказывает государственная налоговая политика. Классическим примером здесь служит подушный налог, которым европейские колонисты облагали коренное население. Целью его введения было заставить фермеров, занимавшихся натуральным хозяйством, участвовать в наемном труде, чтобы получить наличные деньги, требуемые для уплаты налогов. Однако вопрос о налогах имеет гораздо более общий характер. Всем государствам необходима система налогообложения, но конкретная структура налоговой системы будет влиять на количество времени и объем усилий, которые индивиды готовы посвятить наемному труду.
Кроме того, на протяжении последних пяти столетий государства участвовали в формировании и фиксации трудовых навыков работников. Развитие государственного образования и сложных систем государственных дипломов с очевидностью это доказывает. Однако и прежде действия государства формировали систему обучения, через которую проходили квалифицированные ремесленники. Сущность этих правил, а также вариации в доступе к возможностям получения образования и профессиональной подготовки влияют на предложение рабочей силы, обладающей определенными типами навыков, а это, в свою очередь, определяет относительный объем власти различных категорий работников.
Более того, проблемы получения навыков связаны и с другими усилиями различных категорий людей, направленными на социальное закрытие определенных профессиональных позиций. Вебер подчеркивал, что «любая характеристика группы – расовая принадлежность, язык, социальное происхождение, религия – может быть использована для монополизации специфических, как правило, экономических, возможностей» [Weber, 1922]. Подобные попытки монополизации экономических позиций определенными группами также имеют принципиальное значение для определения масштабов власти различных категорий работников. В этот процесс всегда вовлечены и правительства, стремящиеся либо поддержать попытки закрытия группы от других групп, либо найти другой путь такого закрытия, либо пресечь подобные формы профессиональной дискриминации, либо тем или иным образом сочетать эти стратегии.
Наконец, государства всегда вовлечены в процесс регулирования коллективного действия работниками и работодателями. Даже решение государства не вмешиваться, если работодатели прибегают к незаконному насилию и терроризируют работников (как это бывает в распространенных ситуациях «принудительного труда» (coerced labor), отражает политику, которая формирует отношения занятости. Аналогично, запрет на деятельность профсоюзов, так же как и целый ряд юридических правил, защищающих их права, имеет решающие последствия для отношений занятости.
Средства платежа: деньги и кредиты
<…>
Вопрос об относительном объеме власти заемщиков и кредиторов связан с более общим вопросом о доступности кредита. В советской модели руководители государственных предприятий практически являлись единственной группой, имевшей такой доступ. В других обществах возможности различных групп прибегать к кредиту определяются взаимодействием стратегий правительства и решений финансовых институтов. Во многих странах ключевым политическим вопросом является доступ к кредитным ресурсам фермеров, владельцев малых предприятий, кооперативов работников, желающих приобрести жилье, и некоммерческих структур. Государства предпринимают целый ряд инициатив, направленных на расширение доступа к кредиту, а также на прекращение различных дискриминационных практик – например, систематического отказа в кредите определенным категориям заемщиков.
Причина, по которой проблема доступа к кредиту столь важна, отчасти заключается в том, что рынки кредитования не подчиняются одному лишь закону спроса и предложения. Финансовые институты регулируют объемы кредитования, в том числе они постоянно принимают решения отказать кому-либо в кредите, даже если потенциальные заемщики готовы заплатить значительные проценты по ссудам, превышающие их обычный уровень. Эти ограничивающие решения всегда имеют экономическое основание: тот или иной заемщик может не иметь кредитной истории, надежных гарантий или достаточно сильного бизнес-плана, которые могли бы оправдать получение кредита. Однако при принятии таких решений кредиторы склонны во многом полагаться на сигналы, которые посылают им потенциальные заемщики. Расшифровка этих сигналов позволяет кредиторам тратить меньше времени на сбор информации о надежности различных заемщиков и вероятности успеха их предприятия. Подобное полагание на сигналы может приводить к систематическим отказам в кредите тем или иным предпринимателям, поскольку их предприятия не соответствуют требуемой организационной форме, а им не хватает нужных социальных или политических связей, или поскольку они принадлежат не к той тендерной, расовой, этнической или религиозной группе. И вновь правительства участвуют в этом процессе распределения кредитных ресурсов, поддерживая процедуры, используемые кредиторами, либо стремясь их изменить.
Одним словом, сложилась серьезная потребность в «социологии финансов», которая занялась бы систематическим изучением того, как и почему одни виды деятельности финансируются, а другие – нет, а также того, какими способами на это влияет государственная политика. В последнее время некоторые исследователи начали обращаться к этим вопросам [Hamilton, 1991], однако многое в данном направлении еще предстоит сделать.
Поддержание государственных границ
Поддержание территориальной целостности нации долгое время являлось основной задачей государства. В сущности, военные расходы и расходы на поддержание правопорядка исторически являлись главными элементами государственного бюджета, а развитие способности государства к наращиванию доходов было обусловлено именно этой потребностью бюджета [Schumpeter, 1918]. Едва ли следует пояснять, что проводимая тем или иным государством военная и налоговая политика имеет чрезвычайно важные экономические последствия. Отсутствие адекватных инвестиций в военную сферу, по стратегическим ли соображениям либо в силу ограниченности доходов, может привести к поражению в войне и разрушению значительной части хозяйственной инфраструктуры. Однако избыточное инвестирование в военно-промышленный комплекс также способно породить негативные последствия – будь то избыточные налоги или недостаточное развитие гражданских отраслей промышленности. Важное направление современных исследований посвящено вопросу о том, насколько избыточное военное производство ослабляет экономические возможности господствующих мировых держав [Kennedy, 1987].
Другой аспект проблемы поддержания национальных границ связан с ролью государства в определении потоков денег, товаров и рабочей силы, проходящих через государственные границы. Это классический образец серьезных различий между государствами, одни из которых позволяют этим потокам двигаться по воле рыночных сил, а другие пытаются заблокировать рыночные потоки административными мерами. Однако и здесь ситуация гораздо более сложна, чем это рисует старая парадигма, – очень уж трудно себе представить международную систему правительственного невмешательства в хозяйственные процессы.
Если рассмотреть, например, потоки рабочей силы, становится очевидным, что исторически лишь немногие страны полностью открывали свои границы, никак не регулируя приток иностранцев. Даже когда государства активно поощряли иммиграцию, они поступали так не потому, что верили в глобальный свободный рынок труда. Они полагали, что высокий уровень иммиграции поможет им решить определенные национальные задачи, – например, ускорить экономический рост. Аналогично государства, позволявшие своему населению свободно эмигрировать за рубеж, как правило, поступали так, стремясь предотвратить кризисную ситуацию в стране; ведь сокращение численности населения обычно являет собой угрозу территориальной целостности нации. Словом, предоставление привилегий собственным гражданам по сравнению с иностранцами является частью внутренней организации современного государства.
Ряд проблем связан с межстрановыми различиями в политике охраны окружающей среды и политике в отношении прав человека и охраны труда. Необходимо ли для развития международной торговли, чтобы товары, произведенные с использованием труда детей или рабов, могли свободно конкурировать с товарами, произведенными наемными работниками, которые надежно защищены полноправными профсоюзами? Аналогично должны ли товары, произведенные в стране, где стандарты охраны окружающей среды весьма не развиты, свободно конкурировать с товарами, произведенными в странах со строгими нормами в отношении охраны окружающей среды?
Эти дилеммы встают особенно остро, когда дело касается перелива капитала через национальные границы. Конфликт между ролью государства в обеспечении адекватного национального предложения денег и кредита, с одной стороны, и идеей о том, что капитал должен иметь возможность по воле рыночных сил перемещаться через национальные границы – с другой, может быть весьма серьезным. Поланьи утверждает, что в XIX в. государства начали изыскивать способы предотвращения дестабилизирующего вывоза капитала, а в XX в. для его ограничения использовались еще более разнообразные инструменты [Polanyi, 1944]. Однако в последние годы этот конфликт усилился, поскольку стремительное распространение международных финансовых трансакций сопровождалось мощным давлением на государства, заставлявшим дерегулировать эти трансакции. Многие правительства отреагировали на это давление отменой прежде установленного контроля над международным перемещением капитала.
Предложенный анализ роли государства в сложных обществах с точки зрения концепции реструктурирования рынка позволяет также лучше понять неадекватность пяти концепций государства, описанных нами выше. И установление контроля над производственными активами, и определение прав и обязанностей в воспроизводимых отношениях, и обеспечение денежного обращения и кредита, и поддержание национальных границ можно описать в терминах общественных благ. Однако именно потому, что все эти роли могу выполняться столь многими способами, понятие государства общественных благ оказывается весьма слабым аналитическим инструментом. Предложенная Маршаллом концепция государства социальных прав также имеет серьезные недостатки, поскольку она не учитывает, что функция государства по определению прав и обязанностей разных социальных групп зародилась задолго до капитализма. Аналогично идея стабилизирующего государства упускает из виду неотъемлемую историческую роль государства в установлении уровня цен посредством влияния на системы денежного обращения и кредита. Наконец, есть причина полагать, что большинство государств стремятся стать государствами развития; при этом подлинная проблема заключается в различиях их возможностей и эффективности их политики.
Наиболее же существенное преимущество нового подхода состоит в том, что он переносит наше внимание на важные вопросы, касающиеся экономической роли государства. В традиционных формулировках поднимается только один вопрос: в какой степени те или иные общества полагаются на рыночное регулирование в противоположность государственному регулированию? Однако зачастую это вовсе не самый главный вопрос, вдобавок он уводит в сторону от изучения других важных вариаций государственного действия. Например, практически нет работ, в которых рассматривались бы способы, какими различные стратегии государства влияют на относительные возможности сторон отстаивать свои интересы в повторяющихся трансакциях. Концепция реконструирования рынка предлагает экономической социологии насыщенную и сложную программу исследований. Поскольку между старой парадигмой и реальными практиками, которые наблюдаются в обществах на протяжении последних пятидесяти или ста лет, имеются существенные расхождения, предстоит большая работа по изучению этих практик, сопоставлению их в зависимости от времени и региона, а также встраиванию их в новые теоретические схемы.
Barro R. J. Macroeconomic Policy. Cambridge: Harvard University Press, 1990.
Block F. Capitalism without Class Power // Politics and Society. 1990. Vol. 20. No. 3. P. 277–303.
Block F. Postindustrial Possibilities: A Critique of Economic Discourse. Berkeley: University of California Press, 1992.
Cohen M. R. Property and Sovereignty // Cornell Law Quarterly. 1927 Vol. 13. No. 1. P. 8–30.
Commons J. R. Legal Foundations of Capitalism. Clifton, NJ: Augustus M. Kelley. [1924] 1974.
Dore R. Flexible Rigidities: Industrial Policy and Structural Adjustment in the Japanese Economy. London: Athlone Press, 1986.
Friedman M, Schwartz A. J. A Monetary History of the United States, 1867–1960. Princeton: Princeton University Press, 1963.
Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge: Harvard University Press, 1962.
Gouldner A. W. The Two Marxisms: Contradictions and Anomalies in the Development in Theory. N.Y.: Seabury Press, 1980.
Hall P. A. (ed.) The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across Nations. Princeton: Princeton University Press, 1989.
Hamilton G. Business Networks and Economic Development in East and Southeast Asia. Hong Kong: Centre of Asian Studies, 1991.
Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers. New York: Vintage Books, 1987.
Marshall Т. H. Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 1950.
Marx K. Capital / Transl. and ed. by E. Paul, С Paul. New York: E. P. Dutton, [1867] 1930.
Pearce D. W. The MIT Dictionary of Modern Economics. Cambridge: MIT Press, 1986.
Polanyi K. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press, [1944] 1957.
Reich R. The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism. New York: Knopf, 1991.
Roemer J. Can There Be Socialism after Communism? // Politics and Society. 1992. Vol. 20. P. 261–276.
Schumpeter J. The Crisis of the Tax State // Joseph A. Schumpeter: The Economics and Sociology of Capitalism / R. Swedberg (ed.). Princeton: Princeton University Press [1918] 1991. P. 99–140.
Skocpol T. States and Social Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press 1979.
Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 2 Vo.; Oxford: Clarendon Press, [1776] 1976.
Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology / G. Roth, С Wittich (eds.); Transl. and ed. by E. Fischoff et al. 2 vols. Berkeley: University of California Press, [1922] 1978.
Zysman J. Governments, Markets, and Growth: Financial Systems and the Politics of Industrial Change. London: Cornell University Press, 1983.
Перевод с английского M. С. Добряковой.
Доббин Фрэнк. Формирование промышленной политики
Фрэнк Доббин (р. 05.12.1956, Остин, Техас, США) – один из ведущих экономических социологов в сфере изучения национальных промышленных стратегий. В 1980 г. окончил Колледж в Оберлине, получив степень бакалавра искусств, а в 1987 г. – Стенфордский университет, получив степень доктора социологии.
В настоящее время Ф. Доббин является профессором Отдела социологии Гарвардского университета. Читает курсы: «экономическая социология»; «комплексные организации: менеджмент, бюрократия и работа»; «техники и методы социальной науки»; «мини-семинар по социальной стратификации». По состоянию на 2001 г. Ф. Доббином опубликовано 4 профильные статьи и 4 научные монографии. Профессиональные интересы: комплексные организации, стратификация, экономическая социология, публичная политика, сравнительна историческая социология.
По мнению Ф. Доббина, американская социология, в отличие от экономической теории, является полипарадигмальной дисциплиной. За ключевые позиции в рамках экономической социологии борются три основные парадигмы: теории конфликтов и власти, идущие от К. Маркса; концепции идентичности и социальной среды, берущие начала у Э. Дюркгейма; институциональные течения, восходящие к работам М. Вебера. Современная экономическая социология по-прежнему следует этим трем направлениям.
Основные работы: «Формирование промышленной политики» (1994); «Встреча экономики и социологии в стратегическом менеджменте» (2000); «Социология экономики» (2004); «Новая экономическая социология» (2004).
В предлагаемых фрагментах книги «Формирование промышленной политики» цель автора заключается в том, чтобы скептически взглянуть на понятия индустриальной рациональности, попытаться проследить их истоки в социальных практиках и истории, вместо того чтобы объяснять их происхождение существованием внешних рационализированных принципов, правящих этим миром.
Доббин Фрэнк. Формирование промышленной политики[2] (Фрагменты книги)
<…>
Выводы
Введение
Я начал с утверждения о том, что к XX веку США, Франция и Великобритания выработали чрезвычайно различные стратегии промышленного роста, которые сохранились и поныне несмотря на серьезные политические изменения. Параллели между современными парадигмами промышленной политики этих наций и их традиционными парадигмами политического устройства просто удивительны. Многие авторы воспринимают параллели между политическими и хозяйственными системами наций как некую данность и используют такие общие термины, как политика laissezfaire, либерализм, стейтизм (statism), авторитаризм, для описания сразу обеих систем. Моя задача состояла в том, чтобы показать неочевидность таких параллелей; я предположил, что раскрытие их связи является ключом к пониманию того, почему между нациями сохраняются различия в проводимой политике. Изучая влияние государственных институтов начала XIX в. на последующее развитие политики в области железнодорожного хозяйства, я попытался понять, каким образом индустриальные культуры начали походить на политические культуры. При этом я не утверждаю, что парадигмы промышленной политики, сложившиеся в этих странах, были предопределены политической культурой, – напротив, в США самая первая парадигма промышленной политики была отвергнута и в течение XIX в. заменена другой. Скорее, мне хотелось показать, что, выделяя одни социальные процессы как конституирующие для существующего порядка, а другие – как деструктивные, институционализированная политическая культура формировала типы индустриальных практик, которые нации пытались создать, и практик, возникновение которых они пытались предотвратить. Иными словами, придавая символическое значение определенным причинно-следственным связям в социальной жизни, политическая культура формировала средства, которые использовались нациями для достижения целей промышленной организации и роста.
Я не буду обращаться к межстрановым сопоставлениям, а остановлюсь на теоретических выводах исследования. Последние позволяют предположить, что взгляд на современность с позиций социального конструктивизма, отказывающийся от привычных описаний процесса выработки политических решений (policymaking), как они представлены в современном мировоззрении, ведет нас к нетрадиционному пониманию этого процесса. Это понимание существенно отличается от доминирующих в социальных науках парадигм, и едва ли его можно отстоять на ограниченном пространстве одной небольшой книги. Поэтому моя цель заключалась не в систематических доказательствах несостоятельности существующих теорий, а в предложении некоторых свидетельств в поддержку альтернативного взгляда на роль культуры, политики, экономики и институтов в процессе построения политики в современных рационализированных национальных государствах. Прежде чем перейти к анализу роли рационализированного смысла в каждой из этих сфер, я продемонстрирую исторические выводы, вытекающие из основной идеи книги.
Возникновение парадигм промышленной политики
Несомненно, политическая культура влияла на то, как нации понимали и институционализировали экономическую рациональность. В каждой стране традиционные государственные институты поддерживали одни социальные практики и подавляли другие, представляя одни из них конституирующими существующий порядок, а другие – разрушающими его. Сталкиваясь со стремительными изменениями в сфере хозяйства, политики пытались перенести принципы политического порядка в промышленную сферу. Так логика политической организации становилась логикой промышленной организации. В целом, государства достигали искомого политического порядка, предоставляя суверенные права местному сообществу, централизованному государству или индивиду. В каждом случае политические институты символически обозначали возможный контроль со стороны других сфер как угрозу существующему порядку.
Американская политическая культура символически обозначила суверенитет местного сообщества как средство достижения политического порядка, и на ранних этапах политика в отношении железных дорог представляла контроль местного сообщества за планированием и финансированием в этой сфере в качестве ключа к достижению искомого хозяйственного порядка. Эти ранние стратегии были нацелены на то, чтобы воспрепятствовать контролю над отраслью со стороны влиятельных частных акторов и центральной политической власти. Однако, когда вместо этого подобные стратегии начали укреплять скрытую власть фирм и местных правительств, американцы перешли к новой парадигме в политике. Согласно новой парадигме центральное государство (central state) превращалось в рыночного арбитра, и в результате власть вновь была передана гражданскому обществу, но в данном случае – воплощенному в рыночных силах, а не в городских собраниях. И к концу столетия США выработали четкую концепцию экономической рациональности, ориентированную на рынок.
Французская политическая культура конструировала суверенитет государства в качестве ключа к политическому порядку. И в железнодорожной политике государственный контроль над планированием, финансированием, координацией и конкуренцией был представлен как необходимое условие достижения искомого хозяйственного порядка и рациональности. Во французской политической жизни частные посредники, которые могли вмешаться в прямые отношения суверенитета (direct relationship of sovereignty) между государством и гражданином, представлялись как угроза политическому порядку, и в результате частные агенты, корпорации и местные правительства были отстранены от принятия политических решений. В свою очередь, французские стратегии в сфере железнодорожного хозяйства, нацеленные на то, чтобы не допустить передачи контроля над отраслью автономным частным акторам и бездумным рыночным механизмам, органично влились в концепцию экономической рациональности. Таким образом, ключевая идея военного абсолютизма, состоящая в том, что для достижения порядка государство должно регулировать развитие частной сферы (privatism), стала формировать и промышленные институты. К началу XX в. французы сформировали представление об экономической рациональности, согласно которому правительственный дирижизм (state concertation) частных, своекорыстных действий выступал обязательным условием роста.
В британской политической культуре ключом к искомому политическому порядку считался неотчуждаемый суверенитет индивида, и соответственно в железнодорожной политике ключом к искомому хозяйственному порядку и рациональности выступал контроль предпринимателей за планированием, финансированием, координацией и конкуренцией в этой сфере. Британские политические институты отвергали полномочия власть имущих, государства и администрации, передавая их отдельным гражданам (individuals) и их представителям в парламенте. Аналогичным образом железнодорожная политика была выстроена так, чтобы: не допустить контроля над всей сферой со стороны доминирующих железнодорожных компаний, ограничить их деятельность и предупредить возможности экспансии; не позволить государственным чиновникам диктовать свои условия железным дорогам; оградить фирмы от рыночных сил и сопряженной с ними изнурительной конкуренции. Со времен Адама Смита и до конца XIX в. представления британцев об институциональном оформлении рациональности изменились слабо: по-прежнему в качестве основы виделось свободное следование множеством предпринимательских фирм собственному экономическому интересу. Впрочем, изменилось представление о роли государства, по мере того как идеология laissez-faire уступила место идеологии, в соответствии с которой государство должно активно защищать предпринимателей.
В каждом случае мы имеем уникальный пример институционализации рационализованного смысла в публичной политике (public policy). История американских железных дорог показывает, как изменения могут объясняться при помощи конструктивистского подхода к рациональности. На смену первоначальной промышленной парадигме активного, построенного на соперничестве местного самоуправления пришла парадигма пассивного поддержания рыночных механизмов. Почему так произошло? Американцы не видели ничего дурного в активном местном самоуправлении как таковом, однако порою оно порождало негативные эффекты концентрированной власти (например, монополистическое ценообразование и коррупцию). Поскольку политические институты США представляли концентрацию власти как явление, вредное для политического порядка, американцы считали эти практики порочными и всячески стремились положить им конец. Таким образом, первоначальная промышленная парадигма США изменилась потому, что она порождала непредвиденные порочные практики. Парадигмы политики могут меняться и в силу других причин. С одной стороны, они подвергаются частой и все более существенной корректировке – во многом подобно тому, как корректируются научные парадигмы после проверки вторичных гипотез. Например, в течение последних двух десятилетий американские политики проверяли гипотезу о том, что рыночные механизмы повышают эффективность работы даже в таких олигополистических секторах с высокими постоянными издержками, как воздушный транспорт и телекоммуникации. С другой стороны, подобно научным парадигмам, парадигмы политики особенно подвержены изменениям в условиях, когда опровергаются положенные в их основу причинно-следственные отношения. Например, в начале Великой депрессии государства быстро приняли новые промышленные стратегии, полагая, что их традиционные парадигмы вели к обратным результатам [Dobbin, 1993].
Пример Франции иллюстрирует утверждение Токвиля о том, что политическая культура (понимаемая в узком смысле как институционализированная логика порядка) определяется не только политической идеологией. Например, один и тот же набор политических практик и смыслов вполне может сочетаться с несколькими различными идеологиями. Во Франции традиционная политическая культура пережила несколько революций и изменений режимов, приводящих к власти группы с весьма различными идеологиями. Оказалось, что институты централизованного технократического правления одинаково работают и в империи, и в монархии, и в республике. И напротив, та или иная идеология может предполагать различные наборы практик и смыслов. Так, демократическая идеология связывалась и с децентрализованной федеральной структурой управления в США, и с централизованной государственной структурой во Франции. Демократия возможна при различных политических культурах, при этом в каждой стране демократы-теоретики считают свои политические традиции необходимыми для ее утверждения. Таким образом, институциональные модели политического порядка пережили переход от колониального к демократическому правлению в США, от монархии к викторианской демократии в Великобритании и от абсолютизма к республике во Франции. Поскольку идеи, касающиеся причинно-следственных механизмов, лежащих в основе социального и хозяйственного порядка, можно отделить от идеологии, уже несложно понять, каким образом политические группировки с весьма различными идеологиями приходят к одинаковому видению того, как достичь искомого политического устройства и индустриальной рациональности. Так, в Америке и левые, и правые могут верить в эффективность рыночных механизмов, а их французские коллеги – в эффективность государственного дирижизма.
Пример Великобритании позволяет отметить два важных момента. Во-первых, контраст между Великобританией и США показывает, что различия между нациями едва ли можно описать при помощи континуума «государство – рынок». Обе нации придерживались политики laissez-faire и вывели контроль за промышленностью из сферы ведения государства, однако передали его при этом в совершенно разные руки и сконструировали индустриальную рациональность совершенно по-разному. Американская политика была нацелена на укрепление рыночных механизмов за счет неизбежного уничтожения множества мелких фирм; британская же политика сводилась к поддержанию мелких фирм против картелей, жертвуя тем самым рыночными механизмами. Впрочем, моя задача видится не в том, чтобы заменить дихотомию «государство – рынок» трихотомией «государство – рынок – фирма», а в том, чтобы показать, что подобная дихотомическая схема может быть неадекватной для объяснения различий в политике разных наций. Вместо этого я предложил метод изучения парадигм политики. Во-вторых, контраст между Великобританией и Францией подчеркивает, что в XIX в. железнодорожная политика являлась прямым продолжением доиндустриальных стратегий строительства каналов и дорог, а не рациональной реакцией на особые экономические характеристики отрасли, как это склонны утверждать экономические историки. Тот факт, что железнодорожные стратегии государств существенно различались, будучи при этом практически идентичными стратегиям строительства каналов в этих государствах, заставляет усомниться в утверждениях экономических детерминистов. Кроме того, все три страны перенесли эти стратегические парадигмы и на другие новые отрасли – даже те, где не было ни одной из специфических экономических особенностей железнодорожной промышленности: высокого уровня постоянных издержек, специфичности активов, малого числа прямых конкурентов. Например, в электронной промышленности в послевоенный период США вводили ценовую конкуренцию, Франция консолидировала сектор и управляла процессами экспансии, а Великобритания поддерживала существующие фирмы [Dobbin, 1992b]. Оказывается, что промышленная политика в большей степени ориентирована на прошлые практики, нежели на сегодняшние особые хозяйственные потребности отрасли.
Разработка культурных моделей политики сегодня происходит несколько иначе, чем это было в XIX в. В раннюю эпоху железнодорожного строительства понятие промышленной политики было неизвестно, и те, кто принимали решения, были вынуждены полагаться на принципы каузальности, заимствованные преимущественно из социальной жизни. Сегодняшние политики по-прежнему копируют стратегии, однако теперь они могут опираться на опыт промышленных парадигм, которые внедрялись и совершенствовались на протяжении столетия. Стратегия применения сконструированных принципов каузальности остается прежней, однако процесс поиска значительно упростился.
Далее я перейду к более общим теоретическим выводам исследования, которые позволят показать роль рациональности в современных культуре, политике, экономике и институтах.
Рационализованный культурный смысл (rationalized cultural meaning), воплощенный в институтах публичной политики рассмотренных трех наций, оказался более коллективным и структурным, чем это предполагают гипотезы о «национальном характере» и другие распространенные культурологические подходы. Эти теории ограничивают культуру и культурную преемственность когнитивными рамками индивида. В истории же железнодорожной политики культурный смысл связывается непосредственно с реальными социальными практиками. Смысл оказался более институциональным, чем представления о коллективной политической восприимчивости в гегелевских терминах Духа (Geisf) и мировоззрения (Weltanshauung). В принципах промышленной эффективности, институциализировавшихся в этих странах, не было ничего сверхъестественного, хотя во всех этих странах акторы полагали, что трансцендентальные законы экономической рациональности, эти воплощения Духа, отражены в современных институтах. Оказалось, что смысл – в большей степени продукт активного конструирования, нежели это считается согласно рефлексивным теориям культуры, с позиций которых она предстает лишь как зеркало социальной реальности. Мы видели, что люди активно пытаются понять политические структуры, чтобы выделить принципы, на основе которых затем организовывать и индустриальную жизнь. В русле этих усилий люди заново интерпретировали историю с телеологических позиций, и оказывалось, что она порождала идеализированные, совершенно рациональные социальные и хозяйственные институты. Смысл оказался более изменчивым и случайным, чем это предполагается социальными науками в их трактовках хозяйственной культуры. Ключевые принципы экономической рациональности существенно варьируются от страны к стране. Как правило, предполагается, что хозяйственная культура подвергается лишь поверхностному воздействию культурных практик или социальных сетей. В нашем же случае оказалось, что культурные практики затрагивают ее самый глубинный уровень, и это позволяет предположить, что основные правила экономической рациональности, постулируемые неоклассической теорией, – не более чем абстракции, выстроенные на базе одного-единственного убедительного примера, и возможны также иные наборы абстракций, выстроенных на основе других, не менее эффективных социальных систем. Словом, полученные результаты добавляют аргументы в дискуссии по поводу культуры и смысла; при этом, пожалуй, самый серьезный вызов брошен нынешним представлениям о рациональности. Эти аргументы сводятся к тому, что рациональность имеет семиотическое измерение, которому социальные науки не уделяли достаточного внимания, ибо рациональность считалась скорее прозрачной и самоочевидной, нежели содержащей самостоятельный внутренний смысл.
Реализм в сфере построения политики начинается с посылки о том, что ее выбор отражает волю соперничающих социальных групп с различными материальными интересами. Такой подход строится на идее о том, что политические коллективы формируются вокруг естественным образом складывающихся хозяйственных групп, что эти группы выражают и преследуют объективные материальные интересы и что выбор политики отражает относительный политический вес конкурирующих групп. История развития железных дорог позволяет несколько иначе взглянуть на эти политические процессы.
Группы интересов существуют изначально или конструируются?
Откуда возникают группы интересов? Большинство политических аналитиков считают, что они отражают хозяйственные фракции, стихийно возникающие по мере развития капитализма. Предполагается, что капитализм развивается согласно своей собственной внутренней динамике; следовательно, группы интересов порождаются силами, внешними по отношению к государству. Однако данные, приведенные в этой книге, показывают, что группы интересов конституируются характеристиками отдельных государств, – так было в эпоху обсуждения самых первых регулятивных законов. В США соперничество между штатами побудило торговцев, производителей и фермеров региона объединяться и вместе выступать за развитие каналов и железных дорог. Во Франции в ранние периоды политика в отношении общественного транспорта сформировала влиятельную группу государственных инженеров, поддерживавших развитие железных дорог точно так же, как они поддерживали развитие всех прочих видов транспорта. Британская политика laissez-faire в сфере транспорта привела к появлению сильной группы частных владельцев каналов, выступавших против выдачи разрешений на строительство железных дорог. И выстраиваемая политика была подчинена целям этих групп. В ответ на поддержку транспортной сферы региональными элитами американские штаты поддержали развитие железных дорог, раздав права на их строительство всем желающим; в ответ на требования государственных бюрократов, жаждавших контроля над железными дорогами, Франция выдавала разрешения только на строительство веток, спланированных государственными инженерами; сталкиваясь с противодействием со стороны операторов водных каналов, Великобритания требовала тщательного уточнения инженерных расчетов будущих железнодорожных веток. Группы интересов несомненно играли важную роль в построении политики, однако сами эти группы во многом являлись продуктом институтов политики (policy institutions) [DiMaggio, 1988; Dobbin, 1992a].
Объективны или субъективны интересы?
Теоретики рационального выбора и прочие исследователи проблемы интересов высказывали идею о том, что стихийно возникающие группы интересов движимы объективными материальными интересами, и показывали, что люди стремятся реализовать свои предсказуемые материальные предпочтения при помощи столь же предсказуемых стратегий. Их критики подошли к анализу теории экономического интереса с разных сторон, утверждая, что не всякая цель по сути своей экономическая (существует, например, любовь) и не всякое поведение служит только собственному интересу (существует и альтруизм), однако они не затронули ключевых идей об интересах и рациональности. Я попытался показать, что даже в случае экономической максимизации полезности «объективные» интересы обусловлены локальными, социально сконструированными представлениями об эффективности. Таким образом, «объективные» интересы в значительной степени субъективны, поскольку подчинены культурным представлениям нации о рациональности и эгоистическом интересе. Иными словами, национальные институты воплощают самые разные идеи о том, как действует экономическая рациональность, и эти идеи влияют на представления людей об их собственных интересах. Наиболее убедительным доказательством, опровергающим то, что предпочтения в сфере политики опираются на «объективные» интересы, является тот факт, что в разных странах в железнодорожном хозяйстве проводилась совершенно различная политика в каждой из четырех ключевых сфер[3]. Рассмотрим, например, сферу финансов. Казалось бы, каждой железнодорожной компании выгодно поощрять любую помощь со стороны государства. Тем не менее, поскольку американцы полагали, что конкуренция между регионами (localities) подстегнет конкуренцию в целом, а действия на федеральном уровне будут лишь провоцировать взяточничество, большая часть американских железнодорожных компаний одобрительно относились к финансовой поддержке со стороны штата и местной власти, но не к федеральной поддержке. Французы же полагали, что экономический рост должен направляться централизованным государством, и французские железнодорожные компании поддерживали государственное финансирование из центра, но избегали при этом финансирования на местном уровне, считая его иррациональным. Британцы, в свою очередь, верили, что любое вмешательство правительства неэффективно, и британские железные дороги противились правительственному финансированию в любой форме. Эти и другие представления о том, в чем же состоит собственный интерес, очевидно, сформированы под влиянием национального контекста.
Предположить, что агенты в сфере железнодорожного сообщения должны иметь прогнозируемые, универсальные предпочтения в области политики, означает выставить исследования групп интересов в карикатурном свете. И если для того чтобы предсказать, как будут осознаваться и затем преследоваться «объективные» материальные интересы, необходимо знать национальный контекст, то возможно, он заслуживает своего места и в теориях интереса. В сущности, на многих этапах истории развития железных дорог мы гораздо лучше могли предсказать предпочтения в политике того или иного индивида на основании его национальности, нежели на основании его отношения к средствам производства.
Всегда ли побеждает сильнейшая группа?
Исследователи групп интересов изначально убеждены, что выбор политики отражает волю наиболее сильной группы интересов или коалиции. В результате возникает весьма неудачная тавтология: группа, которая хочет провести свои интересы, должна располагать наибольшим объемом власти. В подкрепление своей теории исследователи групп интересов анализируют случаи, когда кажется, будто влиятельные группы проигрывают важные сражения и доказывают, что какая-то другая группа в действительности была более сильной (стратегия один) или что избранная политика на самом деле была одобрена наиболее влиятельной группой (стратегия два). В качестве примера можно привести дебаты по поводу Акта о регулировании торговли между штатами (Act to Regulate Interstate Commerce), против которого выступали влиятельные железнодорожные компании. Следуя первой стратегии, армия аналитиков пыталась показать, что группы фермеров, торговцев, нефтяников, вместе или порознь, на самом деле имели больший политический вес, чем железнодорожники, и поэтому выиграли битву за регулирование железных дорог. Габриэль Колко позднее пытался разрешить эту дилемму при помощи второй стратегии, утверждая, что к моменту принятия акта железнодорожники уже одобрили проект регулирования [Kolko G., 1965]. Я же, напротив, полагаю, что ведущие железнодорожные компании обладали огромным политическим влиянием, но проиграли схватку, которую считали для себя очень важной. В результате был принят акт, запрещавший фиксированные цены, в то время как железные дороги выступали за их легализацию. Тем не менее они потерпели поражение, поскольку в запасе у их противников было непобедимое риторическое оружие, затрагивавшее самые основы политической культуры. Американские государственные институты представляли концентрацию власти как угрозу сложившемуся политическому порядку и всячески стремились ее не допустить. Сторонники регулирования привели убедительный аргумент: государство должно не допустить концентрации власти в промышленной сфере точно так же, как оно не допускает ее в сфере политической.
Быть может, подобный исход кажется очевидным, но на него тем не менее стоит обратить внимание, если учесть, сколь популярна проблематика групп интересов в социальных науках. Сильные группы интересов постоянно проигрывают политические баталии, и зачастую это происходит именно потому, что политическая культура подсказывает их противникам убедительные аргументы, практически не оставляя возможностей для их опровержения. Дело в том, что институциализированная политическая культура не только предписывает то, как достичь определенных социальных целей, но и предостерегает против социальных практик, которые могут оказаться разрушительными и неэффективными. Эти предписания и предостережения и являются кирпичиками при построении риторических стратегий, которые зачастую сами в значительной степени институциализированы. Разного рода риторические ресурсы позволили клиентам американских железных дорог не допустить образования картелей, утверждая, что это приведет к неприемлемому уровню концентрации власти. Британские железные дороги теми же средствами сумели достичь противоположного результата – поддержать образование картелей, утверждая, что они защитят основных железнодорожных предпринимателей от хищнической ценовой конкуренции. А французские технократы отстояли созданные государством монополии, заявляя, что централизованное управление увеличит эффективность. Сегодня с учетом распространенных в США идей по поводу рациональности и связанных с ними риторических ресурсов трудно представить, что та или иная отрасль американской промышленности, сколь бы политически влиятельной она ни была, сумеет на федеральном уровне провести политику, которая позволит создать хотя бы одного-единственного монополиста, «национального чемпиона», – в то время как французы делают это регулярно. Отчасти это происходит потому, что согласно американским представлениям о рациональности такая политика выглядит иррациональной, но также и потому что трудно себе представить, какие аргументы могла бы предложить отрасль в пользу такой политики.
Многие исследователи политики начинают с посылки о том, что миром управляют трансцендентальные экономические законы, и рассматривают ее как реакцию на эти законы. В первой главе данной книги говорилось, что вера в существование внешних экономических законов есть артефакт современной рационализированной смысловой системы, где социальная реальность подчиняется некой общей теории, которая сродни физической. Против подобных экономико-детерминистских утверждений выдвигаются два контраргумента. Во-первых, существуют данные о том, что стратегии, построенные на основе весьма различных экономических принципов, ведут к схожим результатам с точки зрения промышленного роста и преуспевания. Во-вторых, данные показывают, что экономические законы, обнаруженные в тех или иных национальных пределах, отражают не столько действие внешних, универсально-исторических законов, сколько институциональную историю этих наций.
Экономическая теория как естественная наука
Экономический детерминизм предполагает, что результаты политики отражают рациональное применение ее творцами естественных экономических принципов или же что в результате действия естественных законов происходит отбор оптимальных политик выживания. Возникновение в рассматриваемых странах трех совершенно различных политических стратегий и связанных с ними представлений об экономической рациональности заставляет усомниться в подобной логике. В каждой из этих стран творцы политики, вопреки всякой логике, верили в эффективность именно своей уникальной национальной стратегии. Они были уверены, что понимают экономические законы, по которым развивается железнодорожное хозяйство, и что только строгое следование этим законам приведет к прогрессу. В то же время оттого, что каждая из наций не соблюдала экономические законы, действовавшие в двух других, железнодорожная отрасль во всех этих странах не погибла. Так, несмотря на убежденность французов в том, что передача планирования железных дорог в частные руки превратит железнодорожное сообщение в разъединенную, несвязанную и неэффективную систему, эта стратегия доказала свою работоспособность и в США, и в Великобритании.
Наиболее убедительным доказательством того, что экономические законы не определяют жестко понятия эффективности, является тот простой факт, что реализация радикально различающихся стратегий США, Франции и Великобритании позволила достаточно быстро сформировать в них скоростные, надежные и прибыльные транспортные системы. Несомненно, между этими системами были важные различия. Поощряя выход предпринимателей на рынок, Великобритания ускоряла строительство железных дорог; тщательное планирование маршрутов позволило Франции избежать избыточного предложения и перепроизводства транспортных услуг. И при этом ни одна из стратегий не потерпела серьезных провалов. В последние годы увеличивается число свидетельств, показывающих, что совершенно различные промышленные парадигмы могут вести к сходным темпам роста. В первые десятилетия XX в. проведение американской стратегии усиления ценовой конкуренции совпало с достижением высочайших темпов экономического роста – однако к такому же результату привела и германская стратегия поддержки картелей [Chandler, 1990].
После Второй мировой войны свою успешность доказала французская стратегия государственного промышленного планирования, однако не менее успешной оказалась и японская политика межфирменного сотрудничества, ориентированного на экспорт [Johnson, 1982; Shonfield, 1965]. Опыт Японии заставил западных аналитиков превозносить новую парадигму развития конкурентоспособности Юго-Восточной Азии как наиболее эффективную – до тех пор, пока Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея не достигли тех же результатов, используя совершенно иные стратегии [Chiu, 1992; Deyo, 1987; Hamilton, 1988]. Всякий раз, когда аналитики думают, что они, наконец, нашли «наилучший путь» к экономическому росту, история преподносит им массу контрпримеров. Очевидный урок, который следует извлечь из всего этого, заключается не в том, что «все дороги ведут в Рим», но в том, что в действительности к нему ведут многие дороги. При этом несколько удивителен тот факт, что при наличии такого множества данных в пользу возможности роста на основе самых разных хозяйственных систем экономисты-теоретики продолжают верить в наличие единственного «лучшего пути» и продолжают придерживаться взглядов Адама Смита на этот путь. Не менее удивительно и то, что Латинская Америка и Восточная Европа следуют предписаниям Милтона Фридмана и Джеффри Сакса, чьи идеи опровергаются почти всеми последними примерами достижения экономического успеха. <…>
Экономические детерминисты не забывают подчеркнуть, что индустриализация стран проходила при очень разных режимах политики (policy regimes). Эти аргументы они увязывали со своей метатеоретической приверженностью общей экономической теории, утверждая, что оптимальные стратегии зависят от уровня развития страны и от ее места относительно стран, следующих данному пути развития: те, кто позднее встал на этот путь (late developers), нуждаются в более активном вмешательстве государства. Первая гипотеза (зависимость от уровня развития страны) опровергается данными о том, что за всю историю развития железных дорог стратегии США, Франции и Великобритании не следовали сколько-нибудь отчетливой модели. Вторую гипотезу (зависимость от относительного положения страны) можно опровергнуть двояким образом. Во-первых, согласно этой теории, правительство США, которые последними из анализируемых стран вступили на путь индустриального развития, должно было бы более активно вмешиваться в экономику, чем правительство Франции. Этого не произошло. Во-вторых, один из выводов, которые можно сделать на основе рассуждений А. Гершенкрона, заключается в том, что в ходе индустриализации нации избирали различные степени вмешательства государства в хозяйственные процессы – в зависимости от потребностей своего развития. Однако в Великобритании и во Франции железнодорожная политика выросла непосредственно из политики в сфере строительства автодорог и каналов, использовавшихся еще в XVII в. Французские технократы взяли в свои руки развитие автомагистралей и каналов, чтобы обеспечить передвижение военного транспорта; и позднее государство взяло под контроль железные дороги скорее по привычке, нежели в результате рационального расчета. В целом утверждения Гершенкрона основаны на примерах интервенционистской политики, проводимой континентальными соседями Великобритании, позднее приступившими к индустриализации. Однако во Франции и других континентальных странах распространение промышленного интервенционизма объясняется скорее наследием абсолютистских государств, постоянно выдвигавших армии для защиты своих неустойчивых границ, нежели императивами позднего развития.
Социальные истоки хозяйственных принципов
Откуда же берутся столь четкие представления наций об индустриальной рациональности, если не из трансцендентальных экономических законов? Здесь можно указать на три процесса. Во-первых, в XIX в. все три рассматриваемые нации вменили существовавшим тогда социальным институтам определенные цели. По общим отзывам, на тот момент эти цели заключались в том, чтобы институты способствовали экономическому росту и помогали достичь: военного господства (абсолютистская административная система Франции); политической гармонии между соперничающими землевладельческими элитами (британская парламентская система участия); политического порядка в развивающихся колониях (американское местное самоуправление). Каждая страна трактовала свои государственные институты так. чтобы они стали неотъемлемой частью позитивной, рациональной теории экономического роста. К началу эпохи железных дорог Жан-Батист Кольбер и Анри де Сен-Симон объявили, что государственный дирижизм – залог экономического роста по Франции: Адам Смит и Давид Рикардо указали на защиту экономических свобод как тактику экспансии Англии; а Томас Джефферсон и Эндрю Джексон признали децентрализованное управление и самоопределение местного сообщества основной стратегией достижения прогресса в США. Урок, который можно вынести из этого опыта, таков: в современном мире институты служат неким целям, и мы склонны полагать, что институты, выдержавшие проверку временем, должны отвечать нашим нынешним целям; не имея данных о дисфункциональности социальных институтов, мы считаем их функциональными, отвечающими нашим целям и конструируем теории о том, как они работают.
Во-вторых, парадигмы промышленной политики на рубеже веков продемонстрировали удивительную устойчивость. Я предположил, что отчасти это произошло в силу того, что, вырабатывая эти парадигмы, нации проводили в жизнь стратегии, поддерживавшие политический порядок и свободы как необходимое условие роста. Каждая нация выработала индустриальную идеологию, соответствовавшую ее политической культуре, поскольку политика, которую она избирала для защиты политических прав, связывалась в сознании граждан с экономическим ростом. В США ограничения торговли ассоциировались с политической тиранией, и политика, проводимая для защиты свободы путем снятия ограничений в сфере торговли, вскоре стала рассматриваться как позитивная мера, способствующая экономическому росту. Во Франции железнодорожная политика, построенная так, чтобы не дать сильным частным предприятиям вмешиваться в отношения политического суверенитета между государством и его гражданами, вскоре стала изображаться как принципиально важная для единства отрасли и ее эффективного развития. Опека со стороны государства стала, таким образом, позитивным предписанием для индустриальной рациональности. В Великобритании стратегии, призванные защитить политические свободы граждан-предпринимателей, избавив их от хищнической конкуренции, вскоре стали представлять в качестве неотъемлемой части хозяйственной системы, выживание которой зависит от существования множества мелких фирм. Таким образом, в США политическая свобода стала ассоциироваться со свободной рыночной конкуренцией; во Франции попытки поставить интересы нации выше частных интересов оказались связанными с рационализирующим промышленным дирижизмом; а в Великобритании укрепление гражданских прав сопрягалось с поддержкой динамичного малого предпринимательства. Поскольку парадигмы промышленной политики ассоциировались со стратегиями, призванными поддерживать политический порядок и свободы, они становились устойчивыми к изменениям. Изменение парадигмы промышленной политики теперь требовало новой трактовки политического порядка. В США Рузвельт столкнулся с этим во время Великой депрессии, попытавшись заменить антимонопольные законы и законы регулирования железных дорог политикой, разрешавшей образование картелей: он обнаружил, что при этом должен сформулировать и новую риторику демократии, делающую больший акцент на сотрудничество и коллективизм [Dobbin, 1993].
Не все парадигмы политики столь тесно связаны с поддержанием политического строя. Например, большинство стран отделили макроэкономическую политику от политической культуры, что позволило им трактовать фискальную и монетарную теории как совокупность непривязанных к какой-либо нации, опровергаемых гипотез. Одним из результатов стало то, что нации смогли достаточно легко отказаться от ортодоксальной макроэкономической политики и после Великой депрессии заменить ее кейнсианством [Gourevitch, 1986; Hall, 1992].
Третье доказательство социального происхождения экономических принципов заключается в том, что помимо интерпретации стратегий (когда экономическая эффективность предполагала соответствие политическим целям) эти нации приспосабливали каузальные связи, которые им удавалось обнаружить в политических институтах, к задачам экономического роста. В США источником политического порядка выступал местный суверенитет при нейтральной федеральной надстройке. Американцы сначала распространили на промышленность принцип местного суверенитета и увязали его с политикой интервенционизма, а затем – и принцип нейтрального федерального надзора и внедрили стратегии, которые превратили правительство в нейтрального арбитра свободного рынка. Во Франции основой политического порядка было централизованное государственное регулирование военной и политической сфер. Французы распространили этот принцип и на промышленную сферу, развив его в течение XIX в. таким образом, чтобы он сочетал государственный контроль и частную инициативу. В Великобритании источником политического порядка выступало экономически слабое центральное государство, защищавшее политические свободы граждан. Британцы обобщили этот принцип, осознанно выработав промышленные стратегии невмешательства, призванные защищать свободу индивидов, способствуя экономическому порядку и росту. <…>
Соответственно трудные экономические времена зачастую толкают даже успешные нации к поискам новых промышленных стратегий. В 1960-е годы Великобритания экспериментировала с несколькими моделями государственного планирования – последним криком моды среди экспертов в области промышленной политики. Однако когда ни одна из них не помогла хозяйству оправиться от трудностей, страна вернулась к своим традиционным (хотя и неудачным) стратегиям, отказавшись от новых (столь же неудачных). Во Франции политические группы, от самых правых до самых левых, начиная с 1980-х годов, превозносили достоинства приватизации. Возможно, в долгосрочной перспективе приватизация оказала бы на Францию более существенное влияние, чем планирование на Великобританию, однако исторический опыт позволяет предположить, что все эти международные тенденции едва ли способны значительно и постоянно воздействовать на выработку парадигм промышленной политики в развитых капиталистических странах.
Как действует зависимость от первоначально избранного пути (path-dependence)? Иными словами, как выбор политики нации в момент времени t влияет на ее выбор политики в момент времени t+1? Новый институциональный/стейтистский (institutional/statist) подход к сравнительной политике предполагает, что старые политические стратегии рождают схожие новые стратегии, формируя особые организационные каналы (organizational avenues) для решения проблем. Я попытался показать, что при этом подходе уделяется недостаточно внимания тому, как существующие ныне стратегии формируют то, что воспринимается с точки зрения культуры (culturally conceivable). Институциализированные политические стратегии влияют на то, как мы воспринимаем причины и следствия, и этот процесс не менее важен, чем то, что эти стратегии обеспечивают организационные каналы для действия. В нашей книге неоднократно говорилось о том, что разделить результаты действия организационных характеристик и культурных предписаний отнюдь не просто; эта задача связана с самой сущностью социальной структуры и смысла. Социальные практики институциализируются, лишь обретая коллективный смысл, т. е. акторы воспроизводят практики, только если они воспринимают цели этих практик. Следовательно, всякая структура (или упорядоченная социальная практика) имеет свой смысл. На эмпирическом уровне трудно разделить структурные и культурные элементы, поскольку все они связаны и в результате в любой стране движутся в одном и том же направлении. Так что нет стран, о которых можно было бы сказать, что они переняли ориентированную на рынок культуру США или же ориентированную на государство структуру Франции. Нет стран, изучая которые можно было бы понять, какой же фактор сыграл роль причины. Но хотя рассматривать структуру и культуру как два разных измерения не имеет большого смысла [Sewell, 1992], на некоторых этапах работы я пытался аналитически их разделить, чтобы учесть аргументы против культуро-ориентированного подхода. <…>
Институционалисты предполагают, что когда нации сталкиваются с новыми проблемами, они скорее развивают уже существующие институты, нежели строят новые. В результате институциональные структуры влияют на выбор стратегии [Weir, Skocpol, 1985]. Некоторые факты подтверждают эту гипотезу в отношении Франции: страна передала управление железными дорогами компании «Мосты и шоссе» (Pontset Chaussees), в ведении которой находились каналы и автомагистрали. Однако подобные факты можно интерпретировать и иначе – как особый случай в управлении, когда при решении новых проблем политики воспроизводят логику, укорененную в уже существующей политике. Они могут делать это, используя существующие институциональные рамки; в тех же случаях, когда это невозможно, учреждаются новые институты. В США для управления железными дорогами правительства штатов сформировали новые агентства, скопировав логику регулирования банковских комиссий (banking commissions). В Великобритании парламент создал новую структуру для управления железными дорогами, скопировав логику ранее существовавшей фабричной инспекции. Одним из результатов подобного копирования логики в рамках этих наций является то, что промышленные институты обрели здесь некую каузальную обоснованность (causal coherence). Модифицированные на основе стратегий других отраслей железнодорожные стратегии, оказавшиеся успешными, впоследствии были скопированы другими секторами. Железные дороги, как и ряд других, рано сложившихся отраслей, послужили экспериментальной площадкой для современных промышленных стратегий; те, что признавались успешными, активно перенимались разработчиками стратегий и в XX столетии.
Интересное замечание в связи с этим высказывает Джон Зисман: национальные финансовые системы, охватывающие и государственные, и частные организации, определяют границы промышленных стратегий этих государств [Zysman, 1983]. Например, страны, не имеющие государственных банков, едва ли могут всерьез рассматривать национализацию как подходящую промышленную стратегию. Зисман предполагает, что в результате таких ограничений в промышленных стратегиях государства будет весьма немного инноваций. Тем не менее на заре развития железнодорожного хозяйства, до того как сформировались современные финансовые системы, инноваций было довольно много. Американские штаты отреагировали на появление железных дорог, выпустив государственные облигации (public bond guarantees) для привлечения капитала. Французское правительство разработало систему смешанной государственно-частной капитализации и временных частных концессий: система была новинкой и, несомненно, чутко реагировала на фискальные ограничения того времени. В Великобритании железные дороги сыграли основную роль при возникновении региональных фондовых бирж, позволявших привлечь местный капитал для строительства магистралей, которые удовлетворяли бы интересам местного сообщества. Вполне возможно, что в современном мире финансовые системы ограничивают возможности выбора стратегий, однако в XIX в. нации, похоже, действовали не в таких жестких пределах, ограниченных рамками существующих институтов.
Я пытался показать необходимость более выраженного антропологического подхода к анализу современных государственных институтов – подхода, который рассматривал бы организационные каналы, по которым эти институты направляют действие, и культурные предписания, которые эти институты представляют как два измерения одного и того же явления. Данный подход позволяет выявить различия между структурой и смыслом, а также между инструментальным и несущим смысловую нагрузку (либо бессмысленным). В сфере железных дорог организационные каналы и культурные предписания влияли на разворачивание политики, определяя типы организационно возможных и культурно мыслимых стратегических решений. Хотя разделить организационные и культурные аспекты социальных обычаев для оценки их относительной значимости довольно непросто, я попытался показать, что средства, которые приходят людям в голову, когда они приступают к решению той или иной проблемы, формируются культурой.