Угрюм-река. Книга 2 Шишков Вячеслав
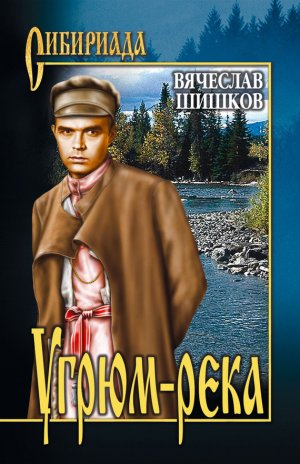
Положим, пани говорила не те слова, даже совсем другими были ее речи, но она именно сказала бы так, если б этот проклятый смерд Протасов не высунул в дверь свою бульдожью башку, чтоб все подглядеть, все подслушать своими ослиными ушами. О, пся крев!..
– Цо то бендзе, цо то бендзе?..
Хватаясь за виски, плавая в золотых мечтах, пан Парчевский проследовал по ковру к конторке и стал сочинять запросную телеграмму своему другу в Питер.
Эту ночь многие, кто успел узнать траурную новость, не спали вовсе.
Не ложилась спать и Кэтти. Она не могла отважиться одна пойти к Нине. Кэтти жила в просторной комнате у женатого механика. Чистейшая кровать, книги, портреты, всюду цветы – комната благоухает. На подушке, засунув мордочку в пушистый хвост, спит ручная белка Леди.
Девушке нет покоя. Институтка по воспитанию, младшая подруга Нины, она обожает ее. И вся ее внутренняя жизнь в заоблачных мечтах. Она также обожает и Протасова, пожалуй, маленько обожает и Парчевского. Но она много слышала про него дурного, и ее сердце всегда отодвигало его на запасные пути.
Интересно заглянуть в ее дневник. Она отражена в нем – вся.
«17 июля. Вчера, завиваясь, обожгла лоб. Ангел Нина подарила мне флакон парижских духов. Я без ума от них. Тонкий, но очень прочный запах.
21 июля. Сегодня мылась вместе с Ниной у них в бане. Я очень похудела, но похорошела. Ноги длинные. Очень жаль, что я не балерина. Хотя поздно. Мне 25 лет. Так полагаю, что похудела от этого несносного А. А. Пр. Мне показалось, что он мне строит глазки. Но, я знаю, он любит Нину, а на такую фифку, как я, – плюет. Он думает, что я – девчоныш.
30 июля. Папочка пишет, что их полк переводят в Рязань. Он назначен командиром полка. Парчевский жал мне руку двусмысленно. Он душка. Он нехорошо снится мне. Нескромно.
7 августа. Протасов никогда не возьмет меня замуж. Хотя Нина уверяет меня в обратном, я вижу по всему, что она неравнодушна к нему, она хитрит со мной. Леди обмочила мне подушку очень желтым, как гуммигут. Как жаль, что здесь нет лимонов. Я очень скучаю по лимонам и апельсинам. Еще скучаю о маме. Зачем она так рано умерла?
23 августа. Очень давно не писала. Протасов в моем присутствии сказал Нине, что он если женится, то на очень молоденькой девушке, наивной, как цветок, и постарается воспитать ее, возвысить до человека. Я заметила, как губы Нины задергались. Протасов сказал: “Но этого никогда не будет”. Он какой-то загадочный. Все уверены, что он заодно с рабочими. Какая низость!»
Все в том же роде. И вот сейчас, в эту глухую ночь, она вписала: “…Догорели огни, облетели цветы”. Бедное мое сердце чует, что Нина выйдет за Протасова. Она умная. И, кроме того, у меня есть на этот счет данные. А мне, бедненькой, кто ж? Парчевский? Эх, фифка, фифка! Уксусу не хватает в моей жизни. Уксусу!!»
Она разделась, не молившись Богу, бросилась в кровать и стала не совсем скромно думать о Парчевском.
А Парчевский меж тем уже два часа сидит у пристава.
Пили поздний чай. Пристав пыхтел. Разговор сразу перешел на событие. Пристав был в шелковой, вышитой Наденькой голубой рубашке с пояском и походил на разжиревшего кабатчика. Поставив на ладонь блюдце, он подул на горячий чай.
– Я вам, Владислав Викентьич, доверяю, – сказал он. – Вы – наш. А этот прохиндей Протасов – ого-го! Это штучка, я вам доложу.
– Вполне согласен…
– И ежели, боже упаси, он вскружит голову хозяйке, – а это вполне возможно, – ну, тогда… сами понимаете… Ни мне, ни вам… Да он меня со свету сживет.
– Не бойтесь, – сказал Парчевский. – Моему дяде кой-что известно про Протасова. Он же якобинец, социалист чистейшей марки.
– Правда, правда, – подхватила Наденька. – Я ж сама видела, как он ночью со сборища выходил…
– Да он ли?
– Он, он, он!.. Что? Меня провести? Фига!
Пан Парчевский чуть поморщился от грубой фразы Наденьки.
– Этот самый Протасов давно мною пойман… – И пристав утер мокрое лицо полотенцем с петухами. – Но… он был под защитой покойного Прохора Петровича.
– Ax, вот как? Странно. Я не знал.
И Парчевский записал в памяти эту фразу пристава.
– И знаете что, милейший Владислав Викентьевич… – Пристав прошелся по комнате, сшиб щелчком ползущего по печке таракана и махнул по пушистым усам концами пальцев. Он сел на диванчик, в темноту, и уставился бычьими глазами в упор на Парчевского. – Я, знаете, хотел с вами, Владислав Викентьич, посоветоваться.
– К вашим услугам, – ответил Парчевский и повернулся к спрятавшемуся в полумраке приставу.
– Наденька, сходи в погреб за рыжичками… И… наливочка там… понимаешь, в бочоночке… Нацеди в графинчик. – Наденька зажгла фонарь, ушла. Пристав запер за нею дверь, снова сел в потемки. – Дело вот в чем. Как вам известно, а может быть, неизвестно, покойный Прохор Петрович должен мне сорок пять тысяч рублей. В сущности, пятьдесят, но он пять тысяч оспаривал, ну, да и бог с ними. Тысяч двадцать он взял у меня еще в селе Медведеве, там одно неприятное дельце было, по которому он после суда оказался прав. И вот… – У пристава сильно забурлило в животе; он переждал момент. – И вот, представьте, я не имею от него документа. Опростоволосился. Теперь буду говорить прямо. Я должен состряпать фиктивный документишко задним числом с моей подписью и подписью какого-нибудь благородного свидетеля, при котором я вручал Громову деньги. Так как этот документ я представлю в контору для оплаты, а может быть, и в суд, то благородный свидетель должен быть человек известный и стоящий вне подозрений. За услуги я уплачиваю свидетелю, невзирая на свою бедность, – пристав икнул, – пять тысяч рублей. Из них тысячу рублей я могу вручить в виде задатка сейчас же, вот сию минуту. – Пристав опять икнул. – Не можете ли порекомендовать мне такого человека?
Теперь забурлило в животе у Парчевского.
– Н-н-н-е знаю, – протянул он и заскрипел стулом. – Надо подумать.
Ему не видно было лица пристава, но пристав-то отлично видел его заюлившие глаза и сразу сообразил, что пан Парчевский думать будет недолго.
Однако он ошибся. В изобретательной, но не быстрой голове Парчевского закружились доводы за и против. Пять тысяч, конечно, деньги, но… Вдруг действительно пани Нина будет его женой. Тогда пришлось бы Парчевскому доплачивать приставу сорок тысяч из своего кармана.
– Разрешите дать вам ответ через некоторое время.
– Сейчас…
– Не могу, увольте.
– Сейчас или никогда. Найду другого…
Парчевского била дрожь. Пристав подошел к нему, достал из кармана широких цыганских штанов бумажник и бросил на стол пачку новых кредитных билетов:
– Сейчас… Ну?
У пана Парчевского румянец со щек быстро переполз на шею. Синица, улетая, чирикнула в небе, и журавль сладко клюнул в сердце. Пять тысяч рублей, поездка в уездный город, клуб, картишки, стотысячный выигрыш.
– Ну-с?
– Давайте!
Наденька постучала в дверь.
– Успеешь, – сказал пристав и подал Парчевскому для подписи бумажку.
Тот, как под гипнозом, прочел и подписал.
– Спасибо, – сказал пристав. – Спасибо. Тут ровно тысяча. Извольте убрать. Моей бабе ни гугу. У бабы язык что ветер. Бойтесь баб… Фу-у! Одышка, понимаете. Ну вот-с, дельце сделано. Я должен вас предупредить, что Прохор жулик, я жулик, Наденька тоже вроде Соньки Золотой Ручки. Вы, простите, за откровенность, тоже жулик…
– Геть! Цыц!! – вскочил пан Парчевский.
– Остыньте, стоп! – И пристав посадил его на место. – Вы ж картежник… Вы ж судились. Вы же переписываетесь с известным в Питере шулером. Ха-ха-ха!.. Думаете, я адресованных к вам писем не читаю? Ого!.. Итак, руку, коллега!
Парчевский, как лунатик, ничего не соображал, потряс протянутую руку, вынул платок и, едва передохнув, отер мокрый лоб и шею. Пристав отпер дверь. Вошла Наденька.
– Ого! Наливочка! Ну, за упокой души новопреставленного. Надюша, наливай!
– Окропне, окропне!.. – шепотом ужасался по-польски Парчевский.
10
Так текла Угрюм-река в глухой тайге. Совершенно по-иному шумели невские волны в Петербурге.
Впрочем, прошло уже несколько дней, как Иннокентий Филатыч покинул столицу. Он успел перевалить Урал, проехать пол-Сибири. Вот он в большом городе, вот он идет в окружную психиатрическую лечебницу навестить, по просьбе Нины, Петра Данилыча Громова. По дороге завернул на телеграф, послал депешу дочке:
«Еду домой. Жив-здоров. Отечески целую. Иннокентий Груздев».
Психиатрическая лечебница отличалась чистотой, порядком. Иннокентия Филатыча ввели в зал свиданий. Ясеневая мягкая мебель, в кадках цветы, много света. Чрез широкий коридор видны стеклянные двери; за ними мелькали фигуры группами, парами и в одиночку. Вошел молодой, с быстрым взглядом, доктор в белом халате.
– Вы имеете письменное поручение навестить больного Громова?
– Никак нет. Мне устно велела это сделать его невестка, госпожа Громова.
– А не сын?
– Никак нет.
– Странно. Присядьте.
Доктор приказал сестре принести из шкафа номер десять папку номер тридцать пять.
– Больной наш странный. Он – больной и не больной. В сущности, его можно бы держать, при хорошем уходе, и дома. Это передайте там. Больной почти во всем нормален, но иногда он плетет странную околесицу, считая своего сына разбойником и убийцей.
– Ах, какой невежа! – хлопнул себя по коленкам Иннокентий Филатыч и состроил возмущенное лицо. – Нет, уж вы держите его, ради бога, здесь. Он сумасшедший, обязательно сумасшедший. Вы не верьте ему, господин доктор. Он только прикидывается здоровым. Я его знаю. И болтовне его не верьте. Я по себе понимаю. Я ведь тоже ненадолго сходил с ума.
– Ах, так?
– Да как же! – радостно, во все бородатое лицо, заулыбался старик, предусмотрительно придерживая концами пальцев зубы. – До того наглотался как-то водки да коньяков, что живому человеку едва нос не откусил. Поверьте совести! Людей перестал узнавать в натуре, вот дожрался до чего.
– А кто же вас вылечил? Какими средствами? Нуте, нуте, – заулыбался и доктор. Ему было приятно поболтать со здоровым, веселым стариком.
– А средствия, изволите ли видеть, самые простые. Конечно, пьянством вылечился я.
– Пьянством?!
– Так точно, пьянством…
– Ха-ха-ха! – покатился доктор. – Наперекор стихиям?
– Эта самая стехия, васкородие, так уцапала меня, что…
Сестра принесла портфель.
– Вот, глядите, – сказал доктор и вынул из портфеля полстопы исписанной бумаги. – Это коллекция прошений Громова на высочайшее имя, на имя министров, архиереев, председателя Государственной думы и какому-то Ибрагиму-Оглы.
– Так, так. Черкесец. Я знаю.
– Ах, знаете? А вот еще письмо на тот свет, Анфисе. Тоже знаете?
– Эту не знаю. Эта убита до меня.
– Кем?
– Ибрагимом-Оглы.
Иннокентий Филатыч резко смолк, надел очки, стал читать неумелый почерк Громова.
«Ваше императорское величество, царь-государь, вникните в это самое положение, разберитесь, пожалуста, во своем великом дворце со всем царствующим домом, как сын злодей запекарчил меня в сумасшедший дом. А как он есть злодей, то я никому об этом не скажу, никому не скажу, никому не скажу, окромя Анфисы на том свете».
И снова: «Ваше императорское величество» и т. д., слово в слово, кругом целый лист. В конце листа сургучная печать с копейкой вверх орлом и подпись.
Прошения министрам начинались так:
«Вельможный сиятельнейший министр господин, вникни в это самое положение» и т. д.
– А вот письмо черкесу, – подсунул доктор другую бумагу.
«Душа моя Ибрагим-Оглы, верный страж мой, а пишет тебе твой благодетель Петр Данилыч Громов понапрасну сумасшедший, чрез сына Прошку, чрез змееныша. Ведь ты тоже, Ибрагим-Оглы, сидишь в нашем желтом доме, ты тоже сумасшедший, только в другой палате. Я тебе гаркал, а ты кричал на меня: “Цх! Отрезано”. Дурак ты, сукин ты сын после всего этого и более ничего. А ты пиши ответ, седлай коня своего белого, пожалуста, который есть подарок мой. И скачи, пожалуста, к окну. Я выпрыгну, тогда мы ускачем к наиглавнейшему министру. Пиши, дурак, дьявол лысый, црулна окаянная».
Письмо Анфисе:
«Анфиса, ангел самый лучший!
- Ты не стой, не стой
- На горе крутой,
- Не клони главы
- Ко земле сырой.
Не верь, матушка моя, не верь, доченька моя холодная, быдто тебя убили. Никому не верь, никому не говори, кто дал тебе конец; одному Богу скажи да мне. Здравствуй, Анфиса; прощай, Анфиса! Жди, жди, жди, жди, жди, жди… Ура! Боже, царя храни. А Прошка, змееныш, жив. Мы его должны убить. Огнем убить. Сумасшедшие все умные. И я умный. А ты другой раз не умирай, колпак. Пишет Илья Сохатых за неграмотство. Аминь».
– Надевайте халат. Пойдемте к нему.
И вот Иннокентий Филатыч идет чрез большой зал за доктором. В зале народ.
– Профессор, профессор! Новый профессор!
– К нам, к нам, к нам!.. Я своим рассудком недоволен. Посоветоваться…
– Я не профессор, – говорил на ходу Иннокентий Филатыч. – Меня самого в камеру ведут.
– Ах, спятил, спятил? Ха-ха! Небо и земля, гляди! И этот спятил.
Иннокентий Филатыч и доктор приостановились. По паркетному полу танцевали пары. Бренчал рояль. В дальнем углу пиликал на скрипке длинноволосый, посматривая в окно на пожелтевший сад. Вот высокий черный дьякон в рясе шагает с весьма серьезным видом. Руки воздеты вверх и в стороны, вытаращенные глаза неподвижны. Размеренно возглашает, как по священной книге:
– Твоя правда, моя правда! Твоя правда, моя правда! Правда от Мельхиседека, первая и вторая правда!
Красивая девушка, изогнувшись на бархатной софе, мягко жестикулирует, ведет любовный разговор с воображаемым соседом; в милых, ласковых глазах туман недуга.
– Нет, нет, Дима, вы ошибаетесь. Здесь нет никого, здесь мы одни… Так целуйте же скорее!.. – Она вся подалась вправо, в пустоту, но вдруг схватилась за голову и с ужасом отпрянула: – Мертвый, мертвый, мертвый!..
К ней подбежала сестра.
Иннокентий Филатыч вопросительно уставился на доктора и с робостью подметил в глазах врача неладное: будто он глядит и ничего не видит, будто прислушивается к чему-то далекому, за тысячу верст. «Эге, и он с максимцем!»
– Не троньте меня, не прикасайтесь! – кричал безумный с толстыми вытянутыми губами, весь в угрях, плешивый. Он шел вдвое перегнувшись и раскорячив ноги. – Осторожно! Сейчас отвалится… – Со смертельным страхом на лице и в голосе он оберегал настороженными руками какую-то висевшую пред ним воображаемую драгоценность. – Осторожней! Мой нос на ниточке. Сейчас отвалится… В нем восемьдесят пудов весу… Смерть тогда, смерть, смерть, смерть! Дорогу!!
Кто-то дико хохотал. Кто-то с великим рыданием пел псалмы. Кто-то выл, как зяблый волк.
Иннокентию Филатычу сначала было любопытно, потом он испугался; вытянулось лицо, задрыгали поджилки.
– Пойдемте, – сказал он доктору. – Мне худо.
Белая маленькая палата, белая койка, белый стол, два стула, окно очень высоко приподнято над полом. Возле стола в согбенной позе – руки и рукава – совсем не страшный, тихий человек.
– Они?
– Да, он.
Иннокентий Филатыч знавал его лохматым широкоплечим мужиком с густой седеющей гривой, с большой темной бородой, с зычным, устрашающим голосом. Теперь пред ним безбородый, безусый, с бритым черепом, узкогрудый человек. Лишь хохлатые седые брови козырьками придавали глазам прежний строптивый вид. Иннокентию Филатычу стало очень жаль его. Иннокентий Филатыч с горечью каялся в душе, что в разговоре с доктором бухнул сдуру такие необдуманные речи про несчастного безумца.
– Здравствуйте, Петр Данилыч, батюшка!
– Кто таков? Систент? – мельком взглянул больной на старика.
– Я Груздев, Иннокентий Филатыч Груздев… Может, помните?
– Как же, как же… Помню. Грузди с тобой собирали в лесу. Садись, а то схвачу за бороду, сам посажу. Я буйный.
Старик безмолвно сел, мысленно творя молитву. Доктор пощупал у больного пульс, сказал:
– Совсем вы не буйный. Вы тихий, прекрасный человек.
– Врешь! – выдернул больной свою руку из руки доктора. – А врешь оттого, что тебе Прошка платит большие деньги. Ну, и не ври. Я не люблю, когда врут. Коли был бы я человек прекрасный, не сидел бы в желтом доме у тебя. – Он повернулся к Груздеву и строго спросил: – Кто подослал тебя? Рцы!
– Нина Яковлевна меня просила, супруга Прохора Петровича, – с душевной робостью сказал старик.
– Не поминай Прошку! Не поминай! Убью! Я буйный.
Вдруг брови Петра Данилыча задвигались, как у филина на огонь, сморщенные щеки одрябли, он припал бритым черепом к столу, уткнулся лицом в пригоршни и заперхал сухим, лающим плачем. Острые плечи его тряслись, голова моталась. Иннокентий Филатыч расслабленно кашлянул, выхватил красный платок и засморкался. Какой-то удушливый мрак плыл пред его глазами, сердцу становилось невтерпеж. «Эх, Прохор, Прохор, посмотрел бы на своего батьку!» – горестно подумал он.
Петр Данилыч не спеша поднял голову, поморгал глазами, шумно передохнул:
– Уйди, уважь меня, Сергей Митрыч, друг… Выйди на минутку.
Доктор вышел, шепнув Груздеву:
– Не бойтесь.
Петр Данилыч подъехал со стулом к гостю, взял за руку, погладил ее:
– А увидишь Прошку, скажи ему: батька хоть и ненавидит, мол, тебя, а любит. Нет, нет, нет, не говори! – закричал он, замахал руками и, дергаясь лицом, отъехал к самому окну.
– Я так полагаю, Прохор Петрович возьмет вас к себе.
– Был разговор?
– Был, – соврал гость.
Петр Данилыч вскочил, запахнулся в короткий, не по росту халат и стал быстро, как под крутую гору, кружить по комнате.
– Сам, сам, сам приеду, – бормотал он. – Я велю приклеить себе усы, бороду, лохмы. А то опять выгонит, а то опять засадит. Сам, сам приеду грозным судией. Дай покурить!..
– Нету-с.
– Дай понюхать!
– Нету-с. Вот апельсинчиков питерских вам в подарочек. – И старик положил на стол кулек.
– Уважаю. Здесь не дают. Да я и вкус потерял к ним. А съем. – Он вынул апельсин, торопливо стал скусывать с него кожу и сплевывать на пол.
– Позвольте, я очищу.
– Очисти, брат Кеша, очисти… – Он подсел к Груздеву и скороговоркой загудел, как шмель. – Я не сумасшедший, я здоровый. Я только дурака валяю, чтоб не выгнали, да дурацкие прошения пишу для отвода глаз. Я бы написал, я бы сумел написать, да боюсь – и впрямь освободят. Куда я тогда? В петлю? В петлю? Али к Прошке? Он не примет, опять куда-нито засадит, а нет – убьет. А ты пожалей меня, друг Кешка, пожалей. Упроси, укланяй Нину; она добрая. Пусть возьмет. А то спячу и впрямь. Пусть возьмет. В каморке буду жить, внуков пестовать. Ведь у меня деньги, много денег. Где они? У Прошки, у грабителя. А что ж, а что ж?.. Мне еще шестьдесят два года, мне еще жить хочется. Здесь уж который год живу. Пожалей, брат, пожалей меня, Кешка! За то Бог тебя пожалеет. Слезно прошу, слезно прошу, Кешка, родной мой, милый мой, возьми меня сейчас!.. Я как-нибудь с краешку. Якова Назарыча попроси… Всех попроси… Слушай, слушай! Поезжай в Медведево, по Анфисе панихиду. По жене моей панихиду. А когда вернусь, всех ублаготворю. И слушай – тебе как другу: приеду, притаюсь, ласковым прикинусь. А потом, когда час придет, выпущу когти и сожру Прошку, как мыша, с костями проглочу. Без этого не умру. Без этого меня земля не примет. Ярость гложет меня денно-нощно. Вишь, какой я? Чем был – чем стал! Злодей он, злодей, как не стыдно его харе! Отца родного… О-т-ца-а-а!..
Тут у него полились слезы, он бросил на пол недоеденный апельсин и повалился на кровать, лицом в подушку.
Вошел доктор с часами в руках и склянкой.
– Должен просить вас удалиться. Больше нельзя. Больной, не хотите ли ложечку микстурки?
Тот отлягнулся ногой и застонал. Сердце Иннокентия Филатыча обливалось кровью. Впору самому бы брякнуться на пол и рыдать.
– Прощай, Петр Данилыч, батюшка! Оздоравливайте.
– Здравствуй, Кешка Груздев, здравствуй! Твердо помни все. Не сделаешь – сдохну, а и мертвый ходить к тебе буду, замучаю. Я буйный.
Сморкаясь в красный платочек, старик возвращался со свидания, как с погоста, где только что зарыли в могилу друга. Он мрачно думал о далеких и близких, о тягостной людской судьбе, о собственной, склонившейся к закату жизни, о любимой дочери своей.
Его телеграмму Анна Иннокентьевна получила ночью, с трепетом прочла, ударилась в радостные слезы: «Папенька жив-здоров, папеньку не засудили». Утром пошла к Нине Яковлевне поделиться своей новостью, еще раз погрустить с хозяйкой о ее беде. Но дом Громовых в это утро не был опечален: вчерашние четыре телеграммы поставили в его жизни все на свои места.
Нина Яковлевна внешне выражала большую радость. Но что у нее в душе – никто, никто не знал. Даже Протасов, даже священник, которому заказан был благодарственный молебен о здравии «в путь шествующего» раба божья Прохора.
И всякий отнесся к странной игре судьбы по-своему.
Мистер Кук, совершенно протрезвев к утру, быстро вскочил с кушетки, потянулся и закурил трубку. Вместе с солнцем в лицо ему глянул предстоящий кошмар сегодняшнего дня. Нет, довольно быть тряпкой! Сейчас же пойдет к своей мадонне и… «Либо буду паном, либо очень пропаду», – попробовал думать он по-русски.
Иван, усерднейше подавая барину халат, сказал:
– Прохор Петрович живы-здоровы. Скоро изволят прибыть.
Изо рта остолбеневшего мистера Кука упала трубка и раскололась надвое.
Пятилетняя Верочка втолковывала волку:
– Волченька, серенький… Папочка скоро приедет. Ей-богу! Вот увидишь. Тилиграм пришел.
Волк крутил хвостом, лизал ей лицо и руки. Он внимательно прислушивался к человеческим речам, проникался общим приподнятым в доме настроением, часто вскакивал на подоконник и подолгу смотрел вдаль, где вот-вот должны забрякать бубенцы зверь-тройки.
Да! Всяк отнесся к судьбе хозяина, как подсказывало сердце. Пропившийся Филька Шкворень дал крепкий зарок не пьянствовать, ел толченый лук, запивал водой. «Ах, беда, беда… Влетит мне!» Напротив, дьякон Ферапонт с утра ушел к шинкарке, сказав жене, что идет в кузню, на работу. Весь день в радости пил и, чтоб не услыхала Манечка, в четверть голоса славословил Бога, спасшего Прохора Петровича от смерти.
Андрей Андреевич Протасов, получив известие, присвистнул как-то на два смысла и нахмурил брови.
Рабочие стали молчаливы. Нагоняя пропущенное, работали с усердием. Вздыхали.
Угрюм-река по-прежнему катила свои воды. С виду равнодушная ко всему на свете, широко и плавно стремясь в солнечную даль, она омывала земные берега, где назначена могила каждому.
Наденька и пристав злобно фыркают друг на друга, как кошка и собака, пан Парчевский с утра мается резкими приступами частого расстройства желудка, Иннокентий Филатыч едет, Угрюм-река течет.
Но мы обязаны знать, что было в Питере до отъезда Иннокентия Филатыча. На другой день после происшествия Яков Назарыч с разрешения врача показал Прохору заметку о его смерти. Прохор прочел, улыбнулся, а потом рассмеялся громко, во все легкие, но тут же схватился за грудь и болезненно сморщился.
Тем же утром автор этой заметки, хроникер желтой газетки Какин, в люстриновом разлетайчике, в длинном, цвета маринованной куропатки галстуке, написал за десятку опровержение, смысл которого был подсказан пострадавшим.
«СИБИРСКИЙ КОММЕРСАНТ П. П. ГРОМОВ НЕВРЕДИМ
Во вчерашней заметке о смерти г. Громова вкралась досадная неточность. Заметка была составлена на основании рассказа психически ненормального громовского служащего И. Ф. Груздева, возвратившегося из бани и там, видимо, запарившегося. Мы сегодня лично навестили П. П. Громова. Он в шутливой форме рассказал нам, как накануне подвыпил с фабрикантом Ф. в одном из столичных ресторанов и, видимо, там отравился несвежей стерлядью. Возвращаясь домой, почувствовал себя скверно и лишился чувств. Не исключена возможность, что на него наехала карета, а может быть и автомобиль, так как пострадавший впал в длительный трехчасовой обморок, который и был истолкован как естественная смерть. Таким образом, ни о каких мнимых жандармах, ни о какой уголовщине, к счастью, не может быть и речи. Редакция выражает г. Громову свое искреннее и глубокое сожаление в опубликовании неосмотрительной роковой заметки, перелагая свою невольную вину на совесть вышеуказанного психически больного Груздева».
Прохор выслушал, одобрил, прибавил репортеру еще десятку, и заметка получила блестящее завершение:
«Редакция, с своей стороны, считает своим долгом выразить неподдельную радость, что столь крупный коммерсант, как Прохор Петрович Громов, слава о больших делах которого все шире и шире распространяется по нашему отечеству, – здоров и невредим. Такие деятели европейского масштаба весьма нужны России. Просим другие газеты перепечатать».
– Отлично, – сказал Прохор. – Ежели заметка будет напечатана целиком, получишь еще двадцать пять рублей. И следи за газетами. За каждую перепечатку тоже по четвертной.
Счастливый репортер, елико возможно изогнувшись, три раза поклонился Прохору, три раза с пафосом ударил шелковой кепочкой в ладонь, оттопырил свой ледащий зад и, в знак высокого почтения к хозяину, стал, расшаркиваясь, выпячиваться спиною в дверь.
Полиция точно так же ничего не могла добиться от Прохора, кроме тех данных, что он поведал репортеру, и сверх сего ста рублей за беспокойство. Прохор отлично понимал, что трепать, позорить свое имя без всякой надежды на успех – невыгодно и глупо. Ну, что ж… всяко бывает. Он съел пощечину от стервы, претерпел побои от мерзавцев, – вперед наука. Он все отлично помнил, что в тот вечер происходило с ним, но ни слова ни тестю, ни Иннокентию Филатычу. Все шито-крыто.
А меж тем впоследствии, и очень скоро, вся подноготная докатилась до Парчевского и, чрез Наденьку, была доведена до всеобщего сведения.
Прохора пользовал первоклассный доктор. Побои сильные, втерпеж разве коню, но богатырская натура Прохора все превозмогла: через неделю он был таким же бодрым, энергичным.
У Прохора Петровича деловые дни и вечера в заботах. Заседания, совещания, хлопоты – то в железнодорожном департаменте, то в учреждениях горного ведомства. Он присматривался к инженерам, к техникам. У него должны начаться большие работы по постройке крупных мастерских и оборудованию нового прииска. Помимо того – исполнение взятого подряда: прокладка двух шоссейных дорог в тайге и железнодорожного пути к магистрали. Эта последняя миллионная работа – пополам с казной. С тремя инженерами и шестью техниками он заключил договоры. Чрез месяц они должны быть у него на месте. Путиловский завод заканчивал нужные Прохору механизмы, завод Сан-Галли – чугунные отливки.
Прохор приказал Иннокентию Филатычу собираться в путь-дорогу.
– А ты?
– Я через неделю следом. В Москву заехать надо. Механический завод в купеческом банке заложу.
– Зачем?
– Не знаешь? А еще коммерсантом себя мнишь… Балда!
Все втроем они два дня ходили по магазинам, выбирали подарки домашним. Прохор заказал у фабриканта Мельцера на десять комнат дорогую обстановку ампир, рококо, жакоб – карельской березы, птичьего глаза и красного дерева с бронзой. Иннокентий же Филатыч приобрел в дар Анне Иннокентьевне небольшое колечко с бирюзой и для украшения зальца – оригинальную никчемушку: на каменном пьедестале бронзовая собачонка; в ее бок вделаны часы, вместо маятника – виляющий хвост, а в такт хвосту собачонка выбрасывает из пасти красный язычок. Старик мог бы накупить себе всякого добра, но он не при деньгах, а Прохор наотрез отказал ему выдать даже сотню, справедливо опасаясь, что Иннокентий Филатыч может на прощанье закутить. Поэтому старик – большой любитель зрелищ – последний раз пошел в Александрийский театр не в партер, а на балкон. Здесь с ним едва не приключилась большая неприятность. В антракте, перегнувшись чрез барьер, он наблюдал публику внизу. Вдруг:
– Миша! – закричал он. – Миша! Слышь, Миша… Вот глушня…
Миша в сером клетчатом пиджаке сидел с краешку, в местах за креслами, и читал газету. Иннокентий Филатыч попросил у соседа бинокль, и когда оптические стекла поднесли Мишу почти вплотную, старик заулыбался и тихо поприветствовал:
– Здравствуй, Миша! А я наверху.
Но тот – как истукан. Тогда Иннокентий Филатыч достал из кармана надкушенное крымское яблоко и пустил Мише в спину. Но рука пронесла, яблоко ударилось в шиньон рядом сидевшей с Мишей дамы. Старик быстро наставил бинокль, и его улыбчивое лицо вдруг вытянулось: вскочившие дама и Миша с негодованием глядели вверх. Отцы родные! Да ведь это совсем не Миша, не друг-приятель из Апраксина, у которого старик был вчера в гостях; ведь это какой-то бритый дед в очках.
– Ваша фамилия! Пойдемте.
И на плечо Иннокентия Филатыча легла рука квартального.
И там, на лестнице, после строгого замечания, старик за трешку был с честью отпущен на свободу.
– Вот история! Кого же это я огрел? – бранил себя огорченный Иннокентий Филатыч, не успевший досмотреть двух актов «Не в свои сани не садись».
11
Встреча была торжественная, неожиданная даже для самого Прохора. Встречали с колокольным трезвоном, как архиерея, с пушечной пальбой, как царя. День был праздничный. Несколько сот рабочих спозаранок стояли на площади возле дома Громовых: пригнали их сюда окрики стражников, поощрительное уверенье пристава, что будет выкачена бочка водки, а главное – укрепившаяся в народе басня, что у Прохора выбит правый глаз и по самое плечо вырвана левая рука.
С башни «Гляди в оба» видны все концы. И лишь одноногий бомбардир ахнул в пушку, из церкви, с толпой старух и баб, повалил к месту встречи крестный ход. Отец Александр придумал этот ловкий номер для укрепления в рабочих религиозно-нравственных чувств к своему хозяину.
После первого выстрела и колокольного трезвона сбежался почти весь народ. К общему разочарованию рабочих, Прохор вылез из кибитки цел и невредим. Приложился наскоро к иконе, ко кресту, поздоровался с женой, встретившей мужа по-холодному, поздоровался с дочуркой, со служащими.
– Папочка, а что мне привез? Папочка, волченька запертый сидит…
Ахнула вторая, за нею третья пушка, начался краткий молебен тут же, на лугу. Меж тем волк, поняв, в чем дело, с налету вышиб раму, выскочил на улицу и – прямо в толпу. Внезапным прыжком на грудь он сразу опрокинул молящегося Прохора и с радостным визгом, взлаиваньем, ревом бросился дружески лизать своему любимому владыке лицо, руки, волосы. Он мгновенно обсосал его всего, как пьяный плачущий мужик обсасывает своего друга. Минута замешательства прервала молебен. Толпа смешливо фыркала; многие, приседая, хватались за живот. Дьякон Ферапонт, бросив на полуслове ектенью, тихонько хохотал в рукав.
Волк пойман, уведен. Прохор отряхнулся, встал на свое место, на ковер, рядом с пасмурной своей женой, и укорчиво, углами глаз, взглянул в ее лицо. Нина покраснела. Проклятый этот волк!..
Потом пошло все своим чередом: дела, дела, дела. По Угрюм-реке зашумела шуга, и вскоре запорхали по всему простору белые снежинки.
Прохор и слушать не хотел Иннокентия Филатыча и Нину насчет возвращения Петра Данилыча на свободу. Настанет время, он сам поедет в психиатрическую лечебницу и посмотрит, чем дышит батька. А там видно будет.
Но вот до Прохора докатились слухи, что Парчевский многим лицам, даже десятникам и мастерам, показывал какое-то петербургское письмо, где описывалось, как Прохор попал в ловушку и был бит. Он понимал, что теперь по всем предприятиям идет тысячеустная молва о скандальном позорище его. Молчат пред ним как мертвые, а знают, мерзавцы, знают все, даже больше, наверное, чем было.
Будь проклят Питер, этот анафема Парчевский, будь проклята вся жизнь!
Такая уйма дела – голова идет кругом, в волосах Прохора стали появляться ранние сединки. Нина заявляет какие-то там свои права, тихомолком фордыбачат рабочие, а тут еще эта дьявольская неприятность.
Что ж делать? Мигнуть Фильке Шкворню, чтоб раздробил в тайге Парчевскому череп? Рискованно и, значит, глупо. Пережитые Прохором позор, побои клещами ущемили душу, принизили его в своих собственных глазах. Но там, в Петербурге, выше головы заваленный делами, с нервами, взвинченными до предела, он так устал и замотался, что бессильно махнул на все рукой. Неотвязные вопросы: кто был генерал, кто жандармы? – день и ночь мучили его. Дуньку, тварь, Авдотью Фоминишну, ударившую Прохора в лицо, он будет помнить век. А вот кто те? Кто самый главный прощелыга – поджигатель?
Как-то пригласил Наденьку на башню «Гляди в оба». Лицемерные ласки, перстенек, туманные обещанья вновь приблизить ее к себе – и через три дня нужное петербургское письмо в руках Прохора Петровича. Со смертельной злобой, кусая губы, несколько раз прочел, сказал: «Эге, молодчики!.. Так, так…» – и спрятал в несгораемый шкаф, в тайный ящик.
На званом обеде были все. Был пристав, Парчевский, Наденька и Груздев.
Прохор, как всегда, гостеприимен, старался казаться беспечным, даже веселым. Но это ему плохо удавалось: какие-то тени скользили по лицу. Наконец из неустойчивого равновесия вывел его Протасов, заявивший, что здесь глушь, здесь царство медведей и духовной тьмы.
– Я завидую вам, Прохор Петрович, что вы окунулись, хоть ненадолго, в культуру, побывали в таком блестящем городе, как Петербург.
– Я ненавижу город вообще, а Питер в особенности, – нахмурился Прохор.






