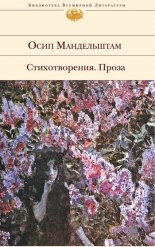Кошка-дура. Документальный роман Черкасский Михаил

– Ну, я, я!.. Вы чего, не знали меня?
– Не знаю, не знаю!.. Может, не знал. Но если тебе все эти дураки…
– Кто все, кто? Дядя Витя дурак? Нет, вы не хихикайте, вы мне прямо скажите: дурак?..
– Нет, но… – «наивный, блаженный…»
– Да или нет?
– Тебе нужно так: либо белое, либо черное.
– Да, так! Аня Ильина – дура?
«Поехала!» – Анна?.. – «Как ей сказать?» – Аня хорошая, добрая.
– Я вас спрашиваю… – И уже голос окован металлом. – Дура она или нет?
«Ты, ты дура, если не понимаешь!» – Нет, но она… пионерка…
– Как это? – Растерялась
«Вот и поговори с тобой». – Умная, добрая пионерочка.
– Вы не виляйте, вы – прямо!
– Прямо нельзя. И прямо ты еще не поймешь. Не доросла.
Ну, не мог же он, ну, никак не мог даже он прямо сказать ей, жене-нежене, как противно ему, омерзительно все советское, большевистское – подлое, лживое, рабское и жестокое! Вот и Аня – хорошая, славная, но ведь курица пионерская, верующая. А еще: он вышагивал души землемерной треногою, она же – босыми ступнями. Ему бы встретиться с нею нынешнею, но, позвольте, разве не было и тогда «нынешних»? Но ему молодую и – эту, лишь эту. И когда терпеливо добивался ее, видел все, но теперь от жены такого принять не мог – ее «примитивной, младенческой меры». Говорить откровенно, как с другом-женой, пока что не мог, и не требовать от родного уже человека тоже не мог.
– Почему не пойму? Когда говорят прямо и честно, я всегда понимаю.
– Таких же, как ты. – Пробурчал угрюмо, устало.
– Ну, и пусть, пусть таких, а других я не понимаю и понимать не хочу! Это ты, вы заумный… вообще…
– Дура!! Ты выросла среди дураков и хочешь остаться навсегда дурой!
Когда смолк басовитый гитарный рокот, глухо выговорила:
– Ну, все… Вот вам бог, а вот и порог… – Наклонила темноволосую голову.
Ладно б кричала, шумела, но так… Потерянно, ошеломленно молчал. Глядел. На эту милую и вот уж чужую голову. На эти руки, что могли бы, наверно, когда-нибудь сказать ему нечто нежное, нужное, и вот уж чужие. На всю ее, такую красивую, такую единственную, и вот уж чужую. Вздохнул, нашел шляпу, снял с гвоздя коричневое кожаное пальто, побренчал спичками в глубоком кармане, вышел. Ушел.
– Ну, и пусть, пусть!.. Пусть катится на здоровье!.. Месяца не живем, две недели всего, и вот уже наорал!.. Дура!.. Такая же!.. Не-ет, хватит!.. Не была замужем и не буду, не буду, ни за что!.. – Шагала, как барс в клетке, курила, как справный мужик, швыряла спички на стол, падали на пол, поднимала. И уже какие-то новые мысли шептались в душе. Вот, теперь все, все станут хихикать, злорадствовать. Ну, и черт с вами! А куда он пошел? Ух, какой дождь… Но куда он, ведь некуда?..
Черный ноябрьский дождь слезливо сморкался под окном – по крыше, над которой в человеческий рост стояла ее комната; сморкался и шел, то гулко топал по жести, то меленько семенил, всхлипывал в водостоках, простуженно кашлял, сипел. В желтом свете, падавшем из окна, видела, как сносило беловатые струи из трубы. Себя тоже там видела – тень, уходившую в черноту, за карниз. Была ночь. Весь коридор спал. Все тридцать две семьи их этажа. «Два очка на все тридцать две семьи, не войти». – Сказал он об уборной. Он сказал. Не войти. Не придет.
Заперла дверь, выходившую в коридор, задумалась, держа ключ и.. вытащила его… Чтобы он смог открыть. Если…
В семь утра (еще было по-ночному темно) провернулся в замке ключ, желтый конус из коридора лег на пол, на стену: на ней косая понурая тень. Постояла, сдвинулась. Поля шляпы обвисли, с них текло. Коричневая кожа набухло блестела. Никто ничего не сказал. Один молча разделся, другая молча оделась. Да и о чем говорить, все ясно: быть замужем – значит, терпеть. Быть женатым – значит, терпеть.
Итальянский роман
Зимой в Ленинград приехал редактор всесоюзной «Пионерской правды», зашел в гости к местной сестричке-газетке, познакомился. Была у него и конкретная цель – найти нового собственного корреспондента по Ленинграду и северо-западу: Колчину надо менять, не справляется. Присоветовали ему Быстрову. С виду понравилась, молодая, энергичная, хорошо держится, даже слишком, можно сказать, независимо. Здесь, на отшибе, так и надо. Биография тоже хорошая. «Послушайте, Нина Ивановна, хотите собкором к нам?» – «Как, а Колчина?» – «Ну, она… в общем, не будет работать у нас». – «Нет, на живое место я не пойду».
На том и заглохло. Несколько месяцев спустя позвонила сама Зинаида Колчина: «Нина, я ушла из „Пионерки“, слышала, что предлагать будут тебе. По-моему, есть смысл согласиться».
К тому времени все решилось: книга Петровского вышла, и он собрался уходить из редакции. На память осталась одна, с дарственной надписью: «Ежику Ивановичу, единственному, дорогому, от автора». И поэтому, когда вечером решила посоветоваться с мужем, он сказал: «А что, Еж, пожалуй, это дело – „Пионерка“. Тянуть нечего, на такое место всегда найдут». – «А мне, между прочим, предлагали еще полгода назад». – «Естественно: ты же умница».
Оформляться предстояло в Москве, но анкета ждала дома. Тридцать шесть листов, усеянных вопросами, тридцать шесть рентгеновских снимков, которые должны были просветить ее прошлое и настоящее во имя грядущего. С ней самой все получалось просто (не была, не участвовала, не состояла), но, когда дошел черед до родственников мужа (вот еще одно неудобство супружества), задумалась.
– Миша, я помню, что ты мне говорил о родителях, но как же мне все это написать?
Вот именно, как, если отец его был из «личных» дворян (за заслуги), а мать столбовая (по роду).
– Видишь ли… – остро прищурился, – мать моя родом из Хренниковых, так ты и напиши то, что пишет в анкетах знаменитый наш композитор Тихон Хренников. – И небрежно добавил: – Он ведь какой-то там родственник нам.
– Да ну тебя, хватит трепаться! Говори, что писать.
– Про отца напиши – почетный гражданин… – и, упреждая взрыв: – да, да, Еж, это тоже социальная категория, почти что происхождение.
– Врешь?..
– Еж, ну когда же я врал? – Ласково и насмешливо остановились темносияющие глаза. – Он был инспектором гимназии императрицы Марии Федоровны, на наш нынешний прекрасный советский язык это звучит так благозвучно: завуч.
– Ну, завуч… – Кисло проговорила, рассеянно глядя на белый лист, где рябили черные типографские мошки.
– Сейчас, сейчас, Еж, что-нибудь мы с тобой и про матушку, и про батюшку сочиним. Даром что не композиторы и не беллетристы.
Подсел, и действительно сочинили. Какую-то старинную вариацию на современный лад. Дальше, где пошло про партийность родственников, начала она шустро листать меловые дести: без… без… Девятнадцать раз написала, на двадцатом литератор не выдержал: «Слушай, Еж, как-то это все некрасиво у тебя получается: без, без, какие-то бесы, прости господи. Пожалуйста, напиши полностью». Верно, взяла ручку, приставила безпартийный (ая), все!.. Просмотрела, вложила в конверт, отнесла на почту.
И шла она по Невскому в прекрасный весенний день, как вдруг встала, простонала, озадачив прохожих: дура, какая же дура!.. Теперь они там подумают… Ну да, подумают: журналист, поступает в центральную школьную газету, а безграмотная, пишет «безпартийный…»
Через год, в такой же прекрасный весенний день, когда будет умирать ребенок, вдруг вспомнит на миг об этой анкете, и какой же глупой, неблагодарной увидит себя. А тогда пришла, раздраженно выплеснула на мужа:
– Вот, благодаря тебе напорола!
– Послушай, Еж, почему же ты так плохо думаешь о тех людях?
– Каких еще людях?
– Да тех, для которых ты заполняла лучшие страницы нашей совместной жизни таким шикарным анкетным языком.
– Опять твои штучки!
– Опять. Но неужели ты думаешь, что они будут все это читать?
– Ты что?.. Для чего же я все это писала?
– Для того: так надо. По-ло-жено-с… Еж, милый мой, ну, пойми, нема дурных, чтобы все это читать. Вот если с тобой что-нибудь случится, вот тогда всё поднимут, начнут сличать, а пока… господи, у тебя же и так, без анкеты, все на мордочке написано.
– А у тебя? – Уже улыбнулась.
– Тоже. Поэтому я и не заполняю анкеты.
В Москве она очутилась второй раз. Тогда, в первый, впечатлений было чрез край, сейчас тоже хотелось побольше увидеть, узнать. Вот и торчала она перед Врубелем в Третьяковской галерее. Дама разглядывала картину (впрочем, мало что понимая в искусстве), а какой-то мужчина – женщину. Она была в своем единственном, но «ударном» (так называл его Миша) костюме. Покрой английский, цвет синий с фиолетинкой (индиго, ну – джинсовый), на голове голубой берет из козьего пуха, на шее черная газовая косынка с восточным орнаментом (какие-то лиловые огурцы), на ногах темносиние замшевые туфли, а подмышкой плоская черная кожаная сумочка. В общем, неаполитанская ночь. Или вечер. А лицо ее – сливочно сияющий месяц.
Врубелю и тогда было сто, таким всегда сто – страстным и мутным, страдающим, а ей двадцать пять, и все двадцать пять наполнены солнцем да ветром: она принята в газету, она в Москве, в Третьяковке! Но, застыв пред картиной, все-таки что-то угадывала в этом художнике – чуждом, кричащем, страдающим.
– А ленинградцам это нравится? – Раздался у нее за спиной приятный мужской голос.
– Очень!.. – Живо, певуче обернулась и одним взмахом: темноволосый, смущенный, умный и славный. – А почему вы думаете, что я из Ленинграда?
– Потому что в Москве береты носят назад, а ленинградцы вперед и набок.
– Да-а?.. – Пропев, машинально начала поправлять и отдернула руку: он же шутит! – Вот уж не знала… – Сухо отвернулась к картине, словно ожидая (и втайне боясь, что уйдет).
– Нина, вы меня не узнали? – Скромно, серьезно глядел незнакомец.
– Нет… – Вглядывалась в него, растерянно улыбалась.
– Я вам напомню… – И медленно двинулся, увлекая от Врубеля, от всего.
Тянулось это еще из Горного института, из довоенных времен. Подружилась она тогда с женой самого ректора Кочегарова. «Была она много моложе мужа и немного постарше меня. И даже еще глупее. Так что мы хорошо подружились. В институте им полагалась четырехкомнатная квартира, с которой Люся не знала, что делать, чем ее заполнять. Нинка, ау-у, кричала мне, как в лесу, ты не знаешь, когда мой хомячок с работы придет? А то мне так скучно, что, может, куда и сходить, а? И всегда – ха-ха-ха. Вскоре Кочегарова сняли с горного дела, перебросили в Москву во внешторг. Там Людмиле стало полегче, там была всего-навсего двухкомнатная квартира. Перед войной она пригласила меня, и две недели я пробыла у них. Там-то, среди прочих, и познакомилась с этим Виктором».
И вот встреча. Семь лет прошло и каких! Из девицы, веселой, щекастой, простоватой – и вдруг такая шикарная дама. А он был такой же – никакой, потому что его она просто не помнила.
Он влюбился сразу, на старых дрожжах, и поплыли дни: рестораны, разговоры, нечаянный поцелуй, и чужие руки, не Мишины, на плечах, на замужних плечах. Почему?.. Почему?.. Ах, не все ли равно. Он приятный, веселый, умный. Но не это, не это – он легкий!.. Как легко с ним, как просто! И почти что ровесник, всего лишь на семь постарше. И не надо тянуться, напрягаться и так часто чувствовать себя дурой. Почему так бездумно, ведь это нехорошо. Почему, почему?.. – Нина, Ниночка, ну, скажи… Ну, поедем, да, да?.. – И глаза так близко, такие ласковые. Тоже темные, но какие-то матовые.
– Куда?..
– Туда… в Италию… Лодка моя легка… – неожиданно негромко, гортанно запел, – весла большие…
«Какая хорошая песня… а что значит ульмарэ ручика, это, конечно, по-итальянски…»
– Санта Лючия… Санта лючия…
Италия!.. боже… боже мой, вдруг увидела довоенное детство, Воронью слободку, маму, бедность, деревню, Андрюшу…
– Ниночка, поедем, поедем, мы будем счастливы.
Италия… неужели это возможно?.. Наверно… внешторг, его посылают. «Ты пойми, пойми, ведь это судьба, это такой случай!.. Ведь тебе ничего не надо, это… это просто чудо какое-то, у тебя же все документы с собой, ты не расписана… Поженимся и уедем, и тебе не надо будет даже туда возвращаться».
Туда… к Мише… домой… Так просто, такой сумасшедший случай. Он тоже сумасшедший, я тоже… Италия, Рим, Венеция и… какие же там еще города? Ах, не все ли равно, если все они итальянские. Как же я буду там разговаривать? И что делать? По музеям ходить, на базары… Ах, Неаполь еще, неаполитанские песни… вот и он одну сейчас пел. Они макароны любят, вот и буду ему варить, толстая стану.
– Ниночка, ты меня слышишь? Ты пойми – нам надо решать, ведь меня уже оформляют, и я… я сказал, что поеду с женой… извини…
С женой… я жена и поеду женой? И никакой разницы, никакой, только муж будет новый, совсем-совсем новый.
– А о н?.. – Ушла из-под теплой его руки, лежавшей у нее на плечах, загляделась на редких прохожих в вечернем саду.
«Ну, вот». – Я понимаю, понимаю, тебе нелегко… – Закурил. Дым растворялся в обрызганных фонарями сумерках, проходил вверх сквозь ветки распускавшихся лип. – Но пойми: я люблю тебя, люблю!..
– Уже?.. – Недоверчиво улыбнулась, подумала, а, может, и верно, бывает же… в книгах. И так… говорят…
– Люблю, люблю!.. – Сбросил руки между колен, лицо вниз, непривычно суровое. – Не могу без тебя, не хочу!.. Мы хорошо будем жить, хорошо, хорошо, клянусь тебе, Ниночка! – И смолк, удивленный, шумно вздохнул. – Завтра я должен сказать… там, да?.. Да?..
Утром бродила по городу. И чего-то сегодня было не так, всё не так. Вечера плыли долго, счастливо, покойно, дни мелькали в ожидании вечера, но сегодня… Ох, сегодня решать… надо. И от этого замерло все, сжалось. Горело, саднило. Зашла в магазин, промтоварный, одежный, бессмысленно потолкалась возле прилавков, не видя, не слыша, и вдруг в зеркале встала пред ней женщина. В синем костюме… индиго…
…Он явился, этот костюм, так. Однажды зашли они с Мишей в коммерческий особторг в надежде купить кастрюльку. И купили, такую хорошенькую, алюминиевую, с двумя ручечками.
– На троих нам как раз хватит кашку варить… – Смотрел сверху вниз, улыбался.
– На кого это на троих? – Будто не поняла.
– На нас с Петушком. – Прыгали светлые блошки в темных глазах. – Ну, пройдешься вдоль калашных рядов… – Заметил, как смотрит туда, на прилавки.
– Ага… – Застенчиво приоткрылись губы, и пошла, пошла, медленно вороша глазами нужное да ненужное, одинаково недоступное. Но в отделе тканей пристыла: не бревно, не солдатская скатка – тяжеленный плоский рулон дорогого товара превратил ее в соляной столб. Осторожно, ласково помяла белыми маникюрными пальцами уголок темно-синей шерсти, погладила, выпустила со вздохом и вызовом: – Вот когда я буду богатая, я себе сделаю такой костюм, а к нему куплю во-он ту сумку… – Обернулась назад.
– Ну, конечно, конечно, Еж… – Нежно пророкотал и сразу иначе, с прищуром: – Ежичек, ты ведь и так ведешь себя, как богатая. Они ничего не покупают, потому что у них все есть, ты – потому что не на что. Ну, ладно, ты на работу? А я задержусь.
Вечером, когда она вернулась домой, на столе лежал отрез шерсти и на нем сумка, та самая, чернокожая, тисненая, плоская.
– Мишка!.. Сознайся, кого ты убил? – Радостно вскрикнула.
– Пальто, Ежик, всего лишь пальто.
– Как?.. Ты продал?..
– Ну, Еж, у меня же их два.
– Какое?.. – Метнулась к шкафу. – О-о!.. так и есть… – Уставилась на старое черное.
– Еж… – Подошел сзади, обнял за плечи. – Е-ож, ну, тебе ж так хотелось. Поверь мне, скоро я получу деньги, много денег, и мы с тобой все купим.
Теперь нужны были туфли, и когда жена принесла синие замшевые, муж радостно вскрикнул: «На какой картофельный гонорар отхватила ты эти прелестные чоботы?» – «На такой!.. Мишка, бей меня – все деньги угрохала». – «Ох, Еж, в войну я хорошо понял, что деньги лишь для того, чтобы их тратить. Правда, когда они есть». – Невольно вздохнул. «Ну, тогда я тебе еще преподнесу сюрпризы!» – «Давай!.. А что нам грозит? Разумеется, шляпа». – «И шляпа тоже, и шарфик, вот сюда…» – Вытягивала голову, чтобы показать белую шею.
…Дымом, дымом пронеслось это. Женщина вышла из зеркала, протолкалась к дверям, заторопилась. Был день, и был всего лишь один поезд Москва-Бутырская. Вечера ждать не могла – вечером ждал Виктор.
Он и сейчас долгий, этот кружной поезд, глухо пробирающийся лесами, полями, а тогда и вовсе выбивался из суток. Но женщина не спешила. Минула уж неделя, как должна бы вернуться домой. И вот едет. Прощай, Италия, прощай, Витя, прости… Вечером глянула на часы: уже ждет, смотрит на часы, ходит и курит, курит. Обидится, не простит. Ах, да чего уж там…
Взяв невесомый чемоданчик, поплыла Нина, как голубой зимородок, в колышащейся серо-белой толпе. И встала: на платформе, близ черного паровоза, торчал Петровский. В гимнастерке, в галифе, в нечищеных сапогах. Напряженно глядел, улыбнуться пытался.
– А откуда ты знаешь, что я?.. – Горло перехватило, поставила чемодан.
– Я знаю, когда приходят московские поезда.
– И ты?..
– И я выхожу к каждому.
– Сегодня?
– С тех пор.
– С того дня, как уехала? – Шевельнулись в улыбке уголки губ.
– Чуть позже… – У него так же – губы.
Замолчали. Придавленная вещами, сопя, колыхалась толпа, Черный, горячий, замасленный паровоз устало шипел, исходил вяловатым паром.
– А ведь я хотела совсем не вернуться… – Подняла лицо, глаза в глаза. И увидела. До чего же любяще, радостно светятся его карие, темные, какие-то новые.
– Вернулась, и слава богу.
И почему-то – неосознанно – стало ей этого мало.
– Я в Италию чуть-чуть не уехала. – Требовательно глядела на него.
– В Италию?.. – Грустно взглянул поверх нее и толпы, далеко-далеко. – В Италии тоже тепло, Еж… – Расстегнул ворот гимнастерки.
– А почему ты без подворотничка? – Понесла руку к нему.
– Все давным-давно грязные… – Отстранился, вздохнул, подхватил чемодан. – Ну, пойдем, пойдем…
– Вот так, Саша, кончился мой итальянский роман. Аривидерчи, Рома… Так, та-ак… – Задумчиво глядела в уже и не бывшую даль.
– И никогда ничего – ни слова, ни вопроса?
– Никогда ничего.
– Вот что значит настоящий мужчина. Никто не знает, сколько он проживет, но мы теперь знаем, сколько тогда оставалось Михаилу Сергеевичу, и вот, будь он ревнивец, ну, такой вот, как я, скорей бы всего не «простил», из гордыни. И что было бы? Худо ему было бы. Отеллы дурно кончают. Почти все. Но это уж не вина – беда их.
– Да, он был настоящий мужчина. Властный, сильный, но грубым он никогда не был. В общем-то, как я теперь понимаю, сухарь, но со мной всегда очень нежный.
– А вот как бы сложилась ваша жизнь, неизвестно. Вот так поворачивается, когда поворачиваем мы сами.
На Кавказе
Тот 1947 год был для Нины годом знойного южного солнца. Летом состоялся первый послевоенный слет пионеров Грузии, и ленинградский обком комсомола попросил Петровскую сопровождать ребят. «Пионерская правда» не возражала – под обещание давать со слета информашки, а «кирпичи» делала уже и тогда маститая очеркистка Надеждина.
Кроме ударного костюма надеть было нечего. Выручила, как всегда, Валентина Парамонова, «добрая до глупости»: дала свое белое платье. Десять ребятишек, Нина да пионервожатая, «фамилию которой я забыла», – вот и вся делегация. Год еще карточный, дети блокадные, хилые, бледные, как картофельные ростки, вагон плацкартный, поезд долгий, у кого больше еды, у кого меньше, вот и говорит руководитель: давайте сложим наши продукты в общий котел. Билеты тоже сложили, отдали проводнице, а у той свистнули всю складную книжицу, где в кармашках все проездное. До Сочи доехали, здесь пересадка в Тбилиси. Вылезли, ни денег («Мы гости Грузии – так нас напутствовали»), ни билетов. Жара, еда протухла в дороге, остался лишь черствый хлеб, а Сочи еще не Грузия, Краснодарский край. А поезд вон стоит на путях, раскаленный. Поезд стоит, Быстрова мечется вдоль вагонов от проводника к проводнику. Осипла, охрипла, умоляючи. «Куда хочешь?» – «Куда угодно, лишь бы до Грузии!» – «Садысь». «Я не одна, я с ребятами!» – «Э-э…» – Захлопнул дверь.
Один все же сжалился: «Самтредиа хочешь?» – «А это Грузия?» – «Канечна, Грузия!.. Пачему не Грузия?» Втиснулись. Пекло, духотища, но едут. В пять утра прибыли. Тишина, зеленая, свежая, черная. Ни души. Голодные, сомлевшие ребятишки пошли поглазеть на море. Из окна вагона уже видели, но так близко ни разу. Вместе с ленинградцами высадилась украинская делегация – из чувства солидарности. Из того же братского побуждения поделились едой, а руководительница их Галя пошла вместе с Ниной в райком. И здесь тишина, но живая душа есть, дежурит: вот придет секретарь, он скажет.
Пришел черный приятный гражданин в светло-бежевом чесучовом костюме (для тех, кто, подобно мне, видел на других, но сам не носил, сообщаю со слов Нины Ивановны: «Чесуча делается из очесов хлопка и шелка, хороший нежаркий материал»). Секретарь райкома успокоил: Ленинград, Украина, не волнуйтесь, всех накормим, всех отправим. И точно: у станции, рядом с рестораном накрыты в скверике столы, щедрые, как душа этого южного народа: зелено, овощно, мясно, перчено, незнакомо для глаз, на вкус и… глаза ребятишек воткнулись туда, откуда плывут ящики с алой спелой черешней. «Я помертвела, когда увидела, как они навалились на нее. Блокадники, наверно, и в глаза-то не видели».
– Ребята!.. Ребята!.. – Металась от одного к другому. – Я потом вам дам, потом… дизентерия… понос!..
Э-э, да где там: где то, что сулит она им, а ягоды вот они, эх!..
Пока обедали, в райкоме созвонились с Тбилиси. Велено было направляться прямо в Гори. Начальнику станции города Поти команда – прицепить к поезду вагон для гостей, чтобы ребята спокойно доехали за ночь до Гори.
Завтрак обильный, а день долгий, и желудок – мерзавец! – не помнит добра. Что ж, вновь украинские дети поделились остатним с питерскими. Побежали к последнему, прицепному вагону. Он пустой был обещан, но райком далеко, райком уже спит, а вагон что, пустой будет, да? Это как же, если люди сидят, если люди лезут с бумажками? Проводник что, не человек, да? Кушать не хочет, да?
В общем, все, что росло и могло расти на сей благословенной земле, было там, на полках, под полками, в проходах, в тамбурах, а в окнах загорелые черные, тревожно возмущенные лица. Не то что войти – глазом не пропихнуться. Для них-то райком далеко, зато милиция близко – пошли к ней. Пришла: бур-бур-бур… А ей: дар-дар-дар… И билеты протягивают, все законно. Но стали милиционеры вышвыривать, уплотнять. Крики, гвалт, слезы. В общем, освободили два купе, руководительниц с пионервожатыми втиснули в двери, ребят подавали в окна – всё, свисти, паровоз!..
Встала Нина с доброй хохлушкой Галиной в проходе, – держат границу на замке, а вокруг не стихает, накатывается морским прибоем: шур-бур-бур!.. Лишь одно знакомое слово: чемодан… чемодан… Ах, украли!.. Ее чемодан с ударным костюмом!.. Валькиным платьем!.. Да нет же, она в нем. И чемодан здесь: Нина Ивановна, говорят ленинградцы, вот он. А эти южные наседают, Галю уже оттеснили на полкупе: чемодан, чемодан!.. Особенно неистовствует одна тетка, толстая, распаренная, будто только что из духовки ее вынули. И все показывают пальцами, тонкими, толстыми, одинаково загорелыми на нее, Нину. Протиснулся какой-то дядька в железнодорожной форме и наконец-то очень понятно все разъяснил: «Пойдем со мной, ты чемодан украл». – «Кто?» – «Ты». – «Какой чемодан?» – От растерянности даже приулыбнулась. «Ты украл та женщина». – Показал на толстуху. Пока Нина хватала ртом воздух, не находя ни грузинских, ни абхазских, ни даже родных своих слов, железнодорожник уже подталкивал ее туда, где ждало возмездие. «Нина, чехо воны там?» – Кричала теснимая горцами Галя на родной мове. «Эти идиоты… – наконец-то нашла нужное слово, – говорят, будто я украла у них чемодан». И накрыло ее толпой. Галя нырнула за ней.
Привели к начальнику поезда, Галя сзади кричит: «Хде ж ваша совесть? Тая женщина з Ленинграду, з блокады, а вы…» – «Как?.. Кацо… – Строго глянул начальник поезда, даже взял воровку за локоток. – Ты – Ленинград?.. Блокада?.. Ой, прости, прости… Бур-бур-бур!.. – Яростно орет конвоиру, и того унесло. – Пойдем, кацо, ты мой гость, ужин будем». – «Да ну вас всех!.. Мне к ребятам…» – «Нина, идить, я за детьми побачу».
Было вино, закуски, рассказы и… третья ночь безо сна. Всё, прибыли. Пять утра, ни души, никто не встречает. «Поноса нет? Нет?.. – Обходит Быстрова своих. Нет, ничего у них не болит, спят. Рассветает. В тишине шаги, мужчина и к ним: а-а, приехали, сейчас пойдем встречать делегацию из Тбилиси. Зачем, удивляется Нина, это нас здесь должны встречать. Вот он и встретил. Разбудили ребят, повели к общежитию. Здесь человек велел тормошить ремесленников, сонных вытряхнули на улицу, гостей в дом, а Галина да Нина ищут утюг, надо отглаживать пионерскую форму. Принесли старый, с углями, красно ощеренный. Такой же в деревне у бабушки был когда-то. Опять человек: надо встречать. Нет, отрезала, никуда мы сейчас не пойдем, мы хотим есть и спать.
Легли, в полдень их подняли. Пришлось идти встречать главную делегацию. Встали, стоят, ждут. На солнцепеке. Один ленинградский в обморок, второй… Да идите вы все к черту!.. В блокаду выжили, а здесь… Отвели в тень, принесли чайник, лепешки, виноград. Все поехали смотреть домик Сталина, а Быстрова шепчет Тамаре Жвания, секретарю грузинского ЦК комсомола: мы потом, ребята не выдержат.
В семнадцать ноль-ноль сам слет. Речи, речи: дорогой и любимый товарищ Сталин… Потом танцы, песни. Стемнело, а ребята и взрослые все поют, все пляшут, а Быстрова все клюет и клюет носом, только бы не уснуть, только бы не упасть. В одной руке флакончик духов «Красной Москвы», в другой платок, смочит, понюхает, смочит, приложится. Кончится это когда-нибудь или нет? Кончится, Нина, все ведь когда-то кончается.
Гостиницы не заказывали: горийцы всех разбирали по домам, взрослых, ребят. Лишь про Нину да Галю почему-то забыли. Но потом подошел седой человек, говорит Нине: я прошу вас быть моим гостем. Спасибо. А они все пляшут, поют. В вагоне лишь одно знакомое слово было, чемодан, здесь тоже: Сталин!.. Сталин!.. Уже десять вечера, десять, а они все пляшут, поют, только б не упасть, только бы… всё?.. Всё… Седовласый, красивый ведет ее к дому, усаживает. Сам садится.
Стол роскошный, чего только там нету. Как чего – жены, дочери. За столом сидят двое, гость да хозяин. Жена прислуживает мужу, дочка – русской. Разговор доходит и до Невы. «Слушай, ты Куру видела?» – «Видела». – «Больше Невы?» – «Что?» – Проснулась. Она бы и рассмеялась, если б хватило сил и так, чтобы не обидеть грузина – сравнить эту бурноклокочащую речонку с плавной царственной ширью! «Нет, ты скажи: больше Куры?» Нет, лучше ты, хозяин, скажи, дадите ли вы мне когда-нибудь поспать? «А что это такое?» – Жует что-то вкусное, но главное, чтобы не уснуть: когда челюсти ходят, вроде бы легче. «Чурчхела…» – «Я никогда не пробовала». Взгляд хозяина, жена вышла, вернулась с целой связкой – до утра тебе хватит, Нина?.. Ох, сейчас как клюнет носом стол, все полетит к чертям… Хватит, надо сказать им, а то… Ай-яй, всполошились и повели. Комната, белоснежная кровать: вот тут… никто не потревожит, из дома уйдем. Зачем? Тс-с, спи, спи, ты наш гость…
Сняла платье и… кто-то бережно шевелил ее за плечо: в окнах стояло солнце. Но что это? Все, что было на ней, наглажено, аккуратно уложено да развешено. Даже из сумочки вынут платок, на всю жизнь нанюхавшийся на торжестве «Красной Москвы», выстиран, отутюжен. Поблагодарила, распрошалась и двинулись они дальше (осмотрев домик Сосо Джугашвили), в Тбилиси.
Там Быстрова очутилась в гостинице имени Шота Руставели, в том самом номере, из которого, шепнули ей, выбросился Хосе Диас. А почему выбросился, не сказали. Да ей бы тогда это ничего нового бы и не открыло, она и так знала, что хуже всех заклятых врагов Иосифа Виссарионовича были вот такие бывшие друзья коммунисты – свои, а также из других стран, ставшие «врагами народа».
И понятно, она думала совсем о другом. «По глупости у меня вырвалось: слушайте, ребята, отвезите меня в настоящий духан посмотреть. Это у меня из книг выскочило. Хорошо, сказал какой-то Евтихия, секретарь какой-то комсомольской организации, прикрепленный к нам. Показали, на гору Давида сводили. А город и нравы кажутся дикими. За что ни возьмись, давай деньги, галстук погладить – двадцать пять рублей и тому подобное. На улицах сытые мужчины, хорошо одетые женщины, словно и войны не было. И я резко отозвалась об этом. Промолчали: все-таки гость, женщина, блокадница. А программа идет своим чередом. Поехали мы во Дворец пионеров, там представили человека: это, мол, корреспондент „Комсомольской правды“, я обрадовалась ему, как брату. Кстати, он тоже грузин. Слушайте, говорю, давайте отсюда сбежим. Я уже ошалела от этих торжеств. Но это же Воронцовский дворец, говорит он. Да ну, наш ленинградский лучше».
Откололись, шли вольно веселыми улицами, болтали. «Нина, а в Кахетии были?» – «Конечно, нет!» – Смеется. «А когда у вас отпуск?» – «В сентябре, а что?» – «Приезжайте, я покажу вам всю Грузию». Говорил он достаточно хорошо, с милым акцентом, и какие-то акценты зазвучали в теплом голосе, промелькнули в темных присматривающихся глазах. «Вот уж нет, – весело выдохнула, – на мои деньги не очень приедешь. У вас такой город, такие цены… У вас вот какая зарплата?» – Вдруг спросила невпопад и оскорбительно для южного человека. «Э, зачем тут зарплата?» – «Ну, как зачем, я на свою не могу приехать». – «Зачем о деньгах – я приглашаю». – «Спасибо, спасибо… – лукаво заулыбалась, вспомнила дом седого горийца, поняла, что пора уж расставить всех по местам. – Приехать бы можно, но я не знаю, что скажет об этом мой муж». – «Как?.. – Вкопанно встал. – Какой муж?» – «Ну, мой, мой муж». – «Муж?.. Есть муж?» – «Есть!» – Гордо и озорно тряхнула головой: она еще не хотела принять такой перемены в нем.
Корреспондент комсомолки заторопился прощаться. И все изменилось, словно за горы зашло солнце. И не только с ним. Ей отвечали, но с ней не говорили. Терялась. Пока не открылось: «Почему не сказала, что муж?» – «А зачем?» – «Как зачем – всем улыбается, смеется, а про мужа не говорит!» – «Меня же не спрашивали». – «А зачем смеешься? Зачем с Евтихия в духан ехала?» – «Как?.. Как это?.. – И не нашла ничего поумнее чем напомнить: – Он же к нам прикреплен». – «Э-э, нехорошо делаешь».
Ну, вас всех к черту! – решила она. Ну, не знала она, что кто за девушку платит, тот ее и танцкет.
Последний прием – пир, первый из тех, на которых ей еще предстоит бывать. Рядом некто Гугулия. Конечно, воздымали тосты за дружбу, и задел неосторожно товарищ Гугулия бокал, опрокинул на юбку соседки.
– Ай!.. – Подпрыгнула и, мертвея, увидела, как на синем, с фиолетинкой проступило темнокровавое пятно – хванчкара. – Ах, черт, ах, черт!.. – Схватила солонку, присыпала, начала осторожно втирать на бедре. Слезинки скатились прямо на соль темносерыми катышками.
– Кто черт?.. – Вежливо поинтересовался товарищ Гугулия.
«Ты, ты!.. черт бы тебя подрал, пропала юбка, пропал костюм…»
– Э, кацо, чего плачешь, костюм… ну, чего костюм, подумаешь…
– У вас всё тут – подумаешь!.. – Зло прошипела. – А у меня… у меня он один.
– Как один?.. – Обалдело глядел на нее товарищ Гугулия.
– Так… – Осторожно сдвигала соль на пятне. Зря: ведь знала, что вино не отходит.
Это пятно съест другая соль, морская, осенью того же года – без следа отстирается в море. Еще будет и будет служить ей до дыр тот ударный костюм. Когда же срамно ему станет появляться на людях, станет он транссексуалом – превратится в платье «с биечкой», и обратно он-оно станет вести светскую жизнь. Покуда в полном согласии с законами божескими и человеческими не впадет он в детство: превратят его в шортики для двойняшек. Так, по нисходящей, и закончится эта славная жизнь. Но мы еще встретимся с ним.
Назавтра они уезжали. Разговоры (последние), улыбки (прощальные), томительные для всех минуты перед отходом поезда, и вдруг громкий клекочущий голос: «Бистроваа?.. Где ты, Бистрова?.. Ай-вай… – Шел вдоль поезда пожилой мужчина, вопрошая глазами окна и двери. – Бистрова?» – «Я… это я…» – И подумала: что за черт еще? «Уф!.. – Человек поставил корзину, в которой что-то тяжелое было прикрыто соломой. – Это тебе, бери, бери…» – «Как мне? – На всякий случай отодвигалась. – Что это?» – «Гугулия тебе прислал, говорит, чтобы ты не сердилась, не плакала». – «А что там?» – «Вино… хванчкара, знаешь такое?» – «Знаю!..» – Уже засмеялась, правда, немножко сердито. «Вот он и говорит: знает… плакала. – Склонился поближе: – Сталин любит это вино, панимаешь? – И строго: – Только ты его не болтай, так и так». – Показал.
Всю дорогу тяжеленная эта корзина не давала покоя: как ее дотащить, если Миши не окажется дома? Денег-то на такси не было. Миши на вокзале тоже. Родители, встречавшие детей, доперли корзину до стоянки, а там уж сама договаривалась с таксистом: если мужа нет дома, вы мне поможете, а я рассчитаюсь бутылкой. Идет, сказал тот и, подъехав к дому, предложил: пошли сразу и денег не надо. «А мне жалко». – Улыбнулась так виновато. Первый раз после Грузии: здесь можно. «Так у вас вона сколько!» – «Все равно жалко».
Миша был дома. Миша, только что, получив телеграмму, брился, собираясь встречать. Долго благославлял он неосторожность и щедрость Гугулии: «Еж, ну, когда же тебя снова пошлют в Грузию?»
К морю
Осенью Петровский получил наконец деньги за свою первую книжку, целых тридцать две тысячи. Что ж, тогда это были тысячи – деньги. Грозил большой обзавод – мебель, вещи, посуда. И уже началось. Писатель, донашивавший принесенное на себе с войны, приобрел коричневый пиджачок с кремовыми брюками и, вырядившись, возбужденно заметался по комнате: «Слушай, Еж, ну, чего мы будем обзаводиться разным таким барахлом? – Пощипал брючную шерсть на колене. – Давай сперва съездим на юг, к морю, а потом…» – «А потом?..» – с веселым предвкушением взглянула она. «Но ты же сама говорила в блокаду, что не можешь умереть, пока не увидишь Черного моря. Ну, едем?..»
Думала. Жили они уже почти год, а Нина все еще оставалась холостячкой – привыкла платить за себя. Тарелку, матрас, сковородку можно было купить на е г о деньги, ведь это же для семьи, но то, что себе – на свои. Петровского это забавляло, но, видя, как она замыкается, сердится, не настаивал, знал, будут дети, все станет общим. А тут тридцать тысяч, но… для нее – ни рубля, ведь это его деньги. Какой уж тут юг, это же значит, что она будет там на его иждивении.
И вот она думала. «Еж, да брось ты, поедем!» – «Хорошо… только тогда я куплю себе пижаму?» – «Яволь!.. Какой же юг без пижамы». – «И не смейся, пожалуйста, а то не поеду».
Ехали они в общем вагоне, но полки у них были лежачие, средние. «За эту поездку я всегда буду благодарна ему. Но дура я была страшная. Ни образования, ни воспитания». – «А нутро?» – «Ну, что нутро? Вот вам нутро. Ехали мы уже Украиной, глазела в окно и вдруг закричала на весь вагон: ой, Миша, Миша, смотри, сколько камышей! Он смеется, я краснею… Еж… Еж, хихикает, так и давится, это не камыши, это кукуруза».
На каждой остановке Петровский выскакивал, нырял в съестные ряды, возвращался с яблоками, помидорами, грушами. «А вот это колхозница… – Прижал к носу круглую зеленоватую дыньку. – М-м!.. чуешь, как пахнет». – «А она сладкая?» – «Сахар с медом пополам!» – «Врешь?»
На станциях, что побольше, на станциях, где меняли паровозы, прогуливалась вагонная публика (репетировала южный свой променад). Многие щеголяли в пижамах, вот и мадам Еж тоже полосато похаживала, совсем как те, что чинно спускались из мягких вагонов. «Ты не еж… – дудел ей в ухо, – ты зебра». – «Почему ты не наденешь новый пиджак?» – Глядела на его линялую гимнастерку, галифе, офицерские сапоги. «Привык, Еж, привык, не жмет, не трет, словно голый. Но там, у моря, разряжусь и буду ходить важный, как индюк. Поняла?» – «Ты думаешь, что только ты один все понимаешь». – «Если бы я все понимал, мне бы совсем не хотелось жить». – «Как это?» – «Так… но ты права, мы всегда думаем, будто все понимаем».
– Мишель!.. – Сияя, шла на них пышнотелая роскошная дама.
Мишель?.. Уже одно это чужеродное слово вздыбило иглы Ежа.
А женщина приближалась к ним. В пижаме, да не покупной: в красно-синих цветочках, с бантиками на рукавах и лодыжках, на шее. Ага, доглядел Еж, шея-то уже не того, будто с холода.
– Как я рада тебя видеть!.. Юра… – обернулась к невысокому краснолицему мужчине с черно-седым ежиком коротких волос, – это мой довоенный друг Мишель Петровский.
– Знакомьтесь, хм, кхе!.. моя жена Нина Ивановна.
«Что?!» – Сказало разом потухшее белое величественное лицо с прямым носом, красивыми крашеными губами, подбородком, четко отбитым от губ.
– Альбина… – По-княжьи представилась дама, шевельнув короной темнорусых волос и, прохладно закончив обряд знакомства, вновь осветился старый довоенный дружок: – Мишель, ты в каком вагоне? Как – в общем?
«Ну, теперь эта дура начнет» – Так, в общем. Как все остальные.
– Ну, ладно, ладно, мы в мягком, в шестом. Слушай, Мишель, нам как раз нехватает партнера для преферанса.
«А это что такое?» – Глядела мимо них Нина.
– Видишь ли, в карты… – поясняюще скользнул карий глаз по жене, – давненько я уже не играл.
– Ах, да перестань ты, пожалуйста!.. В дороге что делать, идем!..
«А-а, карты… преферанса… а я и не слышала».
– Что делать? Можно, например, смотреть в окно… на камыши…
«Вот и иди с ней, иди!.. А я не пойду! – И подумав,
чуть слышно вздохнула. – А тебя, дуру, и не зовут».
В вагоне он, уже заранее виноватясь, справился нарочито буднично: «Еж, может, чего-нибудь пожуем?» – «Я не хочу». – «А пить? – Заулыбался, хотя знал, что нельзя этого делать. – А смотреть?» – «Да, да, на камыши!..» – Прошипела. «О-о!..» – Простонал, легко вскинул мускулистое тело на полку, взял в изголовьи журнал. Дочитывал он «Звезду» Казакевича. Тогда это всем нравилось, и Петровский глушил в себе чувство протеста против стадных восторгов, но ему тоже было интересно, хотя далеко не все принимал в этой повести. Но едва он успел войти в книгу, как в проходе послышалось чье-то бесцеремонное приближение.
– О, вот он где!.. Спрятался и лежит. Пойдем, пойдем, лежебока.
– Слушай, Альбина, может, вы без меня?.. – Предъявил журнал.
– Вот еще!.. Тут книжка, а там люди страдают. Мишель, нехорошо манкировать старыми друзьями. Одну пульку, Мишель… Ну-у, прошу тебя…
«Ах, чтоб тебя!» – Ладно, иди, я приду.
«Манкировать… пулька… надо спросить… потом…»
– Нет, не пойду, а то ты такой, улизнешь… – промяукала с томным кокетством и сразу же процедила пренебрежительно жестко: – Не бойся, твоя подождет.
«Эк швыряет ее! Ну, будет мне теперь до самого синего моря».
«Идет… уйдет… ну, и пусть, пусть!..»
– Еж… – тихонько склонился к застывшей к окну голове, – я скоро вернусь. Пожалуйста, не сердись.
«Можешь вообще не возвращаться!»
– Мишель, можешь ответить мне на вопрос: Еж – это что, кличка такая? – Донеслось из прохода.
– Это то… – отрезал стальным голосом, так хорошо уже знакомым Ежу, – чего ты никогда и ни от кого не слышала и никогда не услышишь. Поняла?
– Ха-ха… в ы так думаете?
«Не слышала… ага, ага, значит, он тоже ей говорил… что-то… Конечно!.. Он знал, знал ее. Ушел, без меня, стыдится… за что? Чем она лучше? Корова!.. Крашеная корова».
Поезд стучал, и уже набегали пригороды большого города. Еще там, за Москвой, он сказал, что в Ростове накормит ее каким-то особым мороженым, а сам ушел к ним, играет, забыл. Ну и пусть, пусть, я сама, без тебя, черт подери, наемся. Доотвала!..
Худо, когда человек не понимает, что очко – это быстро, а преферанс, даже одна пулька, долго. Поезд тоже, бродяга, не понимал, начал тормозить, упираться. Влетел Петровский с всклокоченными глазами: «Еж, пошли!..» Встала, помедлив: соседи, а то б ни за что не пошла. И сразу же на перроне э т и. Петровский схватил жену под руку, заслоняя собой, быстро потащил к вокзалу, но Альбина не отставала: «Мишель, так после Ростова мы продолжим пулю?» – «Не знаю, не знаю…» – «А вам, милочка,.. – назидательно, свысока, – весьма и весьма повезло: ваш муж сложён, как бог. Мишель, ты куда? Не забудь: в Сочи отдыхать будем вместе!»
…Три года спустя Нина будет работать в другой конторе, войдет к начальнику и увидит знакомую. «А эта что делает здесь?» У стола, в кресле слишком вольготно (от спрятанной скованности) расположилась Альбина. «Вот тебе и Ежиха, работает здесь. Надо же, как изменилась. Очки нацепила, совсем культурная стала. Забыла меня или делает вид? Хитрая, прибрала Мишку. Я-то думала, он на молоденькую клюнул, а она…» И когда Нина собралась уходить:
– А ведь мы с вами знакомы.
«Еще бы!.. Корова!» – Простите, не припомню. – Холодной скороговорочкой со стальными опилками.
– Ну, что-о вы… – волнами поплыл ласково укоризненный голос. – На юге, в поезде, помните? Вы еще мороженое там ели…
«Она еще дура». – Ах, да, да, значит, вы и есть та самая дама в бантиках?
«Хамка!» – Я собираюсь у вас здесь работать. – Улыбнулась, превозмогая себя.