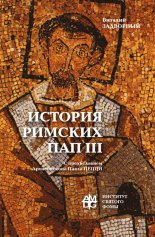Честь – никому! Том 3. Вершины и пропасти Семёнова Елена

Глава 1. На Москву!
30 июня – 3 июля 1919 года. Царицын
И во что превратили цветущий волжский город за время лихолетья! Какой только дряни не понабилось в него: батьки и атаманы, шулера и спекулянты, комиссары, матросы и прочая «гордость революции» – вся эта публика месяц за месяцем в эшелонах с награбленным добром тянулась в Царицын со всего Юга России, спасаясь от победоносно наступающей Белой армии и превращая город в центр своей тирании. Похвалялись большевики, что никогда не взять «красного Вердена» Добровольцам. Что ж, и впрямь тугонёк орешек дался. Ещё в Восемнадцатом пытались овладеть им казаки атамана Краснова, но, не поддержанные в ту пору Добровольческой армией, города освободить не сумели. И Кавказская армия немало времени истратила, чтобы крепость эту, укреплённую, с гарнизоном крупным и хорошо вооружённым, одолеть. Сколько славных воинов полегли здесь! В дорогую цену обошёлся «красный Верден»… Но и какая же огромная победа была!
Поутру восемнадцатого стали появляться на улицах люди. Смотрели испуганно, насторожённо прислушивались к доносящемуся с окраин города оружейному гулу. Всё население походило на того тяжело больного, что отнятый от смерти всё ещё не может до конца поверить этому чуду, и оттого радость его ещё робка, к самой себе недоверчива. А катил народ – на Соборную площадь. В храм. День был воскресный, и там служили благодарственный молебен. Прежде торжественные службы совершал здесь епископ Дамиан. Несколько дней назад он, старец, должен был бежать и скрываться, спасаясь от большевистского террора. Вместо него служил настоятель собора, счастливо освобождённый накануне из тюрьмы (около неё, в овраге нашли тысячи тел убитых) армией-победительницей. Прерывался голос седого священника, и струились неудержимо слёзы по впалым его щекам. Плакали и люди, собравшиеся в таком множестве, что запрудили саму площадь, так как в соборе не достало всем места.
– Спаси, Господи, люди твоя! – тысячеголосно, торжественно пели, крестясь истово.
Пели, а глазами нет-нет, а косились на высокую, поджарую фигуру в чёрной черкеске с мягкими, блестящими генеральскими погонами. Этот человек, в котором сосредоточилась теперь вера освобождённого им города, стоял среди народа, окружённый немногочисленной свитой, неподвижный, погружённый не то в молитву, не то в свои мысли.
Грохнул разрыв где-то совсем рядом с городом, зачастила громовая перебранка орудий. И замерла на мгновение площадь – струнно нервы натянулись, того гляди оборвутся от напряжения. Но выводил невозмутимый хор:
– И благослови достояние Твое…
И вторили, заглушая канонаду, опускаясь на колени. И вместе со всем народом, как один из тысяч этих людей, стоял на коленях, опустив смиренно обнажённую голову, их освободитель, их герой. И когда служба окончилась, он вышел из храма и с церковного крыльца обратился к собравшимся с короткой приветственной речью, обещая горожанам защиту и покровительство армии.
И прорвалась робевшая дотоле радость. Вся площадь, озарённая ярким июньским солнцем, преобразилась, расцвела во мгновение ока безудержным счастьем. Под звон колоколов люди, забыв все страхи и горести, плакали и смеялись, незнакомые друг другу, обнимались, христосовались, как на Пасху. Грянул торжественный марш, явились откуда-то в количестве удивительном цветы. И это людское море теснилось к автомобилю в котором уже сидел её герой. Лицо его оставалось сдержанным, сосредоточенным. Лишь изредка скользила по губам едва заметная, какая-то особенная, неповторимая улыбка, и теплом полнились льдистого цвета глаза…
Прорвавшись из этого восторженного окружения, автомобиль генерала покатил к вокзалу, куда вот-вот должен был прибыть Главнокомандующий. Пётр Николаевич предчувствовал непростой разговор. Простых уже давным-давно с Деникиным не бывало. Натянулись отношения – и чем дальше, тем хуже. Посматривал Врангель на царицынские улицы, носившие на себе приметный отпечаток пережитого. А ведь как давно уже надо было город этот взять! Ещё в начале года, по освобождению Северного Кавказа горячая выдалась полемика с Деникиным. По плану Антона Ивановича освободившиеся части Кавказской армии должны были отправиться на подмогу Май-Маевскому в Каменноугольный бассейн – на харьковское направление. На Царицынском же оставить лишь слабый заслон по линии Маныча. Нелепица явная! Очевидно представлялось Петру Николаевичу Царицынское направление главнее харьковского. Именно на этом направлении – ключ к Волге! К Волге, к которой с другой стороны победоносно наступают армии адмирала Колчака, задерживаемые, между прочим, угрозой удара с левого фланга. Соединение двух армий и дальнейшее продвижение единым фронтом – какая цель может быть важнее? Нет, оказалось, Каменноугольный бассейн важнее единства сил. Доказывал Романовский, что оный жизненно необходим, что направление харьковское – кратчайшее к Москве, а потому должно считаться главным. И разбивались горячие доводы Врангеля и верного его начштаба Юзефовича, как об стену. И не удалось убедить ни в чём. Так и двинулись – на харьковское…
А война жестчела. Много повидал Пётр Николаевич и в Японскую, и в Германскую, а зрелище этой, усобной – в ужас приводило. Сатанел народ. Даже дети. Ещё на Тереке встретил барон нескольких нарядно одетых казачат с винтовками. Лет по двенадцать, не больше.
– Куда идёте, хлопцы?
– Большевиков идём бить, тут много их по камышу попряталось, як их армия бежала. Я вчерась семерых убил!
И кровь похолодела от вида этой победительной, горделивой радости от убийства в детских глазах…
Отступавшие большевики оставляли после себя разорённые города и деревни. На станциях, на путях железнодорожных скопились забитые больными и мёртвецами поезда. Они лежали на полу, едва прикрытые, прижавшись друг к другу подчас – несколько мертвецов окоченевших, а среди них ещё живой обречённый… И вокруг поездов, в дорожной грязи – как рассыпаны – тела людей. Солдат, женщин, детей… Скрюченных, обезображенных… Это свирепствовал тиф. Мёртвых спешно собирали, зарывали в общую могилу, а болезнь перекидывалась на других и косила людей страшнее вражеского огня.
Вскоре слёг и сам Врангель. На пятнадцатый день врачи признали положение практически безнадёжным. Жена, ни на шаг не отходившая, пригласила священника. Тот явился, доставив в дом Чудотворную икону Божией матери. И вот, чудо – столько дней в беспамятстве лежавший, генерал пришёл в себя, исповедался и причастился в полном сознании, а затем впал в беспамятство вновь. Ждали смерти ежечасно. Но… Охранил Бог и в этот раз, отвёл костлявую… И трогательно заботливы были все в те дни: даже незнакомые люди справлялись о здоровье, присылали фрукты и вино, выражали готовность помочь, врачи отказывались от вознаграждения. Сердечное письмо пришло от Главнокомандующего, распорядившегося, зная стеснённость Петра Николаевича в средствах, покрыть расходы на лечение из казённых денег.
Болезнь надолго выбила Врангеля из строя. Война набирала обороты, а он вынужден был лишь наблюдать за событиями, с большим трудом восстанавливая силы. Юзефович, между тем, вновь взывал к Ставке, доказывая необходимость движения на Царицын. А дела начинали портиться… И всё явственнее виделось, что потеряли драгоценное время, волжское направление забросив. Уже войска Колчака подходили к Волге. И начни Кавказская армия двигаться в нужном направлении ещё зимой, так уж и соединились бы вот-вот! А вместо этого четыре месяца стояли на месте. У Маныча. Вели там бои с переменным успехом… Необходимость соединения с Колчаком очевидна была даже для лиц невоенных. Навещавший часто Врангеля во время болезни Кривошеин, человек недюжинного ума и зоркости, сокрушался, понимая ошибочность избранной стратегии. А командование – не понимало… Загадка! И едва оправившись от болезни, в первую же встречу свою с Деникиным вновь поставил Пётр Николаевич вопрос о Царицыне, представив свой план действий. И опять молчали, уклонялись от ответа, тянули. И сколько бы тянули ещё, если бы противник сам не вынудил к решительным действиям!
В апреле красные обрушились на державших Маныческий фронт донцов и, отбросив их, стали быстро продвигаться к Владикавказской железной дороге. Казаки были деморализованы и отступали без сопротивления. Кавказская армия оказалась под угрозой быть отрезанной от основных сил. Спасать положение пригласили Врангеля. Предложил Романовский принять командование Маныческого фронта и осуществить намеченные Ставкой меры. Меры эти счёл Пётр Николаевич крайне неудачными и немедленно представил свой план действий, согласившись принять должность лишь при условии следования именно этому плану. Романовский отказал. Присовокупил, ещё надеясь переубедить:
– Вы понимаете, Пётр Николаевич, что ваш отказ поставит Главнокомандующего в необходимость самому принять на себя непосредственно руководство Маныческой операцией?
– Своего решения я не изменю, – ответил Врангель. – Я не могу браться за дело, которое считаю для себя в настоящих условиях непосильным. Главнокомандующий, имеющий полную мощь, в случае если он лично станет во главе операции, будет иметь возможность принять все меры для того, чтобы обеспечить успех операции; и я не сомневаюсь, что он убедится в необходимости тех мер, что я предлагаю.
С тем, превозмогая приступы жара и боль в ногах, вопреки настояниям врачей, Пётр Николаевич спешно уехал в свою армию.
К концу апреля предсказание Врангеля сбылось. Деникин взял командование на себя, но результатов это не дало. Белым не удавалось форсировать реку, и войска несли большие потери. Между тем, случилось, что именно здесь сосредоточились почти все кубанские части (масса конницы, о создании которой ещё в минувшем году говорил Врангель!), что позволяло объединить их в Кубанскую армию, о которой кубанцы столько мечтали. Пётр Николаевич всегда считал, что, учитывая наличие своей армии у донцов, кубанцы также вправе иметь свою, и сочтено было, что он наиболее подходящая фигура для объединения кубанских полководцев. Впрочем, Кубанской новоформируемая армия так и не стала. Она получила наименование Кавказской Добровольческой. Вот когда началось долгожданное наступление на Волгу, осуществление врангелевского плана!
Перво-наперво надлежало форсировать реку Маныч и взять находившуюся на другом берегу станицу Великокняжескую. Пётр Николаевич объехал передовую, разговаривая с солдатами и ободряя их (при этом один из сопровождавших его адъютантов был убит, другой – ранен). После, собрав командиров соединений, изложил им свой план действий: из разобранных изгородей, окружавших казачьи дома, сделать гать, и по ней переправить на противоположный берег артиллерию. Рискованное было предприятие, но – увенчалось успехом.
Сражение же на Маныче – из крупнейших конных выдалось! Славную страницу вписала Кавказская Добровольческая в историю белой борьбы. Несколько дней длилась битва. Генерал Улагай наголову разгромил кавалерийский корпус красного командира Думенко. Полки белых несли тяжёлые потери. Был момент, когда возникла угроза отступления на одном из направлений, и тогда Врангель отдал приказ своему конвою на месте расстреливать дезертиров и паникёров. И сам вёл свои войска на штурм, лично объезжая полки и подавая пример мужества и воли к победе, и уверенности в ней. Знал генерал, как воздействует на бойцов личный пример командира, а за свою жизнь не страшился. Совсем недавно ещё раз охранил его Бог – через несколько минут по прохождении его поезда на железной дороге произошёл взрыв, и ясно было, что именно поезд-то и был целью, и лишь чудом прошёл он мгновениями считанными раньше…
Многие командиры, следуя примеру Врангеля, сами вели свои соединения в бой, идя впереди их. Среди них велики оказались потери. Но разбили красных наголову, и Великокняжескую освободили. И открыли путь к Царицыну и Волге. И отдан, наконец, был приказ Царицын взять. И прибывший Деникин спрашивал:
– Ну как, через сколько времени поднесёте нам Царицын?
– Три недели, – ответил Пётр Николаевич, прибавив, что взятие города штурмом возможно лишь при необходимом количестве пехоты и артиллерии.
– Конечно, конечно, всё, что возможно, вам пошлём, – пообещал Деникин.
Легко давались обещания, да если б исполнялись ещё в точности… Но этого не было, и пора б привыкнуть к тому, а не привыкалось. Вот и на этот раз не исполнили обещания в полной мере. А почему? До всё потому же! Потому что не понимали важности направления! Царицынское и подождать могло, когда Добровольческая армия успешно развивала наступление на Харьковском направлении, кое Деникин считал главным. Именно туда отправлялось «всё, что возможно», а к нуждам Кавказской армии командование относилось без должного внимания.
От Великокняжеской до Царицына тянулась безводная и безлюдная степь. Отступавшие красные взорвали все мосты. Ох и пригодилось здесь Петру Николаевичу его инженерное образование! Самолично и руководил ремонтом. А войска опять буквально в бедственном положении находились: не хватало провизии, воды, одежды, медикаментов… И когда-то с этой нищетой покончено будет? Люди были измучены, но Ставка не присылала пополнения, направляя его Добровольческой армии. Не было техники: даже автомобиль Врангеля, не имевший запасных покрышек, взамен коих наматывались на обода тряпки и трава, наконец, сломался. На запрос о присылке нового Ставка отвечала гробовым молчанием.
Две недели шли по безводной степи и предстояло брать город укреплённый, оснащенный техникой и артиллерией, куда конницы Будённого и Жлобы стянули для отражения атаки. Бомбардировал Врангель Ставку требованиями прислать помощь: «То, что достигнуто, сделано ценой большой крови и в дальнейшем источник её иссякнет. Нельзя рассчитывать на безграмотность противника и пренебрежение им значения Царицына. Царицын мы должны взять, но, взяв, иметь средства удержать». Не слышали… На бесчисленные запросы Ставка пообещала, наконец, прислать танки и стрелковый полк. Но они не могли прийти ранее, чем через две недели, а за этот срок красные неминуемо нарастили бы свои силы. Стоять в ожидании было смерти подобно, поэтому пришлось начать штурм, не дожидаясь подкреплений. Все атаки разбились о технику, огонь и подавляющее число противника. Потери были огромны. Численность некоторых полков дошла до сотни человек, многие командиры погибли.
Тяжело переживал Пётр Николаевич эту неудачу. А тут ещё навалилась болезнь. Но продолжал писать Главнокомандующему. Уже и не без резкости, срываясь. Отправил Деникину рапорт, в котором сообщал об огромных понесённых потерях и вновь повторил, что «без артиллерии, пехоты и технического снаряжения город штурмовать нельзя». Доведённый до предела, генерал решился подать рапорт об отставке после завершения Царицынской операции. Однако Юзефович и другие офицеры штаба отговорили его от этого шага.
Между тем, Ставка, наконец, вспомнила о своих обещаниях и отправила-таки на подмогу Кавказской седьмую пехотную дивизию. Вот уж права пословица: пока гром не грянет… А из-за этой бестолковицы сколько людей положили напрасно!
По прибытии подкреплений стали готовить второй штурм. А тут ещё незадача возникла: совсем разладился от неудач генерал Улагай, на которого предполагалось возложить ключевое направление операции. Своих подчинённых Пётр Николаевич знал очень хорошо. Знал, в частности, об Улагае, что склонен он к сильным перепадам настроения, и видел что, впав в депрессию от того несчастного штурма, к новому неспособен. Всего легче было бы произвести замену, просто принять командование на себя, но такое решение окончательно деморализовало бы впечатлительного Улагая, а этого никак нельзя было допустить. Наоборот, следовало подкрепить его, вернуть былую уверенность. И, подумав, нашёл Пётр Николаевич выход, пояснил недоумевающему Шатилову:
– Секрет успеха в гражданской войне кроется в верном подборе командира предстоящей операцией. Ещё в бытность командиром первой кавалерийской дивизии я без колебаний перетасовывал бригады. Если требовалось упорство, я назначал Топоркова, если маневренность и гибкость, – Науменко. Таким образом, командовать ударной кавалерийской группировкой будешь ты, я буду осуществлять общее руководство, а Улагай будет пожинать лавры, так необходимые для его самолюбия.
Так и сделано было. И – не устоял на этот раз «Красный Верден». И накануне вошли в город доблестные бойцы Кавказской Добровольческой армии, сорок дней совершавшие тяжелейшие переходы и ведшие кровопролитные бои. «Ура вам, храбрецы, непобедимые орлы Кавказской армии! Слава о новых подвигах ваших пронесётся как гром, и весть о ваших победах в родных станицах, селах и аулах заставит гордостью забиться сердца ваших отцов, жён и сыновей».
И одно только тревожило в этот по истине счастливый день. Не опоздали ли?.. Ведь уже – середина июня. И на фронте адмирала Колчака не так благополучно, как было несколько месяцев назад. Ах, если б тогда к Волге выйти!.. Но нет, не поздно и теперь ещё энергичные действия предпринять в нужном направлении. Продолжать начатое, двигаться на соединение с Колчаком, а затем кулаком единым – на Москву. Лишь бы Главнокомандующего убедить в этом! Вместе с генералом Юзефовичем успели подготовить доклад к его приезду. Наметили: овладение Астраханью и нижним плесом Волги, закрепление на коротком, но обеспеченном фронте (Царицын-Екатеринослав), дабы не растягивать опасно фронт, не имея резервов и укреплений в тылу, в районе Харькова выставить заслон из трёх-четырёх конных корпусов, организация тыла и устройство укреплённых узлов сопротивления на случай наступления красных, далее – наступление на Москву по кротчайшим направлениям конной массой, нанося удары в тыл красным армиям.
Генерал Деникин принял Врангеля и Юзефовича в своём вагоне.
– Ну что, как теперь настроение? Одно время было, кажется, неважным? – спросил, улыбаясь.
– Так точно, ваше превосходительство. Нам было очень тяжело.
– Ничего, ничего, теперь отдохнёте, – пообещал Главнокомандующий.
Изложили ему план действий, подали рапорты. Казалось бы, куда убедительнее? Куда яснее? А Антон Иванович, рапорты принимая, усмехнулся лишь:
– Ну, конечно, первыми хотите попасть в Москву.
Как хлестнул недостойным намёком этим. Сдержался Пётр Николаевич, пропустил мимо ушей, а сам тотчас вспомнил Кривошеина. Как силясь понять странные решения Ставки, предполагал проницательный Александр Васильевич причиной всему личные мотивы Главнокомандующего. Не верил тогда Врангель этому и горячо спорил с Кривошеиным, в выводах своих вполне убеждённым, а сейчас впервые усомнился – уж не прав ли был Александр Васильевич?.. И ведь сколько добивался барон разъяснений у Романовского, а тот всякий раз со свойственным ему умением обходил все вопросы, не давал ответов.
Портрет генерала Деникина в достаточной мере сложился у Петра Николаевича ещё задолго до этого дня. По виду своему, бесцветному и обыденному, походил Антон Иванович на среднего обывателя. До своего высокого положения в армейской иерархии дошёл он исключительно благодаря личному трудолюбию и способностям. Его отец, николаевский солдат, четверть века тянувший лямку, и вышедший в отставку в офицерском чине, лишь после шестидесяти лет обзавёлся семьёй и умер, когда сын был ещё ребёнком. Отроческие годы Деникина прошли в Польше, откуда родом была его мать. Жили практически бедственно. Из таких-то низов поднимался будущий вождь Белой армии. Характерные черты своей среды, провинциальной, мелкобуржуазной, либеральной, он сохранил до сих пор. Трудно было торить себе путь молодому офицеру. И как было не позавидовать гвардейским офицерам, аристократам, с младых ногтей имевшим всё, с такой лёгкостью поднимавшимся, никогда не ведавшим нужды? Это смутное чувство ущемлённости, видимо, так и не удалось преодолеть ему. Отсюда повышенная, почти болезненная щепетильность, стремление оградить от любых посягательств своё достоинство. Он даже на «ты» не переходил ни с кем, включая близких друзей, держал дистанцию, отгораживался. Защищать себя умел Антон Иванович, ещё будучи молодым офицером. По окончании Академии Генштаба он не получил места, которое было ему положено. Кто-то наверху провёл на него своего человека. Любой другой смирился бы, а Деникин дошёл до самого Государя с требованием справедливости. Он рано начал писать и публиковаться в журналах, притом сохраняя свободомыслие. Как военачальник, отметился в обе войны многими славными делами. И словом владел Антон Иванович, но отчего-то словом этим не умел достучаться до солдат, овладеть сердцами людей. Но, главное, оставался в глубине души всё тем же молодым офицером, выходцем из низов, ревниво смотрящим на знать. И угадывал Пётр Николаевич, что и гвардейский лоск его, и титул, и громкая фамилия, инстинктивно не по нутру Деникину. И дело здесь было не в какой-то обоснованной неприязни, а в невольном, подсознательном, трудной жизнью заложенном предубеждении, которое преодолеть всего труднее. И подчас возникала даже мысль: не вредит ли предубеждённость в отношении лично него его армии? В какой-либо личной непорядочности доселе не мог заподозрить Врангель Главнокомандующего. И не сомневался в патриотизме его и желании блага. Но не мог и не видеть: не по способностям достался груз Антону Ивановичу. Не был создан он для государственной работы. И терялся, и боялся ошибиться, и сомневался, и не доверял почти никому. А болезненную щепетильность его и подозрительность, и самолюбие использовали в своих целях различные тёмные личности, гнездившиеся, в частности, в Осваге. Наушничали, нашёптывали, передавали сплетни, растравливали. И чувствовал Врангель, что кто-то не без успеха и о нём передаёт разное Главнокомандующему, искажая слова и действия его, укрепляя подозрительность. Когда бы окружил себя Деникин толковыми помощниками! Так нет же. Вот, того же и Кривошеина, с его-то умом и опытом – почему к делу не призвать? Но нет, слишком сильная и крупная фигура была, слишком самостоятельная. А самостоятельности не любил Антон Иванович. И нетерпимостью этой многих отваживал. Взять хотя бы казаков и украинцев. Зачем такая непримиримость в борьбе с самостийными течениями? Зачем записывать в самостийники всех подряд? На офицеров, сражавшихся с большевиками при гетмане на Украине, смотрели в Ставке, словно на предателей, создали комиссию для унизительной проверки их. Справедливо ли? Незаслуженно обижали людей, самих себя лишали необходимой поддержки. Да пусть бы были самостийники, лишь бы сражались честно с общим врагом! Под каким угодно флагом, но – за Россию! Лучше бы с такой непримиримостью относился Главнокомандующий к творимым в тылу бесчинствам, тон которым задавали иные старшие начальники. Вот, они-то, наносящие своим поведением громадный вред делу, как будто и вовсе независимы были. Смотрела на их безобразия Ставка сквозь пальцы. Когда в апреле встал вопрос о формировании Кубанской армии, спросил Пётр Николаевич у Деникина, кто же до сих пор командовал главной массой конницы? Оказалось, что отдельные командиры подчинены были непосредственно самому Главнокомандующему.
– Но какое же в таком случае можно ожидать единство действий? – удивился Врангель.
– А как вы заставите генерала Покровского или генерала Шатилова подчиниться одного другому?
И откуда взяться дисциплине, если Главнокомандующий не может призвать к порядку своих генералов? В самом Екатеринодаре происходил безобразный разгул Шкуро, Покровского и других. А Деникин, столь строгий к себе, не имел воли требовать того же от подчинённых, словно не замечал происходящего. Нет, как ни старался, не мог Пётр Николаевич, постигнуть до конца логики действий Главнокомандующего. И теперь уходил от него с недобрым предчувствием, что напрасны окажутся их с Юзефовичем рапорты, и Ставка вновь примет какое-то лишь ей понятное решение…
Это подозрение оправдалось на другой день, превзойдя худшие ожидания. Генерал Деникин обнародовал свою директиву. Ровным голосом, заметно гордясь составленным планом, он читал:
– Вооружённые Силы Юга России, разбив армии противника, овладели Царицыном, очистили Донскую область, Крым и значительную часть губерний Воронежской, Екатеринославской и Харьковской. Имея конечной целью захват сердца России – Москвы, приказываю…
Воодушевлённо звучал голос Главнокомандующего, а у Врангеля с каждым оглашаемым пунктом сердце падало, и кровь учащённо стучала в висках. Слушал, остолбенев, не веря своим ушам. Бросил быстрый взгляд на Юзефовича, и на его смуглом лице прочёл ту же мысль, ту же ошеломлённость. Отвёл глаза верный соратник, уставил их неподвижно в ровное покрытие стола, голову пригнул, хмурился. А Антон Иванович продолжал читать, словно гвозди в гроб всего дела вколачивал. И рядом Романовский сидел. Но по его лицу, как всегда, ничего не разобрать. А, впрочем, что разбирать? Вместе и составляли убийственный этот план… Да как же могли? Ведь оба же – в военном деле специалисты! Да как же они, два генерала боевых, две войны прошедших с честью, могли все принципы стратегии отвергнуть?! Ни главного операционного направления, ни сосредоточения на этом направлении главной массы сил, ни манёвра! Просто указали каждому корпусу маршрут – на Москву! Раздирали фронт, растягивали до бесконечности на тысячи вёрст. В цепь тончайшую, которую клином мощным прорвать – чего проще? А если прорвут… Перебьют по одиночке. И в тылу – ни узла укреплённого, зацепиться не за что будет. А зато развал, никакой организации, зарвались вперёд, территории заняли, а порядком на них не озаботились. Если прорвут, так весь этот замок на песке рухнет, не удержится… А они слепы ли были?! Этот смертный приговор армиям Юга подписывая?!
– Да, вот как мы стали шагать! Для этой директивы мне пришлось взять стовёрстную карту, – довольно объявил Деникин.
Даже в груди затеснило от волнения – контузия старая напомнила о себе. Молчал, стараясь с чувствами справиться. Что тут сделаешь? Высказать напрямик? Спорить? Доказывать? Да уж сколько раз схлёстывались. А сейчас, в эйфории этой, в момент торжества самолюбивого – да ничем не прошибёшь! Теперь лишь на чудо надеяться остаётся, а чудеса долго ли Господь Бог посылать будет? Отбросил мысли о судьбе движения в целом, сосредоточился над операционной задачей, его армии поставленной. «Отдохнёте теперь»… Вот и «отдохнули», кажется. Выйти на фронт Саратов-Ртищево-Балашов, сменить на этих направлениях донские части, продолжить наступление на Пензу, Нижний, Москву… А прежде – Камышин взять. Это уже теперь, выходит.
– Ваше превосходительство, мои части окончательно истомлены после трёхсотвёрстного похода и сорокадневных боёв и должны хоть немного отдохнуть.
– Конечно, ведь до выхода донцов к Камышину в вашем распоряжении будет, вероятно, недели две. Вам только следует не задерживать переправы тех частей, которые вы пошлёте на левый берег, – кивнул Антон Иванович и тотчас распорядился о переброске в Добровольческую армию ряда частей, взамен которых Кавказской обещана была 2-я Кубанская бригада. И ещё раз добавил с гордостью: – Сегодня мною отдан приказ армиям идти на Москву!
Вышли от Главнокомандующего, как убитые. И ни слова не сказал Юзефович, вздохнул лишь утруждённо. И Врангель ничего не сказал ему. И нечего, по существу, говорить было, слишком ясно всё, и слишком трудно высказать…
Уехал Деникин в тот же день, и надо было теперь, ни секундой не медля, срочно браться за дела. В городе порядок наводить, укреплять его, сколь возможно. И одновременно же – новое наступление готовить. На Камышин. И дух перевести некогда.
Штаб Врангеля разместился в маленьком сером флигельке. Три оконца, георгиевский флажок при входе и парные часовые из кубанцев. В это скромное обиталище, где Пётр Николаевич и поселился, люди шли нескончаемым потоком. Каждый со своей болью. Со своим делом. С просьбой. А кто и просто – поблагодарить, почтение засвидетельствовать. И для каждого требовалось слово найти, а если дело важное, то распорядиться, помочь. Офицеров в штабе немного было, не раздувал его Врангель. Обходились малыми силами. Как в горячке сутки прочь пролетели. Сколько людей прошло мимо? Сколько судеб? Особенно старик-генерал Эйхгольц, служивший в молодости ординарцем при Скобелеве, запомнился. Трое сыновей его сражались на фронте, и двое уже погибли. Ограбленный большевиками до нитки, он сохранил оберегаемый, как святыню, академический знак Скобелева, завещанный ему давным-давно.
– Я хотел бы, чтобы этот знак украшал грудь достойную. Прошу вас не отказаться принять.
От какой-либо помощи отказался благородный старец, сославшись на то, что зарабатывает себе на пропитание частными уроками…
Тёк народ неиссякаемым ручьём. Какая-то дама требовала дать ей развод… Насилу выпроводили. Наконец, закончилось приёмное время. Отдав ряд распоряжений подчинённым, Пётр Николаевич опустился на маленький диванчик и устремил взгляд на висевшую на противоположной стене большую карту с обозначением фронтов. Свой фронт знал генерал назубок, с закрытыми глазами мог указать, какой пункт где расположен. И теперь в неутомчивом мозгу являлись всё новые схемы предстоящих операций. Пространство для манёвра было, но маневрировать – с чем? Столько людей потеряли под Царицыным, что армию по численности можно в корпус свести, а ряд полков расформировать за малочисленностью. Обещаниям Ставки, уже обжегшись не раз, не доверял. Подумал и написал Романовскому ещё. Вдогонку. О том, что людей мало, и даже те, что есть, истомлены крайне, и со снабжением – худо. Свежие силы, как воздух, нужны. А без них… Без них ещё возможно взять Камышин. Но удержать его нельзя будет. Закопаемся.
Приглушённый закатный свет окрасил небольшую комнату. Пётр Николаевич подошёл к окну, поглядел на узкую улочку, постепенно безлюдевшую. Весь день он посматривал на неё, на людей, снующих по ней. Как-то успокаивающе действовало.
– Разрешите войти, ваше превосходительство?
Это капитан Вигель порог переступил, шаркнул неуклюже изношенным сапогом. Артиллерийская бригада его наряду с некоторыми другими частями покидала Кавказскую армию и отправлялась завтра на фронт Добровольческой. И зашёл капитан проститься. Жаль было отпускать способного офицера. Успел его хорошо узнать генерал и ценил. Не за то, что тот приходился роднёй старому товарищу, а за личную доблесть и умелость.
– Входите, конечно, Николай Петрович. Садитесь, – длинной ладонью на кресло указал, а сам переместился за длинный письменный стол, аккурат добрую половину комнаты занимавший. – Что же, покидаете нас? Не сожалеете?
– Как сказать. С одной стороны, с Кавказской армией я сроднился, и оставлять её мне жаль. А с другой, полк мой – там. И я бы хотел быть со своим полком. И к тому же… – так и расцвело молодое лицо. – На Москву идём!..
Так и есть. Ослепила всех Москва сиянием куполов своих. Ни о чём другом никто и думать не может. На Москву, на Москву! А у армии уже резервов не осталось. И лучших офицеров, из которых Добровольческая армия почти целиком состояла, выбило большей частью. И места их пленные занимают. Далеко ли уйдём? Но не поделился Врангель тревожными мыслями с капитаном. К чему? Только настрой боевой ломать офицеру. Омрачать радость его. Просто и жаль по-человечески было.
А от приметливого взгляда Вигеля не укрылось, что Пётр Николаевич как будто и не очень разделяет радостного общего настроения. Но не спросил ни о чём. Не хотелось. Кавказскую армию искренне жаль было оставлять Николаю. Столько месяцев пройдено с ней! Столько вёрст! Столько побед одержано! Да и генерала Врангеля высоко чтил капитан. Вспомнилось, как приехал он в апреле в армию, ещё не оправившийся до конца от тифа. Ещё более исхудалый, чем обычно, и на лице высохшем ещё крупнее казались глаза, светло-светящиеся. И сразу в работу погрузился, и сразу на коня, и на передовую. И с такой быстротой всё делал он, что иногда возникало чувство, будто бы разом в нескольких местах генерал находится. А во время похода был – как простой солдат. На голой земле спал, подложив под голову седло и буркой укрывшись. Врангель и прежде любим был в армии, а за время царицынской эпопеи так и вовсе обожаем стал. Уже офицеры с гордостью говорили:
– Мы – Врангелевцы!
И многие на рукавах букву «В» рисовали. Вигель не рисовал, оставаясь Корниловцем. Но не понял, отчего такое вполне традиционное для Белой армии течение вызвало такое волнение в Ставке. Так вознегодовали там, что потребовали в приказном порядке букву «В» стереть. И что взревновали? Даже глупо как-то. Неприятно это было Николаю. Своего добровольческого вождя, генерала Деникина, он искренне уважал, и как военачальника, и как правую руку Корнилова, связующее звено с покойным Вождём. И тем обиднее было, что подрывался авторитет его неумными действиями. А буква «В» на рукавах осталась. Химический карандаш крепче приказа – попробуй ототри. Позубоскалил кто-то: «Пускай обмундирование новое шлют, если им так буква мешает».
А при всём при том радостно на сердце было. Даже усталость от похода и боёв тяжелейших не ощущалась – такой подъём охватил. Давно такого не было! Да и как мог не радоваться Вигель? С дивной скоростью маршировала армия, освобождая область за областью. Всё ближе Москва виднелась. Москва! – оглушающее слово! Так стосковался Николай по родному городу. Сколько лет, почитай, дома не был? Не москвич не мог так радоваться приказу «на Москву». Для других Москва – цель политическая. А для москвича в приказе этом одно слово слышалось – «домой!» С такой яркостью каждая улочка припомнилась. И родной дом. И все близкие, оставленные там (что-то с ними?). На Москву! – этот приказ казался чем-то прекрасным, чем-то само собой разумеющимся. Куда ж ещё? Только туда. И скорее. Пока порыв горяч, пока фортуна нам улыбается – рывком! Так хорошо было Вигелю, точно колокола московские в сердце переливались.
Но и других причин для радости не меньше было. А, пожалуй, и – больше? Ещё в январе истревоженный за Наташу, хоть и совестясь, а попросил об отпуске. На фронте спокойно было, а Вигель немало отличий в боях имел: не отказали ему. Поехал. Полетел, сломя голову, лишь бранясь сквозь зубы, что поезд медленно идёт. За время пути всё самое страшное перебрал в изнервлённом сознании. Едва прибыл в Ростов, прямо с вокзала бросился к Наташе. Отпер дверь (ключи ему она дала), переступил порог и вздохнул облегчённо. Прибрано всё, светло, даже как будто кофе пахнет. Стало быть, жива-здорова. Перекрестился мысленно, обругав себя дураком и паникёром – напридумывал себе разного, словно институтка. Стыдно вспомнить. С фронта сорвался… И сразу вслед – а и хорошо, что сорвался. Тревога тревогой, а не только она влекла его. А ещё хотелось просто с Наташей побыть. Обнять её, запах волос её вдыхать, целовать. Да просто тепла женского хотелось одичавшему в бесконечных боях и походах капитану.
Не успел фуражки и шинели снять, как из гостиной голос Наташин услышал. Негромкий, трепетный. А в ответ… И замер, ушам не поверив… Метнулся, как был – шинель на одном плече, снята наполовину – в комнату. А там, как ни в чём не бывало, сидя за столиком, пили кофе Наташа (на коленях у неё кот невероятно пушистый дремал, и нервная рука её в его шерсти тонула) и… отец!
Отца не видел Вигель дольше года. Отметил с радостью, что тот всё так же прям и собран. Лишь усох больше прежнего, и лицо осунулось несколько. Но держался бодро. Только не сдержал слёз, когда сына увидел. Да Николай не менее взволнован был. А про Наташу – и говорить нечего! Вопросы один через другой перескакивали, очередность путая. Как здесь? А Москва что? А… Оказалось, арестован был, жив чудом остался. А из Москвы пришлось бежать. Спасибо князю Долгорукову – помог. Но здесь-то как? У Наташи?.. Стал отец рассказывать обстоятельно. Едва оказавшись на Юге, стал он наводить справки о судьбе сына. Узнал, что жив тот, сражается на фронте. С бывшими сослуживцами (кто в отпуску был, кто по ранению) повидался. От кого-то услышал о Наташе. Потом и саму её отыскал.
– Да и как не найти было бы? Всё-таки профессия моя. Позор сединам был бы – не найти, – улыбался Пётр Андреевич.
Наталья Фёдоровна тактично оставила их, чтобы не стеснять разговора своим присутствием. Это кстати было. О ней-то при ней не поговоришь. А очень хотелось Николаю узнать, что-то отец о ней скажет? И самому рассказать… Оказалось, что Пётр Андреевич о многом догадался и без рассказов. Не изменяла старику профессиональная закалка. Да и сына своего знал достаточно.
– Ты жениться на ней собираешься? – спросил без обиняков, в лоб, пытливых глаз не сводя.
От самого себя вопрос этот Вигель гнал, а теперь нужно было отвечать. И отцу, и себе.
– Если жив останусь, да, – неожиданно легко ответил и почувствовал облегчённость: значит, верно решил, так и быть тому. Ждал, что отец скажет на это. Но тот молчал, поглаживал жилистой ладонью бороду.
– Почему ты молчишь? Ты против?
– Нет, – Пётр Андреевич качнул головой. – По-иному всё равно быть не может.
Теперь уже Николай примолк, не находя, что ответить. А отец продолжал:
– Наталья Фёдоровна нездорова. Ты знаешь, в каком положении я её застал? Нервы её были расшатаны совершенно… У меня даже были опасения… – он не договорил, заложил душку очков в угол рта. – Обошлось, слава Богу. Эта женщина не может находиться одна. Кто-то должен рядом с ней быть.
– Я знаю это, отец. Я поэтому и приехал, сорвавшись с фронта.
– И очень хорошо сделал. Пока ты можешь не беспокоиться о ней. Мы с Натальей Фёдоровной успели найти общий язык, и я теперь живу у неё.
– Я очень рад этому, – искренне сказал Вигель.
– Скажи честно, как ты к ней относишься? Только жалеешь? Или всё же любишь?
– Не знаю, отец. Но не всё ли равно теперь? Ты сам сказал, что оставить эту женщину я не имею права. Она не перенесёт.
– Да, не перенесёт… Если бы закончилась эта кутерьма, и удалось бы перевезти её в какое-нибудь тихое место, то здоровье её могло бы поправиться. Ты хорошо знал её мужа?
– Мы были недолго знакомы. Это был очень достойный человек. И Наталья Фёдоровна до сих пор его любит, я знаю.
– Хорошо, что ты это понимаешь.
– Не знаю, насколько хорошо понимать, что не любят тебя, – пожал плечами Николай. – А, может, так и лучше, что она меня не любит. Хоть в этом отношении совесть моя чиста!
Отец смотрел задумчиво и печально. Не о такой судьбе мечтал он для сына. Но что теперь все эти мечты? Пепел и только. И не выговаривал. Он вообще не разговорчив был, Пётр Андреевич. Ему слишком ясны были чужие мысли, чувства, поступки, а потому не было нужды спрашивать. А своими делился он лишь в меру необходимости. В старости особенно обозначилась эта черта.
– Что фронт? – спросил, меняя тему.
– Наступление развивается успешно, – как-то и Николай не расположен был к многословности при отце.
– Успешно! – Пётр Андреевич скривился. – Этого – мало, – обрубил резко. – Тыл расхристан. Разъяснение наших целей, сути борьбы не организовано. Пропаганда – похабное слово, но она необходима. «Товарищи» искусны в ней. У них листовки! Газеты! Ложь стопроцентная, но уверенная! И бьёт в точку. А у нас – что? Осваг? Трудно найти более вредного учреждения! Понабилось шушеры, лишь бы на фронт не идти… То, что они сочиняют, читать совестно. Бездарность.
Отец бросал отрывистые фразы без всякой интонации, и лишь по тому, как играли его желваки, видно было, что старик волнуется.
– А что бы ты хотел? Воззвания Кузьмы Минина? Так взывали! А толку ли?
– На месте командования, я бы разогнал этот Осваг к матери под вятери, как говаривал мой добрый друг. Нужен толковый человек, владеющий словом, чтобы писать воззвания, листовки и всё необходимое. Но не просто владеющий, а сердцем чувствующий это слово. Пример? Вспомни Отечественную войну. Тогда Государь Александр Павлович призвал адмирала Шишкова и повелел ему писать воззвания. Задача не самая лёгкая, заметь себе. Шишков был дворянин, образованный человек, учёный. А обращаться нужно было не к образованной публике, а к простонародью. Найти простые слова, которые были бы доходчивы до сердца. Так, вот, он нашёл их! От них, сто лет назад написанных, и сегодня сердце резонирует.
Почти энциклопедическими знаниями обладал Пётр Андреевич. Ещё в детстве любил Николай, когда отец начинал что-то из истории рассказывать. Случалось такое, правда, редко, так как слишком занят он был на службе, но и тем более запоминалось. Казалось Николаю, что не было такой книги, какую отец бы не прочёл. И цитатами сыпал, которые как только в памяти помещались. Правда, память старика подводила уже. А потому принёс он из соседней комнаты пухлую записную книжку с многочисленными закладками, стал листать, поясняя:
– Библиотеку жаль… Вся в Москве осталась. Знаешь, всю жизнь боялся больше всего – пожара. Что библиотека моя сгорит, – усмехнулся грустно. – А сгорает теперь вся Россия… Вот, только тетрадь эту и прихватил с собой, как конспект всего прочитанного.
Эту старую тетрадь хорошо помнил Вигель. Отец всегда что-то записывал в ней. Записывал мельчайшим почерком, сокращая слова – так, что шифр этот лишь ему одному и понятен был.
– Вот, нашёл, – сказал найдя нужную страницу. – Послушай, как сказано: «Да встретит враг в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина. Благородное дворянское сословие! Ты во все времена было спасителем Отечества; Святейший Синод и духовенство! Вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать на главу России; народ Русский! Храброе потомство храбрых славян! Ты неоднократно сокрушал зубы укрепившихся на тебя львов и тигров. Соединитесь все: со крестом в сердце и с оружием на руках, никакие силы человеческие вас не одолеют…» Так-то! А теперь тухлятина казённая – с души воротит читать.
– Тебе бы взяться за это дело, – полушутя, но и полусерьёзно сказал Николай.
– Я не Шишков. Для всего свой талант нужен, – хмуро отозвался отец. – У нас все самые бойкие перья у либералов и социалистов строчат. Россию развалили, теперь ещё и здесь всё норовят расколоть.
– Чем ты намерен заниматься в Ростове?
– Как Бог даст. Пока ума не приложу, – Пётр Андреевич пожал плечами. – Ты знаешь, я не люблю сидеть без дела. Но и не вижу, где бы мог пригодиться. Пока буду наблюдать…
Нет, не переменили отца ни болезни, ни крах всей жизни его, ни заключение, ни бегство из родного города. Он и теперь готов был включиться в работу для блага России, когда бы только нашлась для него такая. И раздражался, что не находилась. И затаённо, знал Николай, мается от неизвестности, что теперь с Ольгой Романовной. Даже не мог себе вообразить Вигель, какие кошки должны скрестись у отца на душе. Каково-то после стольких лет разлучиться и не иметь возможности ни весточки послать, ни справиться? Хоть и ревновал Николай всегда немного отца к мачехе из-за матери, но и сам привык и привязался к ней. И ей – как оказаться вдруг одной? В городе, ставшем почти враждебном?
Неделю провёл Николай в Ростове. И всю напролёт – с Наташей. Не расставались в эти дни. Наташа повеселела, румянец проступил на бледных щеках. И льнула доверчиво, словно защиты ища, мягкая, тёплая, словно кот её, ходивший по квартире с хозяйской важностью. И размыкалась, уходила тоска от этой ласковости женской – как и сроднились уже. Но даже в эту неделю, когда вроде бы никакой грани не осталось между ними, так ни разу и не назвала она его по имени. Казалась счастливой, а по ночам вдруг просыпалась, плакать начинала. На все вопросы не отвечала ничего, а лишь прижималась теснее, словно испуганно. И столько смешенной с жалостью нежности поднималось в груди. Как к ребёнку малому. Так хотелось утешить её, успокоить. Шептал ей что-то ласковое, затихала она и снова улыбалась.
Утром приходила прислуга, готовила обед. Наташа хозяйствовать не умела. Атмосферу уюта за столом создать – это талант её был. Но быт – никак бы ей не совладать. А за столом собирались втроём: Николай, Наташа и отец. Наташа – всегда безупречно одетая, причёсанная, посвежевшая. К отцу – предупредительно-внимательная. Кажется, и впрямь поладили они. То-то счастье! Отдыхал Вигель душой в эти часы. Вот, как будто семьёй одной уже были. Подумалось, что жениться на Наташе и хорошо будет, пожалуй. Закончится война, поселятся они вместе в Москве, или же в домишке за городом, где тишина и покой, столь нужный для расстроенных её нервов, и… Рисовало счастливые картины услужливое воображение, но уж Николай и притормаживал его. Не в наше время смутное размечтываться.
Уезжал успокоенный. Хорошо, что отпуск взял. А то бы издёргался только зазря – и много бы проку с него такого на фронте было? А теперь с новыми силами – в любое сражение! На вокзале простился сперва с Наташей сдержанно (на людях стеснялась она), затем с отцом.
– Береги её, я тебя очень прошу, – попросил, уже на подножку вскочив.
– Не волнуйся, – кивнул Пётр Андреевич. – Всё хорошо будет. Главное, береги ты себя.
Этого счастья в годину чёрную – уже не с избытком ли? А не поскупилась судьба и ещё на одну радостную весть. Из далёкой Сибири слух дошёл, что сражается в рядах армии Колчака – полковник Пётр Тягаев! Эту бы весточку благую в Москву передать, Ольге Романовне, места себя не находящей, так долго о сыне ничего не знающей. И крепла вера – перевернётся грозная эта веха, и схлынет красная нечисть, полонившая Россию, и белые рати в Москву с победой войдут. И так ясно виделась эта картина! Купола золотые, благовест, а по широким московским улицам маршируют белые полки, встречаемые цветами…
И в таком-то расположении духа пришёл капитан Вигель в этот июньский вечер проститься перед отбытием на другой фронт с генералом Врангелем. Сперва ожидал в маленькой прихожей, где толпились адъютанты и ординарцы командующего: у Петра Николаевича ещё не окончился приём. Входили и выходили из кабинета люди. То и дело доносился властный голос барона, отдававший какие-то распоряжения. Часто долетало знакомое: «Отлично, превосходно!» И выходили счастливые похвалой генерала офицеры. Наконец, иссяк казавшийся неиссякаемым поток, и капитан смог войти.
В маленьком кабинете фигура Врангеля, слегка пригнувшаяся в оконном проёме, казалась ещё выше. Приветствовал радушно. Ещё со времён операций на Северном Кавказе сложились отношения между ними. А поговорить не успелось. Доложил вошедший адъютант:
– Автомобиль подан, ваше превосходительство!
– Отлично, превосходно… – Пётр Николаевич обернулся к Вигелю. – Я еду осматривать позиции на подступах к городу. Нужно позаботиться о хорошем их укреплении. Не желаете составить мне компанию?
– Сочту за честь, ваше превосходительство.
В лучах заката всегда по-другому видится всё, нежели днём. Цветы и травы, устав от зноя, клонятся к земле, и уже не печёт солнце, не слепит глаз. Автомобиль выехал из города, поднимая за собой столбы пыли – давно ждала дождей потрескавшаяся от жары земля. Лицо генерала было озабоченным. Острым глазом он замечал всякую мелочь, иногда давал короткие распоряжения адъютанту. Этот человек, видимо, обладал завидным иммунитетом к победной эйфории. Даже самые крупные победы не пьянили его чрезмерно, не затмевали рассудка. Только вчера пал к его ногам Царицын, а будто бы это уже давно было. Уже и позабыл. И весь устремлён вперёд. К новым операциям. И просчитывает их на много шагов вперёд, и в туманной дали что-то угадывает взор стальных, а притом не теряющих теплоты глаз.
– Нет ли вестей от вашего брата? – спросил Пётр Николаевич.
– Пока никаких. Связь с Сибирью у нас, к сожалению, налажена не так хорошо, как хотелось бы.
Едва заметная тень пробежала по лицу генерала:
– Если бы мы соединились с Сибирской армией, то, возможно, вы могли бы уже лично обнять вашего брата. Признаться, мне немного жаль, что он теперь не здесь, не на Юге. С его боевым опытом ему бы нашёлся достойный пост в нашей коннице. Хотя, вероятно, и там его талант востребован. Может, даже там он нужнее. В Сибири нет такого числа хороших кавалерийских командиров, как на Дону и Кубани… Когда бы фронт был един – так и дополнили бы друг друга, и сообща раздавили бы «товарищей».
Да, не ошибся Вигель, когда ещё в кабинете ощутил, что настроение командующего сильно отлично от его собственного. Давно шли толки о расхождениях в вопросах стратегии между Ставкой и штабом Кавказской армии. Ах, как скверно это, как скверно… И теперь совсем не вдохновлён Врангель московским приказом. Хоть и ни слова об этом, но между слов, но в тоне – читается. Напрямик не сказал ничего. Да и Николай не спросил. Не захотел спрашивать. Угадывал, что ничего хорошего не прозирает впереди дальнозоркий генерал, а худого не хотелось слышать теперь, собственной радости туманить не хотелось отчаянно. А наоборот – отдаться ей, порыву стремительному отдаться всецело, и просто, по-солдатски исполнять приказ – идти на Москву! Подсказывала, правда, логика, что в отношении соединения с армией Колчака прав был Врангель. Сообща действовать всегда сподручнее. Но… Но и не безграмотные же люди в Ставке сидят! Хоть бы и Деникин сам! Тоже, должно быть, продумывали, как лучше, и резоны их весомы несомненно. Да и при том, как семимильными шагами вперёд движемся, неужто до Москвы не дойдём? И Москву ощущал Вигель, как уже взятую.
Загрохотало где-то впереди раскатисто. Запрыгали вспышки по темнеющему небу.
– Никак большевики прорываются, – насторожённо заметил адъютант. – Какие будут приказания, ваше превосходительство?
Мог бы и не спрашивать, впрочем.
– Поезжайте туда!
– Слушаюсь!
Это точно вылазка большевиков была. Уже вскоре показались люди: женщины с детьми, бежавшие из предместья, где разгорелось сражение. А потом и солдаты замелькали. И конные. Люди узнавали генерала, бросались к автомобилю, тянули руки, женщины плакали. Кажется, каждый мускул напрягся в лице Петра Николаевича, и совсем сухим стало оно. И сам он вытянулся, как струна. Наконец, приказал остановиться, поднялся, крикнул громово, отрезвляя не терпящим возражений голосом перепуганных людей, сгрудившихся вокруг:
– Что здесь происходит?! – подъехавшему офицеру. – Доложить немедленно!
– Красные, ваше превосходительство! Заставу нашу смяли!
– Всем остановиться! Смирно! Солдатам и офицерам – немедленно повернуть назад! Держать оборону! Женщины, заберите детей и расходитесь! Никакой угрозы городу нет!
И хотели верить, и сомневались – велики глаза у страха. Метались. А ещё загорелось где-то, небо кроваво окрасив – снаряд в нефтяной склад угодил? И не прекращалась беспорядочная стрельба совсем близко. Ко времени подоспел конвой командующего.
– Коня! – громыхнул Врангель.
– Ваше превосходительство, да поберегите же вы себя! – взмолился адъютант.
Но уже не слышал его Пётр Николаевич. Пока подавали коня, успел бросить Вигелю:
– Будем живы – встретимся ещё! Если получите вести от брата, отпишите. Удачи вам, капитан! – и вскочил на коня, и во главе конвоя устремился прямо навстречу зареву, туда, где гремел бой, скрылся во мгновение ока в клубах поднятой пыли…
Глава 2. Крушение
29 июля 1919 года. Окрестности Челябинска
…А как всё славно начиналось этой весной! Город за городом освобождался от насильников и встречал белые войска. Уже и к Волге энергично путь торили, занимая оставленные по осени Волжанами территории. На Святой неделе так и вовсе светились все, обнадёженные успехами армии, известия о которых передавались изустно, обрастали легендами, преувеличивались изрядно. То, что на деле не всё так блестяще, как хотелось бы верить, каппелевцы смутно понимали. Им, в Кургане застрявшим, трудно не понимать было, на себе «заботу» Ставки испытывая.
В Курган волжские части были отправлены на отдых и переформирование. Волжский корпус должен был состоять из Самарской, Симбирской и Казанской пехотных дивизий и Волжской кавалерийской бригады. Это были уже не те отряды в несколько сотен человек, с которыми Каппель начал свою борьбу на Волге – здесь были тысячи, которые надо было обучить, обмундировать, вооружить, а главное, воспитать. Работы было очень много, но Каппель ее не боялся – страшнее было другое. Омск так и остался противником Каппеля. Верховный правитель был искренен и благороден, но короля, как известно, играет свита. А свиту волжский герой раздражал. Жаловал царь, да не жаловал псарь… Ставку раздражала настойчивость, которую проявлял Каппель, требуя все необходимое для своего корпуса. Если Каппель в отношении самого себя не проявлял никаких претензий, то людям доверенным ему он старался всегда дать все то, что полагается. На Волге было проще – с Самарским правительством Каппель мало считался, и все что добывал в боях, сам и распределял между частями. Все нити управления в этом отношении сходились к нему. А здесь должен он был – просить. Сама эта необходимость вставшая – всего просить у Ставки – раздражала его до последней крайности. Просить то, что положено было по праву. Просить для общего дела. Просить, будто бы это ему одному, генералу Каппелю, нужно было корпус этот формировать. Для людей, которые шли и скоро снова пойдут на тяжкие испытания, может быть, на смерть ради Родины, нельзя просить! Им должны давать все необходимое. Владимир Оскарович знал, что на складах Омска лежало обмундирование, которого хватило бы на три таких корпуса, а его части все еще щеголяли в том подобии обмундирования, в котором пришли с Волги, лишь подлатанном да постиранном, и жители Кургана, глядя на них, с сомнением качали головами:
– Неужели эти оборванцы могли так воевать на Волге?
Выработанные на основании опыта и законов штаты трех пехотных дивизий и кавалерийской бригады были с самого прибытия Каппеля в Курган отправлены в Омск. Проведенная в начале Девятнадцатого года мобилизация должна была дать людей, но и их не было. Получалась тяжелая картина, когда части состоят из одного командного состава. Не было в достаточном количестве оружия, конский состав почти отсутствовал, хозяйственные части не имели самых минимальных запасов. Нужно было создавать, творить, работать, но материала для творчества не было. Формирование корпуса стояло на мертвой точке. Обещаны были пополнения им. Но обещанного, как известно, три года ждут. А ждать-то смерти подобно было! В стихийную эту пору быстрота действий, если и не всё, то очень многое решало. А потому, едва успев обосноваться в городе, стал Владимир Оскарович пытаться дозвониться до Ставки, до главы её, пресловутого генерала Лебедева. День, другой, третий – без толку. Собрались старшие офицеры на совещание. И Тягаев первым предложил:
– Не стоит ли обратиться напрямую к адмиралу? Попросить его ускорить формирования? – а сам о Кромине подумал: через него всего легче действовать в этом направлении.
Но Каппель не согласился. Не в его характере было жаловаться.
– Нет, Пётр Сергеевич, к этому средству мы не будем прибегать. Мы здесь многого не знаем. Верить не могу и не хочу, чтобы Ставка мне мешала. Мы творим одно дело, – может быть, уже все заготовлено, может быть, отправлено… Но требовать буду, не просить, а требовать. И добьюсь! – с этими словами генерал достал из шкафа бутылку коньяка и, когда рюмки были наполнены, произнёс:
– За работу, за успех ее, за победу, за Россию, за всех вас!
– Мы всегда с вами и с Россией, Владимир Оскарович, – тихо ответил кто-то из присутствующих.
А на другое утро, наконец, состоялся телефонный разговор с Лебедевым. Разливался главнокомандующий в славословиях, и любой важный вопрос в этом елее утопал. Но Каппель вокруг да около не стал ходить, в лоб вопрос поставил, почему Ставка так и не выслала ни обмундирование, ни оружие, ни людские пополнения для развертывания корпуса. А в ответ безмятежнейше, чуть ли не с позёвыванием:
– Но, дорогой Владимир Оскарович, это же пустяки. Отдохните сами, дайте вашим орлам отдохнуть. Всё будет предоставлено, но подождите немного – недели две, три. Сейчас идет разработка плана весеннего наступления, согласно моего большого проекта. Нужно все прикинуть, учесть, распределить, наметить. Понимаете сами, что быстро это все не провести. Частям на фронте нужно все дать в первую очередь. Требует Пепеляев, требует Гайда. Ваши все планы и требования я читал, и вполне с ними согласен, но повремените. Вся ставка работает теперь у меня чуть не круглые сутки, и скоро мы сможем удовлетворить и ваш корпус. Мы, – Верховный Правитель и я, – не беспокоимся за ваш корпус – вы в неделю сделаете то, на что другим нужен месяц. Как устроились? Завели ли знакомства? У меня в Ставке смеются, что одним своим появлением такой герой и красавец, как генерал Каппель, покорит сразу половину населения Кургана, особенно его женскую половину… – и снова елей полился – хоть отмывайся от него.
И, как белый день, ясно становилось: надеяться, как всегда, только на самих себя Волжанам оставалось.
Как не тяжко было сложившееся положение, а всё-таки рад был Тягаев выдавшейся передышке. Как не отдан он был до последней частицы Долгу, а есть и предел человеческих сил. Когда-то и их восстанавливать надо. К тому же Курган сразу приглянулся Петру Сергеевичу. Хороший провинциальный городок, тихий, уютный. Дома деревянные из-под высоких, каких в Петербурге не бывало, голубоватых сугробов, выглядывали, светили заиндевевшими оконцами. Люди жили размеренно, спокойно. И впервые не раздражило Тягаева подобное спокойствие в лихую годину. После стольких месяцев холода, голода, бесконечных походов и боёв так сладко оказалось окунуться в атмосферу мирной жизни. Отсыпался полковник, приходил в себя первые две недели. А потом…
– Дамы и господа, сегодня в нашем городе даёт концерт королева русского романса Евдокия Криницына! Вырученные средства целиком пойдут на нужды Волжского корпуса!
Она – приехала! Концертов дала не один, а целых три. Один – непосредственно для Волжан. И не только выручку от них передала на нужды корпуса, а ещё и из личных средств немалую сумму. А на каждом концерте исполняла Евдокия Осиповна романс на стихи Гумилёва:
– Пощади, не довольно ли жалящей боли,
Тёмной пытки отчаяния, пытки стыда!
Я оставил соблазн роковых своеволий,
Усмирённый, покорный, я твой навсегда.
Слишком долго мы были затеряны в безднах,
Волны-звери, подняв свой мерцающий горб,
Нас крутили и били в объятьях железных
И бросали на скалы, где пряталась скорбь.
Но теперь, словно белые кони от битвы,
Улетают клочки грозовых облаков.
Если хочешь, мы выйдем с тобой для молитвы
На хрустящий песок золотых островов.
И надо было совершенным валенком быть, чтобы не понять, не почувствовать, что романс этой каждой строчкой к нему обращён был, как остриём рапиры – в сердце.
В корпусе приезд Криницыной вызвал восторг. Никакого труда ей не стоило немедленно завоевать сердца всех в нём. С первого выступления стала она всеобщей любимицей, для Волжан – своей, родной. И не спешила Евдокия Осиповна уезжать. Поселилась в небольшом домике, в тихом, отдалённом от центра квартале. Ждала?..
Нет, не могло так продолжаться дольше. Жалящей боли достаточно было обоим им. Вьюжным февральским вечером подошёл Тягаев к заветному дому. Постучал в дверь, гадая, сама ли откроет она, или хозяйка, которой дом принадлежал? И томился от того, что так и не смог подходящих для момента слов найти, как ни старался придумать нечто связное. Мялся на крыльце с ноги на ногу, от снега метшего белый весь. Евдокия Осиповна открыла сама. Платье тёмное, пуховый платок на плечах. Будто бы похудела за это время, или кажется только? Отступила на шаг, приглашая войти, закрыла дверь, оглянулась, улыбнулась губами подрагивающими:
– Да вы в снегу весь… Сейчас! – и стала снег с плеч его смахивать. – Давайте мне шинель вашу. Вы, должно быть, замёрзли? Там… Печь натоплена… Погрейтесь!
Шинель взяла Криницына как-то трепетно, понесла, прижимая к груди, как что-то дорогое, и повесила бережно. А у дверей комнаты, куда провела полковника, остановилась вдруг, ладони к губам поднесла – платок её в этом момент с плеч соскользнул и на пол упал, а и не заметила. На глазах слёзы выступили.
– Пётр Сергеевич, милый, если бы вы только знали, как я вас ждала…
Рванулся к ней Тягаев, стиснул в объятиях, сам себя не узнавая, страсти такой прежде не ведая в себе. Сказал ли что хоть? Или так и не нашёлся? Не упомнил. Как во хмелю был.
Уютно было в этом маленьком деревянном домишке. Тихо-тихо. Только печь потрескивала, озаряла часть комнаты мягкими, огнистыми отсветами. Да ещё за окном завывала вьюга, уже до половины замётшая узорные окна. И отвычно тепло было. От печи, от одеял мягких, от Дунечкиной близости…
– Знаешь, Петруша, у меня ведь только два дорогих человека в жизни было. Покойный дядюшка и ты, – она сидела, укутавшись в одеяло, не сводя с Петра Сергеевича чудных глаз. И хоть чувствовал Тягаев тепло её, а казалось, будто бы какое-то неземное создание рядом – вот-вот вспорхнёт и исчезнет в ночи. И от мысли этой на миг страшно сделалось: привлёк её к себе. А Дунечка продолжала: – Дядюшка меня к жизни вернул, он мне жизнь открыл, мир открыл, людей. Талант мой открыл. Меня людям открыл. А ты мне меня саму открыл, вернул. Я ведь и подумать не могла, что такой быть могу, что такое счастье бывает!
Чудно признаться было, но и сам Пётр Сергеевич не подозревал, что бывает такое счастье. Называется, жизнь прожил, до седых волос и полковничьих погон. Женат был… Был? А теперь уж вроде и… Об этом не стал думать. Не к месту. Ведь почти упустил в жизни – столь важное. А теперь на излёте, среди ада разверзшегося – узнавал.
– Ангел мой, ты теперь единственное моё счастье, другого у меня не было и не будет.
Утром не ушёл Тягаев от Дунечки. Не смог… Да и какой смысл прятаться? Шила не утаишь в мешке. Все на виду друг у друга. А секрет Полишинеля разыгрывать, пожалуй, всего глупее и смешнее было бы.
Оказалась Евдокия Осиповна замечательной хозяйкой. Вот уж не ожидал Пётр Сергеевич! Откуда бы такие навыки? Такой превосходной стряпни и дома есть не приходилось. Разве что в детские годы. В родительском доме. Накрыв на стол, Дунечка садилась сбоку и, пока Тягаев ел, смотрела на него с такой неизъяснимой нежностью, что ещё вкуснее каждый кусок казался. Никогда такого взгляда у Лизы не было… Не в пронос жене думал Пётр Сергеевич (ещё бы ему её судить после всего!), но и не мог удержаться от сравнения. Лиза обычно выходила к столу сосредоточенная, углублённая в свои мысли – то ли статью какую писала, то ли уроками для подопечных своих занята была. И спрашивать о чём-то бесполезно её было: отвечала рассеянно и невпопад, неохотно возвращаясь от дел своих. Иногда читала газеты или книгу – времени другого не хватало на это. А если говорила то: или о своих делах, или же о каких-то домашних срочных. А так, что бы сесть рядом, подперев рукой голову, и посмотреть просто и ласково… А Дунечка смотрела, и растворялся полковник в этих глазах, исцелялась душа измученная.
Долга, однако же, не заставило забыть Тягаева даже это свалившееся нежданно счастье. Вовсю велись занятия. Устав внутренней службы и дисциплинарный многие из добровольцев, особенно татары, слышали впервые. Каппель сурово требовал усиленных занятий, не давая этим возможности зарождаться в головах людей чувству обиды в отношении к Омску. Проверенные и утвержденные им расписания занятий в частях занимали почти весь день, не оставляя времени для праздности и праздных мыслей. Помощи от Омска так и не было. Владимир Оскарович разослал по всему уезду и за его пределы верных людей, чтобы, не жалея денег, они свезли в Курган все, что необходимо для корпуса. По деревням в нынешнее время можно было купить все, до пулеметов включительно. Даже лошадей пришлось самим закупать, так как Омск уведомил, что не может обеспечить ими корпус. Среди Волжан нет-нет, а слышался ропот на Ставку: обидно было быть пасынками… Но обрывал решительно Каппель подобные разговоры, свои переживания в себе таил. Своим людям генерал говорил:
– Помните, друзья-добровольцы, вы – основа всего Белого движения. Вы отмечены на служение Родины перстом Божиим. А поэтому идите с поднятой головой и с открытой душой, с крестом в сердце, с винтовкой в руках тернистым крестным путем, который для вас может кончиться только двояко: или славной смертью на поле брани, или жизнью в неизреченной радости, в священном счастье – в златоглавой матушке-Москве под звон сорока сороков.
Уж как предан был Долгу Тягаев, а, вот, привелось встретить человека ещё более преданного, самоотреченного. Владимир Оскарович избегал общества и, всецело отдавшись работе, знал только свой штаб и свои части. Один вечер как-то потратил на праздничный обед с офицерами и под конец не преминул заметить:
– В эту ночь мы пережили много незабвенных дружеских часов, но эту ночь мы украли у нашей родины России, перед которой у нас есть один долг: напрячь и удвоить нашу энергию для ее освобождения…
Грянули «ура» в ответ.
Тратить же время на личную жизнь Каппель не мог себе позволить. А ведь с ним здесь были – двое детей его. Детей, лишившихся матери, оказавшейся в плену у красных. И зная, какая участь грозит ей там за него, продолжал генерал своё служение, и Бог один ведал, что творилось на душе у него.
«Каппелевцы» – так гордо именовали себя Волжане. Но официального присвоения своего имени хотя бы даже одной части категорически не допускал Владимир Оскарович:
– Я не царской крови, чтобы это разрешить! И не атаман!
Перед генералом невольно совестился Пётр Сергеевич, за собственное счастье ощущая неловкость. В такое время и грешно уже как будто бы счастливым быть?.. А с другой стороны, когда прежде счастлив был Тягаев? Благополучен был, спору нет. А счастья и не ведал. Что же гнать его от себя? Каждый день вёл Пётр Сергеевич занятия с рядовым составом. Обучал каждой мелочи. Укрощал свою раздражительность и вспыльчивость, всегда являвшуюся в нём при необходимости объяснять кажущуюся ему простую вещь несколько раз. К вечеру выматывался, как после боя, а приходил домой, видел Дунечку – и как рукой усталость снимало.
Уже ни для кого не секрет были их отношения. И стало это привычным, само собой разумеющимся. Иногда по вечерам гуляли с Евдокией Осиповной по тихим улочкам. Хрустел приятно снег под ногами, как спелое яблоко. И приятно было чувствовать Дунечкину руку под локтем своим, и голову её, в шапочке пушистой, очень идущей ей – на своём плече. По просьбе её читал ей стихи вполголоса. Вечно бы мгновения эти длились!
Но вечного – ничего нет. В такое время – особенно. Однажды утром вызван был Пётр Сергеевич к Каппелю. Генерал сидел за столом взвинченный, словно в лихорадке, каким ещё не приходилось Тягаеву видеть его. Губы, в странной усмешке кривящиеся, нервно дёргались:
– Вот! – кивнул на лежавшую на столе телефонограмму. – Полюбуйтесь!
– Что это?
– Это – они нам пополнения дают! – Владимир Оскарович картинно округлил глаза. – И большие! – подавил нервный смешок. – Из Екатеринбурга! – и докончил, как добил: – Пополнение из пленных красноармейцев!
Так и осел Пётр Сергеевич на стул рядом стоявший, провёл рукой по лицу:
– Это же… Это же… смерти подобно! Такое пополнение не усилит корпус, а лишь ослабит его! Непроверенная, непрофильтрованная масса бывших красноармейцев непременно поглотит старые кадры, и в момент боевой работы от нее можно будет ожидать всего, что угодно! – выдохнул сорванно. А для кого? Сам Каппель сидел за столом, сжав руками голову, потемневший лицом, с глазами страшными, как некогда на Аша-Балашовском заводе. Лишь через десять минут он заговорил глухо, едва разжимая губы:
– За этими пленными красноармейцами я должен ехать в Екатеринбург и там их принять. Они, как здесь написано, сами пожелали вступить в наши ряды и бороться с коммунизмом, но… Их так много этих «но»… – покачав головой, продолжал, постепенно возвышая голос, набирая уверенности: – Всех поделить между частями… Усилить до отказа занятия, собрать все силы, всю волю – перевоспитать, сделать нашими – каждый час, каждую минуту думать только об этом. Передать им, внушить нашу веру, заразить нашим порывом, привить любовь к настоящей России, душу свою им передать, если потребуется, но зато их души перестроить! – генерал быстро заходил по комнате: – Их можно, их нужно, их должно сделать такими как мы. Они тоже русские, только одурманенные, обманутые. Они должны, слушая наши слова, заражаясь нашим примером, воскресить в своей душе забытую ими любовь к настоящей родине, за которую боремся мы. Мы обязаны забыть о себе, забыть о том, что есть отдых – все время отдать на перевоспитание этих красноармейцев, внушить нашим солдатам, чтобы в свободное время и они проводили ту же работу. Рассказать этому пополнению о том, какая Россия была, что ожидало ее в случае победы над Германией, напомнить какая Россия сейчас. Рассказать о наших делах на Волге, объяснить, что эти победы добывала горсточка людей, любящих Россию и за нее жертвовавших своими, в большинстве молодыми, жизнями, напомнить, как мы отпускали пленных краснормейцев и карали коммунистов. Вдунуть в их души пафос победы над теми, кто сейчас губит Россию, обманывая их. Самыми простыми словами разъяснить нелепость и нежизненность коммунизма, несущего рабство, при котором рабом станет весь русский народ, а хозяевами – власть под красной звездой. Мы должны… – уже глаза в глаза смотрел, как заклиная: – Мы должны свои души, свою веру, свой порыв втиснуть в них, чтобы все ценное и главное для нас стало таким же и для них. И при этом ни одного слова, ни одного упрека за их прошлое, ни одного намека на вражду, даже в прошлом. Основное – все мы русские и Россия принадлежит нам, а там в Кремле не русский, чужой интернационал. Не скупитесь на примеры и отдайте себя полностью этой работе. Я буду первым среди вас. И если, даст Бог, дадут нам три, четыре месяца, то тогда корпус станет непреодолимой силой в нашей борьбе. К вечеру будет написан полный подробный приказ обо всем этом. Когда я их привезу, то с самого начала они должны почувствовать, что попали не к врагам. Иного выхода нет и, если мы хотим победы над противником, то только такие меры могут ее нам дать или, во всяком случае, приблизить. Да, нас наверное спросят, за что мы боремся и что будет, если мы победим? Ответ простой – мы боремся за Россию, а будет то, что пожелает сам народ. Как это будет проведено – сейчас не скажешь – выяснится после победы, но хозяин страны – народ и ему, как хозяину, принадлежит и земля, – утомлённый нервным порывом Владимир Оскарович опустился на стул, добавил негромко: – Вы, Пётр Сергеевич, знаете мои убеждения – без монархии России не быть. Но сейчас об этом с ними говорить нельзя. Они отравлены ядом ложной злобы к прошлому и говорить об этом с ними – значит только вредить идее монархии. Вот потом, позднее, когда этот туман из их душ и голов исчезнет – тогда мы это скажем, да нет не скажем, а сделаем, и они первые будут кричать «ура» будущему царю и плакать при царском гимне…
Из Екатеринбурга Каппель привёз более тысячи красноармейцев. Старые Волжане растворились в их массе. Наступила для волжских офицеров страдная пора. Многие из прибывших были пропитаны во время службы в красной армии соответствующим направлением, и приходилось много работать, чтобы перевоспитать их, согласно приказу Каппеля, а во многих случаях и проверить их лояльность. Это требовало, прежде всего, времени, и, полагая, что на полное формирование корпуса, проверку прибывших людей, знакомство с ними и организацию сильной боевой единицы, его будет дано достаточно, все старшие и младшие начальники, не жалея себя, принялись за работу. Владимир Оскарович, как всегда, показывал пример своим подчинённым. За три недели с момента прибытия пополнений генерал потерял представление о времени, о дне и ночи, о том, что когда-то нужно спать или обедать, мотаясь из полка в полк, из роты в роту, с утра до вечера и часто по ночам. Даже старые Волжане, знавшие его неутомимую энергию, теперь удивлялись, не понимая, как может человек выносить такой нечеловеческий труд. Наконец, результаты этой самоотверженной работы стали сказываться. Корпус был почти очищен от подозрительного элемента. Теперь нужно было ещё два-три месяца, чтобы закрепить первые результаты, и тогда можно было бы вести корпус в бой…