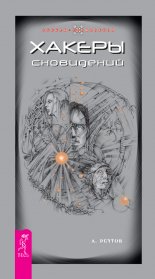Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский рожок Рубина Дина

Роман в трёх книгах «Наполеонов обоз»
1. Рябиновый клин
2. Белые лошади
3.Ангельский рожок
В оформлении обложки использована репродукция картиныБ. Карафёлова
© Д. Рубина, 2020
© Иллюстрация, Б. Карафёлов, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Глава 1
Завтра
– Я старая и толстая…
– Ты царственная и роскошная.
– Нет, я старая и толстая.
– Ты дура и дылда. Я тобой надышаться не могу!
Он поднялся с кровати, подобрал подушку с пёстрого половика, закинул её в глубокое кресло, разлаписто и кудряво занявшее целый угол. Походил босиком по приятному теплу деревянного пола, будто проверяя собственную устойчивость, и подошёл к окну… Сияющий поплавок луны танцевал в стремительной дымке облаков; полчища кузнечиков дружно выжигали серебряную чернь деревенской ночи; комната плыла сквозь перистые тени медленно, как в волшебном фонаре, – тюлевая занавеска шевелила плавниками.
Он потоптался у стола, включил настольную лампу и залюбовался – эх, и лампа же: бронзовый сатир держит в поднятой руке увесистый гриб густого жёлтого света – мёд текучий, золотой пчелиный рай.
И чего только не найдёшь на этом столе! Под приподнятым копытом сатира лежит серебряная гильотинка для сигар, с двойным лезвием (кто, интересно, курит здесь сигары?); уютно уселись друг в дружку две кофейные фарфоровые чашки, в верхней – сохлая бурая лужица. А чернильный прибор какой: чёрное дерево, золочёная эмаль, всё до блеска начищено, и часы, и обе чернильницы. Да на черта ж человеку ныне письменный прибор?! И вдруг вспомнил: такой же обаятельныйкавардак был в мастерской у дяди Пети, на гигантской плоскости его рабочего стола. А приглядишься – всё под рукой, и всё необходимо, всё на своих местах. Так и тут: каждый предмет кажется уместным, и поставлен-положен в порядке, потребном именно хозяйке. И огромное окно, в котором мчатся тучи, вьются тучи, – и оно стоит в правильном месте: напротив кровати, чтобы, средь ночи проснувшись, увидеть, как скачет луна в бородатой улыбке разбойного неба.
Но главное, плыл по комнате, утягивая к нутряному теплу расхристанной постели, запах любимой, аромат её разгорячённого лона, – потерянная и обретённая мечта, сны, страсть, тайная суть всей его почти минувшей жизни. Всё, что обрушилось на него часа три назад, выдернуло из годами накопленной хандры, из обрыдлых скитаний; что контузило, швырнув лицом, дрожащими губами в воронку взрыва – в благоуханную тишину её незнакомой полной груди, белой шеи, длинных сильных ног, в тисках которых минут пять назад блаженно содрогалось его тело.
– А этот шеф-повар на все времена, – осторожно заговорил он, покручивая и наклоняя козлоногого так и сяк, отчего жёлтая патока света лениво перетекала со стола на стену, доплёскивала до кровати, золотила голое плечо Надежды, огнисто вспыхивая в волосах. – Этот велеречивый Цукат… он тебе – кто?
– Он мне – душевный раздолбай.
Хороший правильный ответ. Приструнить чудовище. В незапамятные времена он бы кинулся в ванную проверять – сколько зубных щёток стоит в стакане.
«Начинается, – думала она, мысленно усмехаясь, с томительным потягом перекатываясь на бок и уютно подминая подушку под локоть. – Полюбуйтесь на него: уже прощупывает границы вернувшихся владений. Неисправим!»
– …и мы же договорились: всё – завтра…
– Завтра, завтра, – поспешно согласился он. Сатир мигнул, погас и вновь озарил напряжённое и уже страдающее лицо, которое совсем недавно восходило и восходило над ней в изнеможении расплавленного счастья.
Они и впрямь договорились.
Едва выпроставшись из первой то ли сшибки, то ли погони друг за другом, то ли совместного улепётывания по тропинке длиною в жизнь; едва, откинувшись на подушку, ещё задыхаясь, он простонал:
– Годами… го-да-ми!..
Надежда, прикрыв ладонью ему губы, строго сказала:
– Завтра!
Сейчас, подперев голову рукой, она молча следила за тем, как со сдержанной опаской он осваивается в комнате,в её спальне, в её любимом логове, – ещё робея, ещё не понимая своего места: гость? хозяин? бывший муж? новый любовник? – как сторожко двигаются ноги его, плечи, спина… Смотрела и думала: надо же, как жизнь сохранила это поджарое тело, даже досадно. И чего он вскочил, будто кто за ним гонится, и кого высматривает в окне, в тёмной деревенской глуши? Нет, приказала себе, не думать, не задавать вопросов. Всё – завтра…
Последние часы она и сама переплавилась в чьё-то молодое-пытливое тело и жадно плыла, как в отрочестве – в реке или в бассейне, с удивлённой радостью ощущая гибкую хватку потаённых мышц, очнувшихся от многолетней спячки, и сладость узнавания его естества, его самозабвенной яростной нежности. Одного лишь боялась: вот закончится ночь, они увидят морщинки друг друга и осознают всю тщету, всю запоздалость этой встречи; навалится вновь одиночья тоска, протяжённая пытка окаянной разлуки, трусоватая гниль его давнего предательства, – вся эта горечь отравленной пустоты.
* * *
Тремя часами ранее, едва Изюм деликатно и огорчённо притворил за собой дверь веранды, Аристарх, с грохотом отшвырнув с дороги стул, молча ринулся на неё, рванул к себе, сграбастал!
Она пыталась отпрянуть, вырваться… Шарила онемевшими руками по его спине, упиралась ладонями в грудь. Горло дрожало, не в силах выдавить ни звука:
– …нет… я не… н-не смей! – всё это полузадушенным писком.
– Ну, хватит! – рявкнул он, обоими кулаками впечатывая её в себя так, что сквозь свитер она чувствовала, как гулко-дробно колотится его сердце. – Мало тебе, что ты с нами сделала?!
Ткнулся носом, губами в её шею, за ухо, шумно и протяжно вдохнул, как ныряльщик перед погружением в глубину. И пока они стояли так на пороге кухни, в радужной арке света от лампы – сцепившись, сплетясь в странном разрывающем объятии, – поток жалких суетных мыслей проносился в её голове, защищая сознание от того подлинного, невероятного, что происходило в эти вот минуты: «Душ не успела с дороги… ужас… потная мерзкая старуха. А этого изгнать беспощадно! Всю жизнь… ни капли тепла…»
Ноги дрожали, как после долгой изнурительной болезни.
Аристарх вновь глубоко втянул в себя воздух:
– Наконец-то! Четверти века не прошло… – отшатнулся, обхватил ладонями её лицо, обежал судорожными пальцами, обыскал синими волчьими глазами:
– Хрен ты теперь от меня сбежишь, осужденная! Я был тюремным врачом, да и сам стал отбросом общества. Я просто тебя убью!
«Главное, до постели не допустить…» – думала Надежда в панике, ужасно ослабев, как-то внутренне обмякнув: её тянуло бессильным кулём свалиться на пол, в глотке застрял протестующий вопль, голова плыла в оранжевом пожаре – как на Острове, когда он напоил её, пятнадцатилетнюю, дорогим Бронькиным рислингом. Мысли вскачь неслись, сталкиваясь и топча одна другую: «Не допустить, чтоб увидел толстую задницу, сиськи эти пожилые… Нет, никогда, ни за что!»
…Минут через десять они оказались в её спальне, как-то умудрившись доковылять туда по тёмной лестнице, по-прежнему обречённо сплетясь, поминутно заваливаясь на перила, обморочно нащупывая губами друг друга. И уже совсем загадочным образом исхитрились одолеть пуговицы-петли, рукава, штанины и «молнии», ежесекундно бросая это занятие, чтобы в темноте вновь нащупать, схватить и не отпустить… – будто неведомая сила могла растащить их по далёким закраинам вселенной.
– Молчать, это медосмотр, – сказал он, освобождая её грудь от лямок-бретелек и прочих ненужных материй. – Вряд ли сегодня доктор сгодится на нечто большее, от страха.
И она засмеялась и заплакала разом: с ума же сойти, двадцать пять лет! – и оба, неловко рухнув на кровать, закатились к стенке, где затихли в медленном, нежном, сладком ожоге слившихся тел.
* * *
…Птица заливалась где-то рядом, в ближней тёмной кроне за карнизом – неистово, пронзительно, острыми трелями просверливая темноту. Аристарх и сам не заметил, как отворил окно – видимо, когда в очередной раз го сорвало с постели. Его нещадно трепало, а время от времени даже подбрасывало, и тогда он пускался рыскать по комнате, пытаясь унять трепыхание в горле странного обжигающего чувства: счастья и паники.
Хотя самое первое, самое пугающее было позади.
Смешно, что он боялся, как пацан, – матёрый самец в расцвете мужской охотной силы. Да нет, думал, не смешно совсем. И никогда бы не поверил, что с первого прикосновения их разлучённые тела, позабывшие друг друга, смогут мгновенно поймать и повести чуткий любовный контрапункт оборванного давным-давно, древнего, как мир, дуэта. Это было похоже на отрепетированный номер, нет, на чудо: так с лёту подхватывают обронённую мелодию талантливые джазисты; так, не переставая болтать после трёхнедельной разлуки, бездумно сплетаются в собственническом объятии многолетние супруги.
Но жизнь была прожита, и прожита без неё; и в отличие от девичьего образа, за минувшие годы истончённого до прозрачности в воспоминаниях и снах, там, за спиной его, на истерзанной кровати лежала зрелая сильная женщина, его прекрасная женщина, дарованная ему детством, юностью, судьбой… и наотмашь, чудовищно отнятая.
Сознавать это было невыносимо, гораздо больнее, чем просто жить без неё изо дня в день, из года в год, – как он и жил все эти четверть века.
Он вскакивал, метался, замирал перед окном и возвращался к ней, до изнеможения стараясь вновь и вновь слиться до донышка, очередным объятием пытаясь навсегда заполнить все пустотелые дни их бездонной разлуки… Он уже чувствовал, как она устала, и понимал, что надо бы отпустить её в сон.
Но невозможно было представить, что он опять останется один, что она опять исчезнет – хотя бы и на час. Ночь раздавалась и раздваивалась, струилась, убегала по чёрным горбам шепотливых крон; стрекот кузнечиков давно рассеялся по траве и кустам, зато кто-то залихватский тренькал и пыхал тлеющими угольками неслышно подступающей зари…
– Это что за…
– …поёт, в смысле? Может, дрозд…
– …нет, соловей, конечно… Дрозд в конце полощет так, а этот… Слышь, как сверлит и перехватывает… В Вязниках, помнишь, они и на прудах, и в городе…
– …и в зарослях жимолости-бузины… а уж в садах!
– Мама знала всех птиц…
– …у тебя рука, наверное, занемела…
– Нет, не шевелись! Прижмись ещё больней. Двадцать пять лет…
– …молчи!
– …двадцать пять лет мы могли вот так, обнявшись, из ночи в ночь, из года в год! Что ты наделала с нашей жизнью, мерзавка!
– Перестань! Ну, перестань, умоляю… лучше про маму.
– …мама очень птичьим человеком была. Знала все их имена и кто как поёт… Когда мы с ней шли куда-то, по пути показывала и объясняла. Я всегда удивлялся: «Откуда ты знаешь?» Она лишь улыбалась. А потом, годы спустя, понял, когда узнал…
– Узнал – что?
– Её бабушка была известным фенологом… орнитологом? – ну птичьим профессором.
– Это которая – с маленькой мамой по поездам, и руки примёрзли к поручням, и умерла в Юже на станции?
– …да-да. Ты всё помнишь, отличница. Боже, что ты натворила с нами, что ты натворила, горе какое…
– …а соловьёв ходили слушать на пруды. На первый и на третий. Там островок питомника тянулся в сторону Болымотихи, смородинный такой островок, одуряюще пахло. Ты стал… таким…
– …м-м-м?
– …другим, новым. Тело… повадка иная…
– …Я старый хрен. А ты разве помнишь меня – прежнего?
– Я помню всё, каждый раз…
– …ты вспоминала…
– …каждую ночь. Что это за шрам тут?
– …ерунда, заключённый пырнул осколком лампы. Не убирай руки, да, так! Ещё… не торопись… господи… господи…
Ей подумалось: а я ведь и забыла, как это вообще бывает, как это… ошеломительно. Но то была другая любовь: властная, неторопливая, взрослая. Оба они изменились, но сквозь биение пульса, сквозь кожу давно разлучённых тел с первого прикосновения жадно, неукротимо пробивалась та, предначертанная тяга друг к другу, таположенность друг другу, которую не уберегли они и вдруг вновь обрели – бог знает где, в какой-то деревне, посреди вселенной, посреди – да и не посреди уже, – остатней жизни…
– А ты знал, что мы встретимся?
– Никогда не сомневался…
– …я с утра чего-то ждала, психовала… даже с работы ушла…
– …и чего, думаю, меня тянет к этому балаболу в бригаде, на что он мне? Вечно какую-то хрень несёт…
– …а когда возвращалась, чудом не столкнулась с лошадью. Белая, смирная такая кобыла, на ней – парнишка. У меня чуть сердце горлом не выскочило… А он, дурачок, совсем не испугался, представляешь? – к окну склонился и говорит, улыбаясь: «Ты что, совсем меня не ждала?»
– …думаю, какого чёрта согласился к нему ехать, деревня какая-то, опять его болтовня… И вдруг он говорит: «Оркестрион!» – а у меня сердце: «Бух!» И говорит: «Соседка эксклюзивная…»
– …а часов с шести вечера уже просто знала, – ждала. Потому так разозлилась, когда Изюм со своим: «Эй, хозяйка!» – появился…
– …и ударило уже на ступенях веранды: сначала – запах, как в доме на Киселёва, потом – голос, и, как в снах все эти годы, – огненная вспышка волос! Дальше не помню…
Где-то звали рассвет петухи, по окрестным дворам разноголосо брехали собаки, а с опушки ближнего леса то и дело задышливо ухал филин.
Ночь тронулась в обратный путь, и небо повисло над крышами деревни исполинским куском ветчины, с розовеющими прослойками зари. Слепая луна застряла в нем алюминиевой крышкой от пива.
Он подошёл к окну, выглянул наружу, дав прохладному воздуху себя обнять, окатить волной и слегка успокоить. Вернулся к Надежде, неподвижно лежащей лицом к стене (мелькнуло: библейская жертва под занесённым ножом), тихонько прилёг сзади, уже не смея будить. Лишь продел обе руки у неё под грудью, сцепил их, вжался всем телом и замер, тихонько поглаживая подбородком её плечо. Бормотнул еле слышно: «Это моё».
– М-угу… начертай: «Здесь была талия», – отозвалась она сонно, хрипло.
– Вот здесь… а здесь? – нежно провёл пальцем линию вдоль бедра.
– Здесь задница. Можно подняться на эту гору… или укрыться в тени этой туши.
– Я тебя вышвырну из постели, если не прекратишь оскорблять мою красавицу жену.
– Я похудею…
– Ни в коем случае! У меня проблема с четвёртым позвонком, мне велено спать на мягком.
– Наглец. По тому, как ты кувыркался, никаких проблем у тебя нет.
– Ты просто не в курсе: я старый больной человек.
– Ха… – она опять затихла, но минуту спустя прошептала самой себе: – …волосы на груди стали гуще, лопатками чую… кудрявые…
– …и седые…
– Да?!
– Вот утром увидишь. Первым поседело сердце – давно и сразу, ещё когда по первому кругу тебя искал. Когда твой армянский святой меня не пожалел.
– А сколько их было, этих кругов?
– Много разных. Дольше всех – бумажный. Запросы, запросы… Сначала на Надежду Прохорову, а их толпы обнаружились, ты вообразить не в силах. Только моей нигде не оказалось.
– …я же сменила…
– Потом стал варьировать фамилии. Материнскую помнил, а бабкину не знал. Не догадался… Потом появился интернет… Нет, это длинная сага. Всё – завтра.
– …завтра, да…
– Постой. А родинка?!
– …какая ещё родинка…
– …моя любимая, вот здесь! Чечевичное зёрнышко! Караул!
– А! Кожник сказал убрать. Лет восемь уж…
– Кража моего имущества!
– …ну, давай уже спать, у меня всё плывёт, я лыка не…
…кто-то на цыпочках пробежал по листве, шёпотом пересчитывая наличность. В комнату плеснуло прохладой, рассветные шорохи потекли внутрь суетливойструйкой-шебуршайкой… Сквозь бисер тонкого дождя он слышал или чуял, как вспарывают землю выпуклые шляпки грибов…
– Ты задремал и говорил на каком-то рваном языке.
– Это иврит…
– О! Где подхватил?
– Завтра, завтра… другая жизнь…
– Ты всё расскажешь?
– …почти…
– У тебя было много женщин?
– …не помню, какая разница…
– А ты… почему не спрашиваешь?
– …м-м-м?
– …ну, был ли у меня кто-то…
– …не хочу знать…
– …никого.
– Врёшь!
– Ни единого раза.
Она помолчала… Это было правдой, но не вполне: она дважды пыталась, честно пыталась. В обоих случаях сбегала прямо из постели, в первый раз – торопливо натянув лифчик только на левую грудь, во второй – оставив в шикарной прихожей любимую босоножку, другая была запущена ей вслед талантливой рукой «нашего известного автора».
Аристарх за её спиной не шевелился, только руки сильнее сжал, аж дыхание пресеклось.
– Эй, ты чего? – окликнула его тихонько. – Отпусти. Что там за мокрища у меня на плече? Ты что, ты… плачешь, дурень?!
Вдруг он возник на пороге её комнаты, в доме на Киселёва: тощий, голый, семнадцатилетний, – в день, когда их чуть не застукал папка. За спиной сияли красно-жёлтые стёкла веранды, и цветной воздух клубился в отросших кудрях (опять надо стричься: ну и волосья!) – на мгновенье превратив его в первого человека в райском саду.
Разбежался, прыгнул к ней в кровать.
– Чокнулся?! Ты меня зашибить мог!
– Ни за что. Я прицелился… давай подвинься.
Кровать у неё была узкая, девичья. Как они умещались, уму непостижимо.
– Почему ты никогда не признаёшься мне в любви?
– Че-го-о? – вытаращил свои синие зенки.
– Как все люди. Как в книгах, в поэзии: «Я вас люблю безмолвно, безнадежно…»
– Ну, это… – обескураженно произнёс он, – это же как-то… не про нас.
– Как это – не про нас?!
– Нет, я могу, – перебил торопливо: – Люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю… и ещё два миллиона раз, если тебе так нужны эти идиотские…
– Идиотские?!
– Ну, послушай… – он ладонью открыл её лоб, запорошённый рыжими прядями. – Это вот как: стучат в дверь, на пороге – человек с вываленными кишками, мычит: «Спаси меня!» А ты ему: «Вытирайте ноги и не забудьте волшебное слово «пожалуйста». У нас же всё на лбах написано, и кишки вывалены, и зенки вытаращены… Мы – это мы, на виду у всех. Теорема Пифагора: две руки, две ноги, голова и хер…
– Фу! Что за слова…
– Хер? Слово как слово, а как его ещё назвать? Хер он и есть… штука полезная… – Скосил вниз глаза: – Вон, глянь, отзывается, знает свою кличку… как собака…
– …хвостом вертит… хороший пёсик.
– …правда он лучше выглядит без… намордника? Погладь его, скажи: «хороший пёсик»!
– Хороший пёсик… хороший пёсик… хороший…
Так и плыли в сон тихой лодочкой…
Голоса ещё сочились по капле, замирая, обрываясь, проникая друг в друга, – рваный судорожный вздох, два-три слова, бесстыдно обнажённых, и это уже были не слова и даже не мысли, а просто выдох, голая боль, разверстая рана; незарастающая, пульсирующая культя ампутированной жизни.
Одинокая песня жаворонка, висящего над глубоким медным глянцем вечерней реки.
* * *
Под утро он снова поднялся, невольно её разбудив (да что ж это за синдром блужданий? Привязывать тебя, что ли? Вспомнилось, как маленький Лёшик каждую ночь босиком прибегал к ней в кровать).
Шатался где-то по дому, шлёпал босыми ногами по лестнице. Из тёмного коридора глухо донеслось:
– Где здесь туалет, етить-колотить?
Да, ночник забыла. Впрочем, им было не до ночника.
– От двери направо.
– Ну, и полигон…
– Тут хлев был. Председатель коз держал.
– Это какие-то прерии, а не… и где тут нащупать… а-ябть!!! – похоже, налетел на книжный шкаф.
– Выключатель над деревянной лошадкой.
– Твоя милая лошадка и лягнула меня по яйцам!
Надежда вновь засыпала в изнеможении…
Сознание норовило улизнуть, сбежать в сон от неподъёмного потрясения последних часов, от непомерного, высоченного, тяжеленного счастья. Вскользь подумала, что спать-то теперь вообще нельзя, надо время ценить, каждую горестно-сладкую минуту, когда, теперь… вместе… не отрывая глаз. Так и ходить – боком, не расцепляясь, как инвалиды, –а мы и есть инвалиды, два старых пердуна, контуженных юношеской страстью… Только не было сил; силушек не осталось ни капли. Она засыпала, уже скучая по его телу у себя за спиной (сквозь дымку сна: он что, не привык засыпать с женщиной? а ты – ты привыкла хоть с кем-то засыпать? ваши потерянные тела просто ошалели друг от друга, и потому ты лежишь как подранок, а он мечется как подорванный), – неудержимо погружаясь в рассветный, заливистый птичий дребадан…
Уже баба Маня прошлась-проплясала по избе (на плечах – шерстяной лазоревый платок с золотыми розами), задорно припечатывая: «Одна нога топотыть, а другая нэ хотыть, а я тую да на тую, да и тую раздротую…»
…как вдруг Аристарх – где-то рядом – резко двинул стулом и проговорил изменившимся, осевшим каким-то голосом:
– Не понял. Где это я? Когда?
Она с усилием разлепила глаза и зажмурилась от света лампы: он стоял у стола и держал в руке фотографию. Поскольку там одна только и стояла, Надежда всё поняла. И всё это было так некстати!
Там, победный и праздный, в элегантной куртке и дорогущих джинсах, в каких-то дурацких крагах, на фоне мотоцикла запечатлелся Лёшик: прошлым летом мотался по Сан-Марино с кодлой своих инфекционистов. Где-то они выступали вроде бы – на бульварах, в барах… или, чёрт его знает, – в ратушах.
«О, не-е-т, боже мой, – подумала она, закрывая глаза в безуспешной попытке защититься ещё и от этого. – Только не сейчас!»
Вообще, она не имела привычки расставлять по столикам и книжным полкам фотографий любимых лиц, ибо всё носила в себе и пока ещё, как считала, ничего не растеряла и не нуждалась в предъявлении фотографической и топографической любви. А эту небольшую, снятую чьим-то телефоном и овеществлённую в фотокиоске карточку принёс сам Лёшик, – вопервых, помириться после долгой и хамской с его стороны размолвки, вовторых, похвастаться мотоциклом, который недавно освоил. Фотографию втиснул в дешёвую золочёную рамку (намёк на якобы мещанский вкус матери) и выставил в центр стола – любуйся, мать! Мир и мотоциклетное благоволение во человецех. После его ухода Надежда отодвинула подарок подальше и слегка отвернула к окну, уж больно поза да и физиономия были у сына самодовольные.
Так вот на что Аристарх наткнулся в своих ревнивых инспекциях! А с первого взгляда, в жёлтом мареве лампы, сходство действительно невероятное.
– Странно… – обескураженно бормотал он. – Ни черта не помню! Маразм. Что за куртка… и мотоцикл?! Мистика, маскарад. Где это, ёлы-палы, и откуда – тут?! Да нет, это кто-то… другой, да?!
– Не сейчас. Мы же договорились: завтра. Всё зав-тра…
Он прыжком оказался возле кровати, рухнул рядом, схватил её за плечи и основательно тряханул.
– Ты рехнулась?! Ты правда думаешь, что я дам тебе спать?! Кто этот парень?! Где он? Когда?!! Отвечай, или я придушу тебя!!!
Она со вздохом подтянулась на обеих руках, села в кровати. Подоткнула подушку за спину.
– …дай сигарету.
– Нет! Ты бросила курить.
– Когда это я бросила?
– Шесть часов назад. И навсегда… Давай! Расскажи мне сейчас же, что это за… мальчик. А потом я тебя точно убью! Когда. Он. Родился.
Она год назвала запухшими губами…
Огромная тишина вплыла в открытое окно, застрекотала-затрепетала предрассветным говорком каких-то птах.
– Се… Семён? – прошептал он, осекшись. Каким он маленьким вдруг стал, мелькнуло у неё. Маленьким, съёженным, потерянным…
– Иди ты в задницу со своей семейной сагой, – проговорила почти снисходительно. – Он – Алексей, в честь моего деда. Хотя доброты его, увы, не унаследовал.
Аристарх повалился рядом навзничь, перекрыл глаза скобой локтя, будто хотел ослепнуть, не видеть, будто боялся до конца осознать и зарыдать, и разодрать к чёрту какое-нибудь покрывало, стул какой-нибудь разломать в этой уютной чудесной спальне.
– Как ты… посмела, – пробормотал глухо. Лёгкие его трепетали от нехватки воздуха, от горя, горящего внутри. – Как посмела отнять… всё разом: себя, нашего ребёнка…
– Это не наш ребёнок, – оборвала она спокойн. – Наш погиб. Вместе со мной.
Поднялась, нашарила босыми ногами тапочки (где вы, светящиеся тапки Изюма!), накинула халат, нащупала на тумбочке пачку сигарет. Щёлкнула зажигалкой и жадно затянулась. В свете огонька сигареты её лицо с припухшими губами казалось осунувшимся и резким, и поразительно юным. Выдохнула дым, погнала его ладонью мимо лица, сощурилась и проговорила:
– Ладно. Это «завтра», собственно, уже настало. Сядь вот здесь, напротив, я всё расскажу. Только портки надень. Я эту сцену двадцать пять лет репетировала…
* * *
«Дорогая Нина, простите-простите-простите, что не отвечала так долго. Тому были причины, вернее, одна громадная причина, о которой не здесь, не сейчас, а когда-то, возможно, расскажу и даже покажу.
У вас там сейчас жара, а у нас только что бушевал неистовый ливень. Вдруг налетели чёрные брюхатые тучи и сразу же пролились мощными струями. Помните: «Катит гром свою тележку по торговой мостовой, и расхаживает ливень с длинной плёткой ручьевой»?
Ветер, ежесекундно бросаясь в разные стороны, закручивал струи в фантастические вытянутые фигуры на одной ноге. Несколько таких, раскачиваясь и утолщаясь, как удавы, носились по моему лужку и яростно лупили о плитку дорожки, а в это время на небе быстро чередовались молнии: вертикальная, косая, трезубец, белая, алая и, наконец, горизонтальная – во все мои окна, – длинная, изгибистая, с коралловыми отростками. Небо треснуло вширь огненными щелями. Удары грома были такой силы, что испуганный Лукич хватанул меня за колено.
Ещё мгновение, и эти буйство и красота, закипая в небесных парах, понеслись дальше. Я побежала наверх, на третий этаж, досматривать парад молний. Там у меня, Вы же помните, шаром покати, один огромный пустой кованый сундук стоит, купленный у Канделябра, – Изюм спину надорвал, пока его на верхотуру затащил. Мне почудилось, именно в нём спрятался и, стихая, ворочался уходящий гром. А на небе остались только слабые сполохи. Всё это напоминает сильную, но быстротечную страсть или гремучую реку…
Вы когда-нибудь наблюдали громокипящее шествие смерча? Со мной такое однажды произошло.
Когда Лёшик был маленьким, два лета подряд мы с ним провели в захолустном, но милом предгорном селе на Чёрном море. Снимали комнату в доме у одной вдовы, неряхи и лентяйки. Когда она выпивала рюмаху, то вспоминала о супруге, и в её хнычущем голосе слышалось явное облегчение: видимо, покойный заставлял её хоть как-то прибираться в доме. Дом был запущенный, полы рассохлись, голубая терраса облупилась и заросла перевитыми жгутами глицинии, но вот сад… За этот сад, как в старинном романсе,объятый бархатной жарой, душу было не жалко отдать! Библейский Эдем, огромный, изобильный, весь засаженный деревьями: гранатом, инжиром, абрикосом и вишней. Вечерами мы там ужинали – в виноградной беседке, за колченогим деревянным столом, поднимая руку и отщипывая от тяжёлой винно-красной грозди парочку виноградин.
Однажды как-то особенно быстро стемнело, над деревьями выкатилась баснословная луна, залила весь сад призрачным гробовым светом. Силуэты деревьев и кустов вдруг обрели потусторонний или, скажем, театрально-постановочный вид: воздух заполонили яркие светлячки, медленно, как во сне, дрейфующие в зеленоватом мареве. Мы с Лёшиком притихли…
А за волшебно мерцающим садом простирался морской горизонт, над которым – это и в темноте было видно – уплотнялось небо, набухая грозным асфальтовым мраком. Внезапно тучу вспорола ледяная рукастая молния, и ещё одна, и ещё! За исполинским харакири в душной мгле прокатился оглушительный рык, будто сотнями тысяч глоток возопила боевой клич какая-то небесная армада.
Вдруг рядом очутилась Таисья, хозяйка… Сощурилась, вглядываясь в горизонт, и тихо проговорила: «Есть!» Мы стали таращиться в том направлении и увидели, как в брюхе необъятной чёрной тучи возникла и бешено завертелась бородавка. Она росла, росла… вытянулась вниз и завилась штопором. «Смерч, – спокойно пояснила Таисья. – Если до моря дотянется, то на нас пойдёт». И, заметив моё первое движение: схватить Лёшика на руки и переть с ним в горы, пока достанет сил, – придавила рукой моё плечо и сказала: «Не бздо. Нас не тронет. Вверх по реке пойдёт».
Между тем циклопический хобот смерча дотянулся-таки до моря и стал пить воду. Сколько он набрал? Сотни, тысячи тонн воды? Не знаю, но в какой-то момент насытился и двинулся к берегу. «По реке пойдёт, – повторила Таисья и зевнула, – спите спокойно».
А утром ждала нас развязка спектакля, эпилог действа античного размаха. Смерч прошёл по меленькой речушке, запасливо подобрал из неё водицы, поднялся в горы и уже там вывалил в её русло многотонную массу воды. Вмиг жалкая речушка превратилась в неукротимый поток, сметающий любое препятствие: волна библейского потопа ринулась вниз, сшибая по пути гигантские валуны, с корнем выдирая мощные деревья, – так что наутро мы увидели широкую запруженную реку…
Вот, собственно, что с моей жизнью на днях произошло, с той только разницей, что несёт меня и дальше в самой сердцевине смерча – с вырванными корнями, ошалелой кроной, ободранной корой.
Только не беспокойтесь обо мне. Я счастлива…