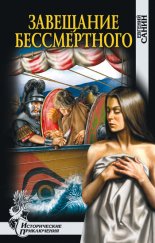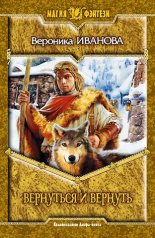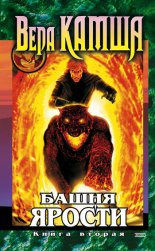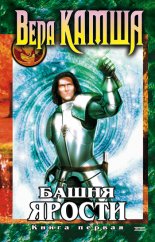Ватага (сборник) Шишков Вячеслав
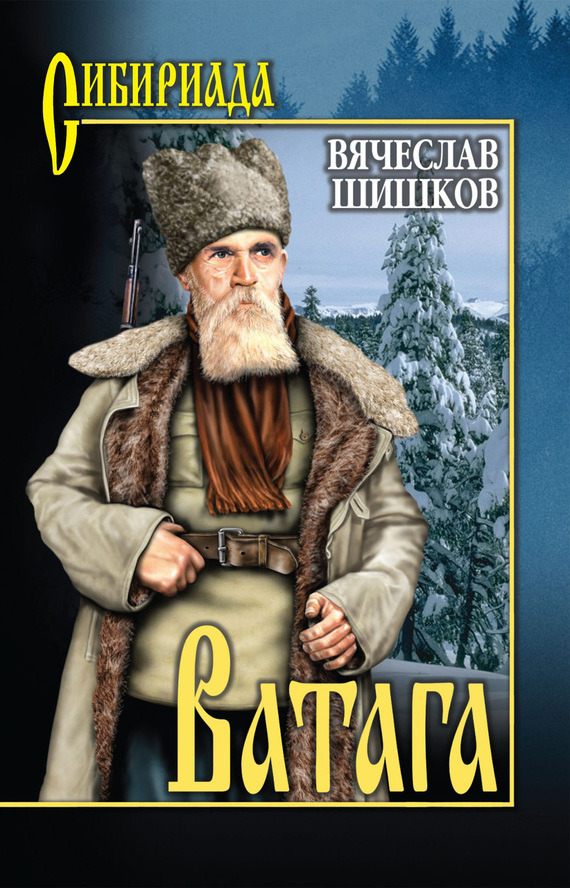
Всхрапывали, гоготали лошади, забрасывая передние ноги на закрайки, но тонкий лед, звеня, сдавал.
– Вылазют! Вылазют! – вскричали партизаны, их зоркие глаза увидали двух вылезших людей. – Прикончить надо…
– Пускай на морозе греются. Сами сдохнут, – сказал Зыков. – А впрочем… добудьте-ка сюда одного.
Он повернул коня, и все шагом поехали к кострам.
Месяц прогрыз подтянувшиеся к небу тучи, и в мутном свете видно было, как трепаным дымом проплывали облака.
– К утру вызвездит, – проговорил рыжий. – Ишь, казацкое солнце ладит рыло показать, – и махнул рукавицей на луну.
– Слушай, Срамных, – обратился к нему Зыков. – Город заперт?
– Так точно… Кругом дозоры. Офицерье схвачено. Крепостной начальник схвачен… Пушку я досмотрел старинную, у церкви валялась, в крепости, велел своим ребятам на вал втащить… Вдарить можно. Опять же встреча тебе будет: трезвон и леменация… Приказ мной даден.
Приволокли поляка. Бритая, без шапки голова, большие усы закорючкой вниз. Глаза на толстощеком лице прыгали, как у помешанного. Весь взмок, и едва держался на ногах.
– Пане… Змилуйся, пане!.. – дрожа и стуча зубами, упал он пред Зыковым в снег лицом.
«Сейчас пытать начнет», – сладостно подумал Гараська, пьянея звериным чувством.
– Встань. Какой веры?
– Католик, пане… Католик.
– Рымской, что ли? О, сволочь… Разорвать бы…
– Дозволь мне, Степан, – хрипло загнусил сзади широкоплечий горбун со свирепой мордой и сверкнул огромным топором.
– Нет, мне, Зыков, мне… – и Гараська соскочил с коня.
– Ну, ладно. Живи, – милостиво сказал Зыков. – Эй, дайте-ка ему сухую лопотину… Раздеть… Вишь, у молодца руки зашлись.
Когда поляк был одет в теплый полушубок, Зыков сказал ему:
– Коня тебе не дам. Беги за нами бегом, грейся. Посмотришь, как Зыков царствует, и своим перескажешь. Ежели твоя планида допустит тебя домой вернуться, и там всем расскажи про Зыкова. Я так полагаю, что спас тебя не зря. Ты кто? Ты враг мой, а я тебя возлюбил. И я мекаю, что много грехов тяжких за это мне сбросится с костей. А теперича…
– Скачут, скачут! – закричали голоса.
Зыков обернулся к городу. В неокрепшем лунном свете мчались четверо.
– Передались!.. Без кроволития! – кричали издали.
– Тпрру… Товарищ Зыков, – сказал запыхавшийся солдат. Белый конь его мотал головой и фыркал. – Так что на митинге единогласно все тридцать пять человек постановили присоединиться к вам, товарищи… Долой Колчака, да здравствует Красная армия и красные партизаны с товарищем Зыковым во главе… Ура!.. – Солдат замахал шапкой, конь его закрутился, все закричали ура.
– Добро, – сказал Зыков. – Вы решили, ребята, по-умному. И нам работы меньше, и ваши головы останутся на плечах торчать. Спасибо. Ну, готово, что ль? Дай-ка огня.
Десяток выхваченных из костра горящих головней мигом, как в сказке, осветили Зыкова. Он вынул из-за пазухи часы:
– Эвона, одиннадцать скоро. Горнист! Играй сбор!
Медный зов трубы звучно и резко прокатился над рекой. Лес и горы, тотчас отозвавшись, пробредили во сне. У многочисленных костров закопошились партизаны, и вот, как на крыльях, стали слетаться к месту сбора всадники.
Зыков махнул рукой. Горнист сыграл «повзводно, стройся». Две сотни живо встали головами к городу.
– Вот, братцы! – прокричал Зыков, указывая на стоявшего рядом поляка. – Это наш враг был, теперича друг и брательник. Я его крестил в реке, в Ердани. Имя ему теперича дадено Андрон, а фамиль Ерданский. – Бороды враз взметнулись, и над головами лошадей прокатился шершавый смех.
– Ну, теперича на гулеванье!..
Зыков вымахнул вперед отряда, за ним – сподручные. Развернули знамя. Рожечники наскоро продули берестяные рожки, дудари испробовали дудки, пикульщики – пикульки.
– Айда за мной!
Ударил барабан, горласто задудили многочисленные рожки и дудки, два парня бухали колотушками в медные тазы, в которых только что варили хлебово, свистуны в такт барабану оглушительно высвистывали.
Музыка стонала, выла, скорготала, хрюкала. Партизан от этой музыки сразу затошнило, у всех заскучали животы. Гараська заткнул уши пальцами и скривил рот: ужасно хотелось взвыть собакой.
Даже Зыков густо сплюнул и сказал в бороду:
– Вот сволочи… Аж мороз по коже…
Как только вступили в город, рыжий дядя Срамных сделал выстрел, тогда на всех колокольнях раздался торжественный трезвон. Глаза Зыкова чуть улыбнулись. Он ласково оглянулся на Срамных.
Все улицы по пути были освещены кострами. В переулках у костров, выгнанные из домов и хибарок горожане, и в каждой кучке – зыковский всадник.
Народ по приказу кричал ура, махал шапками, платками, флагами, особенно усердствовали мальчишки.
Собаки разъяренно кидались на рожечников, стараясь вцепиться в глотки лошадей. Крайний всадник снял с плеча вилы, ловко воткнул их в захрипевшего пса и перебросил через забор.
Зыков, гордо откинувшись, ехал на коне царем. Он совершенно не отвечал на восторженные крики. Только изредка подымал нагайку и выразительно грозил толпе.
Лишь показались ворота крепости, с вала пыхнул огонь, и вместе с пламенем тарарахнул взрыв, как гром. Кони шарахнулись и заплясали. Бежавшая за отрядом толпа метнулась врассыпную, многие упали, опять вскочили, в ближних домах вылетели стекла.
Зыков с подручными рысью въехал в крепость.
На валу, около того места, где разорвало пушку, хрипя, полз на карачках бородатый, в поддевке человек. У самых ног зыковского коня он протяжно охнул, перевалился на спину и вытянулся, закатив глаза. На откосе неподвижно лежал еще один, зарывшись головой и руками в снег.
– Чурбаны неотесанные, – раздраженно сказал Зыков. – Из пушки палить не могут.
– Я им говорил, – замахал руками прибежавший, бледный весь, как полотно, солдат. – Пушка незнакомая, старинная, черт ее ведает, что за пушка… А они до самых краев, почитай, набили порохом… Вот и… Трое твоих орудовали, двое тута-ка, эвот они… А третьего не знай куда фукнуло, поди, где ни то на крыше. Я от греха убег.
Еще подходили солдаты, тряслись, как осинник.
– Есть другая пушка? – спросил Зыков. – Ну-ка, давай сюда. И пороху скольки хочешь? Ладно.
Дружно тянули от церкви заарканенную ржавую тушу пушки. Подтащили к откосу. Кричали, подергивая концы аркана:
- Раз-два! Еще разок!
- Раз-два! Матка идет!
- Раз-два! Подается!
Но пушка подавалась туго. Она лениво вползала вверх, как стопудовая черепаха.
– Дубинушку надо! – крикнул красавец Ванька-Птаха и заливисто запел:
- Наш начальник Зыков
- Че-о-рный!..
- Он отчаянный
- Задо-о-рный!..
- Да, э-е-е-ей, дуби-и-нушка, ухнем…
- Да, э-е…
– А ну! – Зыков соскочил на землю и впрягся в аркан.
Все надулись, сразу запахло редькой, и пушка, злобно ощерив рот, ходом поползла наверх.
– Миклухин! – крикнул Зыков. – Орудуй… Ты бомбардиром был. Греми раз двадцать… Надобно на людишек трепет навести. А где ж красные правители? Большевики?
– В тюрьме… А главные перебиты были. Кой-кто остался.
– Всех на свободу.
– И жуликов?
– Всех. Моим именем. Большевики пусть спокойно по домам идут. Когда надо, покличу. Да пускай смирно сидят, а то… – он ткнул кулаком в грудь и гордо крикнул: – Я здесь власть! – Лицо его было сурово. – Эй, Гусак! Объяви нашим, чтоб разъезжались по домам. Чинно-благородно чтоб… моим приказом, строгим. Обид никаких. А то башки, как кочни, полетят! Гулять же будем по окончании делов. Срамных! Указывай фатеру.
Глава VII
Луна разогнала все тучи. От звездного неба шел голубоватый зыбкий свет.
Деревянный двухэтажный дом купца Шитикова, с колоннами и резьбой, выходил на соборную площадь. Стекла отливали голубым блеском, как на солнце темно-синий шелк. Внутри одинокий пугливо светился огонек. У ворот, по углам и во дворе стояли вооруженные партизаны.
– Двери, – сказал Зыков, влезая на крыльцо.
Сверкнула сталь двух грузных ломов, дерево затрещало, и Зыков с рыжим поднялись наверх.
Зыков двинул плечом запертую дверь, и оба пошли в заднюю комнату на огонек. Их шаги в пимах были тяжелы и мягки. В спальне горела лампа, у образов две лампадки. Хозяин и хозяйка стояли под лампадками, лицом к дверям, умоляюще скрестив на груди руки. Страх перекосил, исковеркал их лица.
– Здорово, ваше почтение, – прохрипел Срамных. – Давай деньги!.. Три тыщи! Видишь, сдержал слово, самолично Зыкова привел. Вот он, он! Давай деньги! – и захохотал. Хохот был хищный, злорадный. У хозяев остановилось сердце, враз похолодела кровь.
– Все возьмите… Батюшки мои, отцы родные… – и оба повалились на колени.
– Богачество можешь оставить при себе, – сквозь зубы сказал Зыков, горой шагая на них. В глазах Зыкова Шитиков мгновенно увидел свою смерть. Кособоко откачнулся и, прикрыв голый, как яйцо, череп ладонями, пронзительно завизжал. Зыков резко два раза взмахнул чугунным безменом, и все смолкло.
– Приплод есть? – спросил Зыков.
– Нету. Бездетные они. – Все лицо и глаза Срамных были в слюнявой и подлой улыбке.
– А там кто охает? – Зыков пошел с лампой в соседнюю комнату.
– А это ейная мать, больная…
– Выбросить в окно. С кроватью вместе.
Рыжий с двумя партизанами подняли кровать:
– Побеспокоить, бабушка, придется.
Старуха онемела: ворочала глазами и, как рыба, открывала ввалившийся рот. Поднесли к венецианскому окну и раскачали. Вместе с двойной рамой все кувырнулось на мороз.
Выбросили и те два трупа.
– Эх, дураки… Холоду напустили, – сказал Зыков.
– Законопатить можно. Эвот сколько ковров, – ответил рыжий. – Эй, пошукай-ка, братцы, гвоздочков.
Зажгли все лампы.
– А внизу кто? – спросил Зыков.
– Приказчики да Мавра, стряпуха ихняя.
– Позвать стряпуху. – И сел на кресло.
Мавра была слегка подвыпивши. У самой двери она брякнулась на колени и поползла к Зыкову, голося басом:
– Ой ты, свет ты наш, ты ясен месяц… Батюшка, кормилец, не погуби… Разбойничек ангельский…
– Дура! Ты купчиха, что ли? Встань…
– Верная раба твоя… Ой, батюшка, милый разбойничек… – и заревела в голос.
Зыков нахмурился, подхватил ее под пазухи:
– Жирная, а дура, – и посадил рядом с собой на диван.
– Ой, ой, – скосоротилась она и засморкалась. – Ничевошеньки я знать не знаю, ведать не ведаю… Хошь режь, хошь жги… А только что…
– Слушай…
– Не буду у них, у проклятых буржуев, жить.
– Да слушай же…
– Знать не знаю, ведать не ведаю… Разбойничек ты мой хороший…
– Молчи, сволочь!. – внезапно вскочив, затряс Зыков под самым ее носом кулаками. – Срамных! Растолкуй ей, чтоб на двадцать ртов ужин сготовила… Да повкусней… А баня готова? Фу-у черт, дура баба.
Третий раз грохнула пушка. Стекла и висюльки на лампе взикнули.
– Скажи тому обормоту, как его… Миклухину, достаточно палить. Завтра… – проговорил Зыков и пошел в баню.
Ему светил фонарем приказчик Половиков, нес веник с мылом, простыню и хозяйское белье.
Баня – в самом конце густого сада. Весь сад в пушистом инее, как черемуха в цвету. И все морозно голубело. На пуховом снегу лежали холодные мертвые тени от деревьев.
– Прикажете пособить? – спросил приказчик, приподымая шапку и почтительно клюнув длинным носом воздух.
– Нет. Уважаю один.
– Не потребуется ли вашей милости девочка или мадам? Можно интеллигентную… – приказчик осклабился и выжидательно стал крутить на пальце бороденку.
Зыков быстро повернулся к нему, задышал в лицо, строго сказал:
– Не грешу, отстань… – и вошел в баню.
Зажег две свечи, начал раздеваться.
Когда стаскивал с левой ноги пим, рука его попала в какую-то противную, холодную, как лягушка, слизь. Он отдернул руку. От голых пяток до боднувшей головы его всего резко передернуло, лицо сжалось в гримасу, во рту, в пищеводе змеей шевельнулось отвращение:
– Тьфу! Мозги…
Он шагнул из бани и далеко забросил оба пима в сугроб.
От голубеющей ночи, со двора, пробирались к бане три всадника.
Зыков закрючил дверь, взял винтовку, китайский пистолет, нож и веник и нагишом вошел в парное отделение.
Когда он залез на полок и с азартом захвостался веником, пушка грохнула в четвертый и последний раз.
Продрогшие за длинный переход партизаны набились по теплым городским углам, кто где.
У молодой бабочки Настасьи пятеро. Маленькая, шустрая, она, как на крыльях, порхала от печки к столу, в чулан, в кладовку.
– Да ты ложись спать… Мы сами… Зыков не велел беспокоить зря. А Зыков скажет – отпечатает.
– Как это можно, – звонко и посмеиваясь возражала та.
На столе самовар, яичница, рыба, калачи – бабочка на продажу калачи пекла.
Четверо были на одно лицо словно братья, волосы и бороды, как лен. Только у пятого, Гараськи, обветренное толсторожее лицо голо и кирпично-красно, как медный начищенный котел.
– А у тя хозяин-то, муж-то есть? – зашлепал он влажными мясистыми губами.
– Нету, сударик, нету… Воюет он… При Колчаке.
– При Колчаке? – протянул Гараська, прожевывая хлеб со сметаной. – Зыков дознается, он те вздрючит.
– По билизации, сударик… Не своей волей, – слезно проговорила бабочка, и сердце ее екнуло.
– По билизации ничего, – сказал мужик в красных уланских штанах. – Ежели по билизации, он не виноват.
Настасья успокоилась. Быстрые глаза ее уставились в бороды чавкающих мужиков.
– Кого же вы бить-то пришли? Большачишек, что ли?
– Кого Зыков велит, – сказал крайний мужик в овчинной жилетке с офицерскими погонами и крепкими зубами щелкнул сахар.
– Нам кого ни бить, так бить, – весело сказал Гараська и, обварившись чаем, отдернул губы от стакана.
– А ты нешто убивывал? – спросила бабочка.
– Убивывал. Я на приисках работал, там народ отпетый… Убивывал…
Глаза Настасьи испугались.
– Гы-гы-гы, – загоготал Гараська. – Вру, вру… А вот я бабенок уважаю чикотать, – он квакнул по-лягушачьи и боднул хозяйку в мягкий бок.
– А зыковский наказ забыл, паря? Оглобля!.. Черт… – окрысились на Гараську мужики.
– Так тебе Зыков и узнал, – с притворной заносчивостью сказал Гараська, подмигивая мужикам.
Все плотно наелись и рыгали. Молодые мужики, раздувая ноздри, примеривались к хозяйке глазом: бабочка круглая. Вот только что Бог ростом обделил. Одначе, не хватит на всю артель.
– Ну, братцы, дрыхнуть.
Настасья улеглась за занавеской на кровати, партизаны в соседней комнатушке на полу, разбросив шубы.
Старший, Сидор, задал лошадям овса, помолился Богу и бесхитростно до утра завалился спать.
Почти по всему городку партизаны крепко спали. Только выходы на окраинах караулили зоркие глаза, да разъезды, тихо переговариваясь, рыскали по улицам.
А вот за крашеными воротами драка, гвалт: два партизана, голоусик с бородатым, пьяные, вырывали друг у друга деревянную шкатулку.
– Моя! – кричал голоусик.
– Врешь! Я первый увидал.
И оба залепили друг другу по затрещине.
Разъезд загрохотал в калитку и въехал во двор:
– Язви вас! Вы драться?!.
Партизаны крепко спали, и пушка сомкнула свое хайло, только обывателей мучила бессонница. Воля в каждом померкла, покривилась, всяк почувствовал себя беззащитным, жалким как заключенный в тюрьму острожник. Люди были, как в параличе, словно кролики, когда в их клетку вползет удав. Озадаченные обыватели то здесь, то там чуть приоткрывали дверь на улицу и прислушивались к голубой морозной ночи.
Но ночь тиха.
И это обманное безмолвие еще больше гнетет их. Каждый предвидел, что завтрашний день будет страшен: сам Зыков здесь.
Трепетали купцы и все, у кого достаток, трепетали чиновники и духовенство. Мастеровые, мещане и просто беднота тоже вздыхали и тряслись: Зыкову как взглянется, и хорошая и дурная про него идет молва.
Ой, не даром нагайкой Зыков погрозил. А кто у костров стоял? Простой народ. Вот ввязались позавчера в бунтишко… Эх, черт толкнул, попы подбили с богатеями!.. Эх, эх… Пускай бы правили городом большевики, тогда б и Зыков не при чем.
Фортки, двери закрывались, и долго в домах, в хибарках шуршал тревожный разговор иль шепот.
Весь город был в параличе.
Зыков, горячий, как огонь, выскочил из бани, – на красном исхвостанном веником теле чернеет широкий кержацкий крест, – кувырнулся в сугроб и запурхался в снегу.
– Стережете, ребята?
У всадников блестели под луной винтовки.
– Парься спокойно. Стерегем.
Кому же спится в эту ночь? Непробудно спят на морозе Шитиков со старухой и женой, да еще в мертвом свете почивает утыканное крестами кладбище. Между могил стремглав несется ослепший от страха заяц, за ним, взметая снег, – голодная собака или волк.
Об убийстве Шитиковых в доме купца Перепреева никто не знает.
Сам Перепреев, плотный старик с подстриженной круглой бородой, ходит из угла в угол и зловеще ползет за ним его большая тень.
– Папаша, что же нам делать? Папашечка, – хнычет его младшая дочь Верочка, подросток. Она умоляюще смотрит на отца. Отец молчит.
Таня в темном углу возле окна, в кресле, поджала ноги под себя. Она, видимо, спокойна. Но душа ее колышется и плещет в берега, как зеркальный пруд, в который брошен камень.
Таня знает: ночь за окном темна, ночь сказочна, грохочет пушка, луна прогрызла тучи, и кто-то пришел в их жалкий городишко из мрачных гор. Кто он? Русский ли витязь сказочный иль стоглавое чудище – Таня этого не знает. И кто ответит ей? Отец, сестра, мать?
– Папашечка, послали бы вы на улицу приказчика разузнать. Напишите письмо начальнику в крепость, – говорит Верочка.
Отец бессильно, с горечью машет рукой, вновь залезает на окно и выглядывает в фортку.
На тумбе, возле дома, торчит штык, чернеет борода.
– Эй, милый!
Но милый отворачивается и сплевывает в снег.
На диване, крепко перетянув голову полотенцем, охает хозяйка. Верочка подходит к ней, долго смотрит на нее, потом с чувством целует:
– Мамашенька…
Отец, как маятник, опять ходит из угла в угол, опустив голову. Ноги его начинают дрожать и гнуться.
– Растудыт твою туды. Надо к Перепрееву сходить, погреться, – шамкает промерзший в двух шубах караульщик. Он ударил в колотушку, вытаращил глаза на прочерневший разъезд, пробормотал:
– Тоже… ездиют… Пес их не видал, – и, открыв калитку, заковылял в купеческий двор.
– Куда лезешь? Пошел вон!
Караульщик остановился:
– Иду, иду, иду, – повернул назад, бубня в седую бороду: – Растудыт твою туды. Застрелют еще, анафимы… И управы на них нету. К кому пойдешь?.. Тоже, правители… Тоже прозывается Толчак. Чтоб те здохнуть, Толчаку… А убьют купца. Ох, Господи… Пойду спать домой… Черт с ними и с амбарами его… Все равно убьют… Потому – сам Зыков.
Зыков парился очень долго и пришел из бани босиком.
Весь Шитиковский дом был освещен.
За длинным столом шумели. Стол, как войсками плац, уставлен бутылками, рюмками, стаканами. Прислуживают приказчики и два подручных, в красных рубахах, мальчика. Головы у мальчишек взъерошены. Один, раскосый, дернул украдкой сладкого вина, и ему в соседней комнате приказчик нарвал уши.
Партизанов по выбору приглашал Срамных. Девять человек молодежи, крестьянских парней – все они верные, испытанные слуги Зыкова, сотники, десятники; остальные, человек пятнадцать, всех мастей бородачи, кержаки и крестьяне. Это самые близкие Зыкову люди, его свита, правая рука. Среди них два седовласых деда: бывший с золотых приисков старатель и еще – бобыль-мужик.
Хохот, разговор. Несколько бутылок выпито, много закусок съедено. Но ужин еще не готов: Мавра и одноглазый повар-грек, приготовлявший днем обед в честь польских офицеров, загибают невиданные растегаи, варят пельмени, жарят баранину и кур.
– Зыков!
Все за столом поднялись, как пред игуменом монахи:
– С легким паром, Степан Варфоломеич!.. С легким паром… Пожалуйте… много лет здравствовать!
Спины гнулись усердно, низко, и свисшие космы шлепали по воздуху. Зыков молча сел в середку. Справа от него, подложив под сиденье огромный свой топор, каким рубят головы быкам, мрачно восседал горбун. Он кривоногий, раскоряка, ростом карапузик, но могуч в плечах. Лоб у него низок, череп мал, челюсти огромны. Оплывшая книзу рожа его вся истыкана глубокими темными оспинами, словно прострелена картечью. Поэтому прозвище его – Наперсток. Большие белесые глаза красны, полоумны. Возле виска зарубцевавшийся широкий шрам. Наперсток говорит: медведь так обработал. Молва говорит: в разбойных делах мету получил.
Он весь во власти Зыкова, трепещет его и полон ненависти к нему. – Эх, сковырнуть бы Степку да на его место встать! – Зыков тоже тяготится им, хочет от него отделаться, но кровь крепко спаяла их судьбу.
А вот и ужин, пельмени.
– Ну, братаны, теперя можно погулять, – говорит Зыков, но шумливый стол не слышит. – Эй, я говорю! – И в тишине раздельно: – Гуляй, да дело не забывай. Довольно, посидели мы в тайге, в горах. Сегодня жив, а завтра нету. Гуляй, ребята… Нажретесь, спать здесь. На улку срама не выносить. В упреждение соблазна. И чтобы тихо.
– Степан! – прервал его Наперсток. – Я на топоре сижу, – он засмеялся, как закашлял, тряся горбом, вросшая в искривленную грудь плешивая башка его повернулась к Зыкову и ехидно осклабила гнилые зубы.
Зыков ожег его взглядом и сказал:
– Одноверы! В грехе не сомневайтесь: время наше – война. Кончим, правую веру свою вспомним, очистим воздух, станем жить по преданию отец и праотец. Кто трусит – греши в мою голову. Я – единая власть вам, и я в ответе!
Кержаки кивали головами, чавкали еду, запивали вином. Парни друг перед другом рассыпались в самохвальстве, вино пили как воду, и все покашивались на Зыкова. Он глотал пельмени быстро, обжигался, хмуро молчал.
В левое ухо говорил ему Срамных. Пред ним на столе каракулями исписанный лист бумаги. Здесь перечислены все, которых завтра ждет расправа. Зыков слушает молча, но брови его хмурятся, и на глаза набегает тень.
– Эй, услужающий!.. Ослеп? Наливай, черт, рыжа маковка! – кричат то здесь, то там.
Приказчик кожилится, штопором вытаскивая пробки. Свету много. В золоченой раме «Король-Жених». В простенке – овальное зеркало. Зыков поднял голову и, прищурившись, долго смотрит на себя.
В горке, за стеклом, блестит хрусталь и серебро. Пьяные глаза гуляк блестят, косясь на горку. Круглые часы пробили два. Зыков мрачен. Он выпил всего лишь два стакана вина, поднялся, внушительно сказал Наперстку:
– Наточи топор, – и вышел в другую комнату, закрыв за собой дверь. Ему хотелось уснуть, забыться. Разделся и лег на диван, покрывшись лисьим своим кафтаном. Но сон не шел. Думы, как бегучая вода в камнях, плескались в голове, сменяя одна другую и переплетаясь. Вот бы кликнуть клич, набрать милльоны войска и завладеть, очистить всю страну. А большевики? Во что они веруют, за что идут? За народ? А вот ужо посмотрим… Друзья или враги?.. Еще отец…
«Отец, неужели и ты враг мне?»
Вот Зыкова призвали сюда. Надо начинать большое дело. А с чего начинать? И как укрепиться? Известно, страхом, кровью. А дальше? Где такие еще есть, Зыковы? Эй, вы, старатели!.. Подходи сюда, соединяйся!
Нет, надо спать, спать.
Но там шумят, ругаются. Громче всех орет Наперсток. А в окно бьет своим светом луна.
Череп и все скуластое лицо Федора Петровича под луной, как у покойника. Он еще не раздевался и не зажигал огня. Сидит у окна, нещадно курит. За окном луна и тишь.
– Федя, – в третий раз спускается по внутренней лестнице матушка.
– Ах, это слишком, – раздражается Федор Петрович. – Пожалуйста, прошу вас подняться вверх.