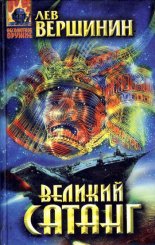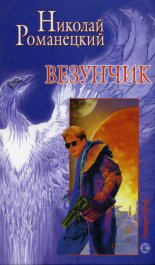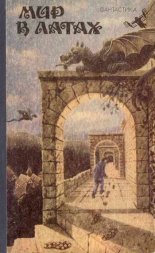Гадание при свечах Берсенева Анна
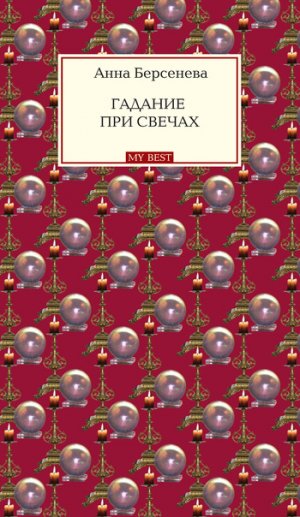
– Вот что, милые предки, – сказал он однажды вечером, когда мама разливала чай, а отец делал вид, будто полностью погружен в чтение «Известий». – Я должен уехать. Может быть, ненадолго, – добавил он успокаивающе, заметив, как замерла мамина рука, держащая заварник.
– Куда же, позволь узнать? – спросил отец. – В кругосветное путешествие?
– Нет, – усмехнулся Женя. – Кругосветное путешествие мне не по карману. Так что пришлось найти что-нибудь попроще. Я уезжаю в Спасское-Лутовиново.
– Та-ак… – протянул отец. – Что ж, тоже очень романтично.
– Да плевать мне на то, как это выглядит! – взорвался Женя. – Я все понимаю – выглядит пошло: неудачная любовь, разбитое сердце и бегство в леса! Но что мне делать, если я не могу… Ну не могу я здесь сейчас оставаться, как вы не понимаете! Пусть пошло, пусть бегство…
– Ну почему же не понимаем, – вдруг спокойно возразила мама. – По-моему, Женечка, нас не стоит упрекать, будто мы чего-то не понимаем. В леса так в леса. Но, во-первых, почему в Спасское? А во-вторых – как же аспирантура?
– Во-вторых, я уже перевелся соискателем. Буду писать диссертацию сам по себе, приеду потом, сдам минимумы. А во-первых, ты помнишь Наташу Спешневу? Ну, она у нас на третьем курсе семинар вела, еще аспиранткой была тогда? Вот она и ездит в Спасское летом, подрабатывает экскурсоводом. Я ее недавно встретил – говорит, там сейчас как раз освободилось место научного сотрудника. Папа! – Женя повернулся к отцу. – Ты же знаешь, я тебя никогда не просил, но сейчас…
Отец был понятлив и на все готов ради сыновнего спокойствия – и уже через две недели Женя шел по расчищенной от снега дороге к тургеневскому дому…
Спасское-Лутовиново оказалось как раз тем местом, в котором он и должен был сейчас находиться. Это Женя понял сразу, едва вошел в тургеневский дом. Теперь, зимой, в отсутствие посетителей, он действительно был домом, созданным для творчества и душевной гармонии.
«Вот и все, – подумал Женя, осторожно проводя ладонью по темно-глубокой поверхности круглого столика в библиотеке. – Только так и возможно жить: чисто, ясно и покойно, и так я буду теперь жить…»
Глава 5
Марина работала на фельдшерско-акушерском пункте деревни Петровское всего две недели, а количество людей, приходящих на прием, увеличилось так, словно по окрестным деревням прошла эпидемия.
Приходили старухи, у которых ломило поясницу, и беременные, у которых «что-то вот тут вот колет по утрам», и молодые девушки с собственным диагнозом – «точно, что сглазили, и рука отнимается, и парень бросил»…
Марина не знала, отчего пошла о ней слава, как о какой-то особенной медсестре, к которой есть смысл обращаться по всякому поводу, – но она и не слишком об этом задумывалась.
Все время, что не было занято у нее работой, она думала только о Жене. С той самой ночи, когда, насквозь промокшая, в тяжелом дождевике, с которого ручьями лилась дождевая вода, она поднялась по ступенькам веранды и постучалась в его дверь.
За дверью было тихо, но Марина видела, как спит он, раскинувшись на широкой кровати, как вздрагивают во сне его полураскрытые губы. Она ждала, когда он проснется, когда услышит ее зов – и даже не постучала еще раз, чтобы не мешать ему услышать…
Женя распахнул дверь, не спросив, кто там. Он был без рубашки, одной рукой застегивал джинсы и, щурясь, всматривался в темную фигуру на веранде.
– Это ты! – тихо воскликнул он. – Марина, это ты!..
Он шагнул ей навстречу и тут же обнял ее. Сквозь мокрый дождевик, сквозь собственное влажное платье Марина почувствовала, как затрепетало его тело, словно между их телами не было всех этих случайных преград.
Она откинула капюшон, чтобы яснее видеть Женино лицо в предрассветном полумраке, и он тут же поцеловал ее – второпях, в краешек губ. Он не произнес больше ни слова после первого своего тихого вскрика, и Марина тоже молчала, прижимаясь к нему, замерев у его сердца и забыв обо всем.
Она не заметила, как они оказались в комнате. Кажется, Женя так и не выпускал ее из объятий, но уже через несколько минут она стояла босиком на домотканом коврике, мокрый дождевик лежал на полу, а Женя торопливо расстегивал длинную «молнию» сзади на ее платье – то ли желая освободить ее от холода промокшей одежды, то ли торопясь обнажить ее тело.
Платье сползло наконец вниз – и тут же Женины губы прикоснулись к холодной Марининой коже.
В нем было много того юношеского трепета, который с ума сводит женщин постарше, способных оценить искренность и чистоту порыва. Но Марина не знала этого, не могла знать: Жена был у нее первым, и она просто чувствовала, что трепет его тела пронзает ее, заставляет трепетать в ответ и стремиться к нему, к нему – неостановимо…
Он соскучился по женскому телу, по наслаждению близости – но и этого Марина не знала: все было у нее впервые, и значит, впервые в мире совершалось таинство любви, таинство соития.
Будь у нее побольше опыта, она поняла бы, что Женины ласки не только трепетны, но и торопливы, что он еле удерживается от того, чтобы не быть с нею грубым.
Она же чувствовала только, как он прикасается губами к ее груди, языком ласкает соски, как его руки сжимают ее бедра и дрожат его ладони, сходясь между ее ног, пытаясь их раздвинуть…
Они лежали теперь на кровати, на еще не остывшей после Жениного одинокого сна постели. Тяжело дыша, чуть постанывая, Женя прижимался ногами, животом к Марининому обнаженному телу и просил ее:
– Милая, ну милая, ну Мариночка, ноги раздвинь немножко…
Марина едва не плакала, слыша его страстный шепот. Она не знала, что с ней происходит, отчего вдруг охватило ее оцепенение. Ноги ее точно судорогой свело, она чувствовала, какими острыми стали плечи. Ей казалось, что к ней неприятно прикасаться сейчас, как к ледышке. С трудом, словно преодолевая какое-то незримое сопротивление, она раздвинула ноги – и тут же почувствовала, как Женя, слабо вскрикнув, проник в открывшуюся вздрагивающую глубину…
Она не чувствовала, что происходит с нею, но чувствовала, как хорошо стало ему, как его нетерпение сменилось наслаждением.
Хриплые, бессвязные слова вырывались из его губ, но слова были неважны сейчас, а важно было только то, что он любил ее. И если твердой его плоти хотелось быть там, между Марининых ног, то это должно было быть так…
– Мариночка, я не могу больше, я так быстро… Но я не могу, я уже все, Мариночка…
Она не знала, быстро все произошло или медленно, но и это было неважно для нее: она чувствовала, как ему хорошо в ней, как торопливыми толчками выходит из него напряжение…
Все тело его выгнулось – и тут же забилось, точно в судорогах. Она даже испугалась: он стонал и дергался так, словно ему было больно, и до боли сжимал ее грудь. Но это длилось лишь несколько мгновений. Потом его движения стали спокойнее, и глаза его, которые она все время видела, несмотря на полумрак, приоткрылись, прояснели.
Женя замер, изредка вздрагивая, и приподнялся, вглядываясь в ее лицо.
– Милая, ты прости меня… – произнес он, и голос у него больше не был хриплым: тихая ласка слышалась в его голосе. – Все так быстро получилось… Я открыл – ты стоишь на пороге. А я все время о тебе думал, ты мне снилась – и вдруг… Я не мог ни секунды больше ждать, я даже сказать ничего не смог толком…
Марина вслушивалась в его шепот, в чудесный его голос и чувствовала, что даже ответить не может ему. Ей так много хотелось ему сказать – так много, что она могла только молчать…
Осторожно высвободившись из нее, Женя лег рядом. Потом повернулся к Марине.
– Мы с тобой так странно расстались, – сказал он уже спокойным голосом. – Правда, мы и встретились странно… Я хотел тебя искать, но ведь ты даже фамилию свою не сказала, и я мог только ждать. А иногда – ты знаешь? – мне и не верилось, что все это было на самом деле: ты лежишь на дорожке, потом идешь рядом со мной, волосы у тебя мокрые… Это все правда было, Марина?
– Правда, – Марина наконец смогла ему ответить. – А я все время знала, что мы скоро встретимся. Я вот только не понимаю: почему не приехала к тебе сразу?
– Но ведь приехала все-таки, – улыбнулся Женя. – К чему теперь говорить о том, что было? Ты здесь – сегодня ты здесь…
– Я не уеду больше от тебя, – сказала Марина. – Я не могу больше без тебя…
Ей показалось, что он вздрогнул после этих слов, и она заглянула ему в глаза.
– Ты не хочешь? – спросила она.
– Я не знаю… Это слишком… неожиданно.
Марина расслышала легкий отзвук испуга в его голосе, но это было так понятно! Ночь, дождь, вдруг появляется какая-то девушка, которую он и знал-то всего несколько часов, и заявляет, что останется навсегда.
Но после того как судьба так властно бросила ее в его объятия, так неотменимо свела их жизни, – после этого невозможно было делать вид, будто ничего не произошло и завтра жизнь пойдет по проторенной дорожке.
– Не бойся, не бойся, Женечка… – Марина провела пальцем по Жениным губам, по шее, коснулась впадинки между выступами ключиц. – Я тебе не надоем, это просто невозможно…
Марина не обманула Женю, сказав, что не надоест ему. Как она могла бы ему надоесть, когда она догадывалась о его желаниях прежде, чем он успевал высказать их вслух?
В то, первое, утро ему пришлось уйти рано.
– Я же не знал, Мариночка, – сказал Женя извиняющимся тоном. – Я хотел этого, теперь я понимаю, что хотел этого с самого начала… Но я же не знал, что ты появишься именно в этот день, и у меня много экскурсий на сегодня…
– Женя, ну что ты говоришь? – расстроилась Марина. – Зачем ты оправдываешься и в чем? Думаешь, я появилась, чтобы мешать тебе жить?
Оставшись одна, Марина впервые оглядела комнату, в которую зашла сегодня ночью с веранды.
Впрочем, смотреть здесь было особенно не на что. Обычная комната в чистом деревенском доме, похожая на ту, которую сама она снимала в Орле. Высокая кровать с блестящими металлическими спинками, большой платяной шкаф, герань на окнах… В этой комнате Женя спал, а в смежной, наверное, работал: сквозь открытую дверь виднелся старомодный сервант, письменный стол у окна.
Марина встала, набросила на плечи влажную, сбитую за ночь простыню. И тут только, прикрывая свою наготу, вспомнила: да что ж это было со мной ночью, отчего я была так холодна, когда единственный, первый мужчина сгорал от страсти?
Марина подошла к шкафу, открыла его и посмотрела в высокое зеркало на внутренней стороне дверцы. Нет, ничего по-женски заманчивого! Ну что это за фигура – полусформировавшаяся, как у подростка! Она и раньше, бывало, рассматривала себя в зеркало, но раньше – совсем по-другому. А теперь Марина пыталась понять, насколько привлекательна она для Жени, и ничего утешительного сказать себе не могла.
Привлекательны ли эти, слишком худые, бедра? А грудь – не грудь, а бугорки какие-то? И плечи эти, с их остротой и белизной, и слишком маленький островок волос между ног…
Марина вдруг вспомнила, как Саша Сташук когда-то сказал, что она холодная, как ледышка, – вспомнила и ужаснулась. Ведь и сама она почувствовала это сегодня ночью в Жениных объятиях! И отчего эта холодность, и что с нею делать?
Едва не плача, смотрела Марина на свое тело, ненавидя даже его жемчужную белизну, оттененную рыжими волосами.
Она и представить себе не могла, как пленительна ее хрупкая красота, как много обещают непроявленные, робкие изгибы ее тела. Чтобы понять это, нужен был взгляд женщины искушенной, знающей мужские пристрастия. А что могла понимать в этом Марина, над которой только недавно разомкнулся очарованный круг?..
Она достала из шкафа Женину клетчатую рубашку, джинсы. Все это было ей великовато, но ее собственная одежда еще не высохла и выбирать не приходилось. Потом Марина застелила постель, прислушиваясь, как хозяйка громко созывает кур во дворе, с другой стороны дома.
Так началась их жизнь в Спасском-Лутовинове. Так, подобно яркому осеннему цветку, зацвела их любовь.
На следующий день Марина поехала в Орел за вещами. Женя вызвался было ей помочь, но она отказалась: не хотелось, чтобы он присутствовал при всех этих хлопотах, когда она будет договариваться насчет машины, увольняться с работы. Он был удивительный, она надышаться на него не могла – и зачем ему все это?
Поэтому, как ни жаль было расставаться даже на день, Марина поехала в Орел одна.
– Как я скучал по тебе! – встретил ее Женя. – Едва дверь за тобой закрылась…
Чемоданы и узлы стояли у порога, тускло поблескивало старинное зеркало, а Марина и Женя целовались, забыв обо всем, не видя, как сплелись и слились их руки и тела в глядящей на них зеркальной глубине.
У Жени на неделю набралось отгулов, и он взял их все сразу, чтобы как можно больше быть с Мариной. Хозяйке Клавдии Даниловне он представил Марину как свою невесту, и та одобрительно кивнула:
– И то, Женечка, правильно! Дело молодое, чего ж одному-то горевать? Обустраивайтесь, детки, кого вам стесняться!
Женщины вообще чувствовали к Марине мгновенное расположение, это и на ФАПе сразу стало так. Но фельдшерско-акушерский пункт – это было потом, а первые две недели Марина не думала ни о чем, кроме Жениной любви; весь белый свет растворился в его страсти.
Сначала она панически боялась, что холодность первой ночи повторится. Но уже в тот день, когда она перевезла вещи, Марина к радости своей поняла, что опасения ее были напрасны.
Какая там холодность! Они с Женей чуть не разбили зеркало, прислоненное к стене, потому что просто не дошли до кровати в день ее приезда… Марина сама расстегнула его брюки, сама разделась и раздела его, видя, какое удовольствие доставляют ему движения ее рук, снимающих то его рубашку, то свой лифчик.
– Как же ты чувствуешь все… – прошептал Женя, когда Марина поцеловала его сосок и призывно прижалась грудью к его груди.
Она всегда чувствовала все, что совершалось в мире, но то, как она чувствовала Женю, было совсем иное… Что значил перед этим целый мир!
Всю эту удивительную неделю они остыть не могли от испепеляющей тяги друг к другу.
– Бывает же в жизни награда за все… – повторял Женя, отдыхая рядом с Мариной от любовной истомы.
Она не понимала, что значат эти слова, но понимала, что он рад ей, что он тянется к ней и не может оторваться от нее ни на мгновение.
А сама она словно вознаграждала себя за те годы, что прошли в одиночестве, в холодности собственной защищенности. Теперь же ей казалось, что она живет совсем без кожи: так остро, до боли, чувствовала она каждое прикосновение Жениных рук и каждое его движение…
Ночами, даже не одеваясь, они выходили на веранду. Никто не мог увидеть их здесь, хозяйкин вход был с другой стороны, а вдоль забора росли густые кусты малины. Женя садился на ступеньки, ведущие в сад, закуривал, а Марина обнимала его сзади, прижимаясь бедрами к его плечам и ожидая, когда он почувствует прилив желания и отбросит сигарету.
Они почти не разговаривали в эти дни и ночи, понимая друг друга без слов. И только в последний «отгульный» день, ближе к вечеру, они вышли наконец из дому, решив прогуляться немного по окрестностям.
День был тихий, осенний и безветренный, и им хорошо было идти вдвоем по дороге в полях. Сначала они молчали – просто потому, что уже привыкли молчать вдвоем. Марина прислушивалась в такие мгновения к биению Жениного сердца, которое даже в отдалении слышала отчетливее, чем собственное.
– Правда, хорошо здесь, Машенька? – спросил наконец Женя.
Это он однажды ночью так ее назвал – Машенькой, а потом стал называть так все время, и у нее сердце замирало, когда он произносил это имя. Это было не ее имя, но это было имя ее матери. В том, что Женя вдруг назвал ее именно так, таилось чудо их встречи и чудо перемен, произошедших с нею.
– Правда. Здесь ничего нам не мешает, – кивнула Марина, беря его под руку.
– Нет, не только. Эти места лечат душу, ты чувствуешь?
– Твою душу надо лечить?
Марина внимательно посмотрела на него; Женя отвел глаза.
– Нет, я просто так сказал… Я здесь полгода всего, а полюбил эти места. Машенька, – вдруг сказал он, – а ведь я совсем ничего о тебе не знаю.
– Что ты хочешь знать? – улыбнулась она.
– Да хоть что-нибудь. Ты сама из Орла?
– Нет, – покачала головой Марина. – Я в Карелии родилась, в поселке Калевала.
– В Карелии? – Женя посмотрел на нее удивленно. – Странное перемещение… Как же тебя в Орел занесло?
– Так получилось. Я врачом хотела быть, но… Просто не успела к институту подготовиться, не поступила бы. Пересмотрела справочник, нашла Орловское медучилище. А мне все равно было куда, лишь бы подальше. Поехала, поступила, закончила. Я училась хорошо, а в Карелию возвращаться смысла не было, я и осталась в Орле. Медсестрой в кардиологии.
Она говорила спокойно, стараясь не будоражить печальных воспоминаний: ей просто не хотелось сейчас нарушать покой своей любви. Но, наверное, Женя почувствовал недоговоренность того, что она рассказала.
– А родители твои? Они в Карелии остались?
– Нет, – покачала головой Марина.
– А где?
– Их нет. Они умерли.
Женя растерянно замолчал. Родители, дом – все, что надежной стеной стоит за спиной любого человека, – казалось ему незыблемым. И вот перед ним стоит девушка, в жизни которой всего этого нет. И как разговаривать с ней?
– А бабушка, дедушка – ну, хоть какие-нибудь родственники?
– Бабушка тоже умерла, а других родственников просто не было. То есть они были и сейчас есть, наверное, но далеко – все равно что нет, и они обо мне даже не знают.
Эти слова ничего не прояснили, наоборот – добавили Жене растерянности.
– Это… давно произошло? – осторожно спросил он.
– Не очень. Папа шесть лет как умер, бабушка – через год после него. А мама – давно, я ее вообще не знаю. Она умерла, когда я родилась.
Все это было так необычно, так загадочно и трагично, что Женя молчал, не зная, что тут сказать. Марина остановилась, и он остановился тоже. Она смотрела на него, и Женю вдруг охватил испуг, когда он вгляделся в ее переливчатые глаза…
– Женечка, тебе не надо этого бояться, – сказала Марина, и Женя вздрогнул оттого, что она прочитала его мысли. – Я совсем не такая уж… беспомощная. Тебе не придется меня защищать.
– Защищать? – он посмотрел на нее удивленно. – Но я не знаю… Я не думал об этом… От кого же защищать?
– Ни от кого, – улыбнулась она. – От жизни. Меня не надо защищать от жизни.
Это был какой-то странный разговор, и Женя обрадовался, когда Марина сама прекратила его.
– Смотри, как рано звезда поднялась! – сказала она, указывая на открытую линию горизонта, которой уже коснулось золотым краем солнце.
За разговором они не заметили, что идут уже довольно долго; вечер застал их посреди просторного поля.
– «Звезда дрожит в огнях заката, любви прекрасная звезда, а на душе легко и свято, легко, как в детские года», – произнес Женя, глядя на далекое пылающее небо.
– Это Тургенева стихи? – спросила Марина.
– Да, – Женя посмотрел на нее с легким удивлением. – Ты их знаешь?
– Эти – нет, просто догадалась. Другие знаю – лучше, чем эти. Тютчева.
– Ну-ка, ну-ка, – заинтересовался он, поняв, о каких стихах она говорит. – «Прощальный свет любви последней, зари вечерней», что ли? А эти, что я прочитал, чем плохи, скажи мне!
– Они слишком про любовь, в них все высказано – и зачем тогда стихи, если кроме слов ничего не остается?
– Вот это да! – восхитился Женя. – У вас в кардиологии все медсестры такие?
– У нас не хватало персонала, – засмеялась Марина. – Поэтому я одна такая.
Они развели костер неподалеку от оврага, заросшего орешником и калиной, и сели у огня, друг напротив друга. Марина смотрела на пламя, а Женя – на его отблески в Марининых глазах.
Глава 6
Ничего им не мешало в Спасском, в этом Марина оказалась права. Наверное, поэтому каждый день их здешней жизни растягивался, удлинялся – и уже через месяц и Марине, и Жене казалось, что они живут здесь вдвоем давным-давно.
Марина проводила на своем ФАПе не слишком много времени, только пока Женя был в музее. Если бы что-нибудь случилось, все знали, где найти новую медсестричку. А следить за трудовой дисциплиной было просто некому: районное начальство и так было до смерти радо, что нашлась медсестра на давно закрытый пункт в Петровском.
Она не знала, нравится ли ей заниматься хозяйством – занималась, и все, без лишних эмоций. Ей даже непонятно было, как это женщины моют посуду и представляют, что делают это для любимого. Она думала о Жене всегда, это было так с самого начала, а посуду она мыла просто так. Чтобы чистая была.
Ей нравилось слушать его рассказы о детстве, о Москве и университете, но она всегда знала, что он не рассказывает ей всего.
– Ты… Женя, ты любил кого-то – несчастливо любил? – наконец спросила она однажды.
Женя сжал свои пальцы так, что хрустнули суставы.
– Почему ты решила, Маша? – спросил он, помолчав.
– Не надо об этом говорить, если ты не хочешь, – ответила она. – Я это знаю, и мне не нужны подробности. Я не хочу тебя торопить. Но ты не бойся, милый мой, вся боль сама собою пройдет, и очень скоро.
– Откуда ты знаешь? – Женя смотрел на нее недоверчиво и даже слегка испуганно; впрочем, он все чаще смотрел на нее так.
– Почему же мне не знать? – пожала плечами Марина. – Я же люблю тебя…
Она не хотела говорить с ним о том, что трудно было бы ему объяснить.
– И все-таки это странно, – настаивал он. – Скажи, Маша, отчего ты так думаешь? Понимаешь, я не хотел бы, чтобы в моем поведении проскальзывало что-то… неадекватное тому, что есть на самом деле.
– Не волнуйся, Женечка, ничего не проскальзывает… – начала было Марина.
Но тут кто-то постучал в окно, и она с удовольствием оборвала разговор – встала и, приблизив лицо к стеклу, вгляделась в тьму октябрьского вечера.
– Наталья Андреевна пришла, – сказала она, обернувшись к Жене.
– Наташа! – обрадованно воскликнул он. – Да ведь она уехала уже.
– Значит, приехала.
Она вовсе не обрадовалась, разглядев в темноте изящный силуэт Натальи Андреевны. И не удивилась тому, что обрадовался Женя. Наталья Андреевна заходила к ним и раньше «на чаек и поболтушки», и Марина прекрасно видела, как меняется Женино лицо при виде этой женщины. Чему же ей было радоваться?
– Привет, ребята! – весело сказала Наталья Андреевна, являя свою стройную фигуру в проеме двери. – Как рада вас обоих видеть, Женечка, дружок!
«Особенно меня», – подумала Марина.
– Заходи, Наташа, – сказал Женя, помогая ей снять плащ. – А я уже, признаться, думал, что до следующего лета тебя не увижу. Или до Москвы…
– Ах, милый Женечка, если бы я стала дожидаться, когда ты появишься в Москве, мы бы с тобой никогда не увиделись, пожалуй. – Наталья Андреевна улыбнулась своей обольстительной улыбкой. – Ты и раньше предпочитал тургеневское уединение, а уж теперь, когда твоя очаровательная Машенька делит его с тобой…
– Ну почему, – смутился Женя. – Мне скоро французский минимум сдавать.
– Разве что поэтому. И то я не уверена, что ты позвонил бы мне. Я ведь, можно сказать, Женина преподавательница, – сказала она, поворачиваясь к Марине; на лице ее играла все та же милая улыбка, но глаза скользнули по Марининой фигуре оценивающе и холодно. – И он до сих пор меня стесняется, как будто я могу ему двойку поставить!
– Это ты, положим, преувеличиваешь, – заметил Женя. – Садись, Наташа, чай будешь?
– А я вам вина привезла, – сообщила Наталья Андреевна. – Не надоела еще портвушка наша деревенская? «Бордо», между прочим. Толик Гуськович прямо из Парижа привез, в подарок любимой учительнице. Это Женин однокурсник, – пояснила она, снова специально для Марины. – Он решил, что лучше заниматься не русской литературой, а бизнес-переводом – перспективнее. Бог его знает, кто из нас всех прав – но вот Толик теперь возит мне подарки из Парижа…
«Что же ты здесь сидишь, а не в Париже с Толиком?» – снова сердито подумала Марина.
– А приехала я по весьма прозаическому поводу, – точно отвечая на ее вопрос, сказала Наталья Андреевна. – Я ведь премию не получила за свой летний ударный труд, вот и пришлось лишний раз побеспокоиться. Сочетать приятное – видеть вас – с полезным.
Пока она щебетала, Женя поставил на стол стаканы, достал из буфета печенье. Марина сидела у стола и, не отрываясь, смотрела на Наталью Андреевну.
– А ты, Женечка, я смотрю, стал такой домовитый, – насмешливо заметила она. – Как положительно действует на тебя любовь!
– А я не сторонник домостроя, Наташа, ты же знаешь, – спокойно заметил Женя. – И мне нетрудно достать стаканы из буфета, зря ты иронизируешь.
– Что ты, какая ирония! Я тоже терпеть не могу вести хозяйство и мечтаю о муже, который меня от этой радости избавит.
Марина видела, с каким удовольствием Наталья Андреевна втыкает в нее эти острые шпильки. Но что она могла сказать и зачем? И она молча разглядывала новое платье Спешневой – точнее, не платье, а элегантный черный костюм с огромными белыми пуговицами и тонкими белыми кантами вокруг карманов. От Натальи пахло такими головокружительными духами, которых Марина и представить себе не могла. На ногах у нее были черные шнурованные ботиночки с неизменно тонкими каблучками.
Только совершенно наивный человек мог поверить, что в таком наряде отправляются в деревню, чтобы получить зарплату!
«Правда, она ведь и экскурсию тогда на каблуках вела», – вспомнила Марина.
Наталья Андреевна принялась рассказывать о каких-то общих знакомых – кажется, о Жениных однокурсниках. Какая-то Леночка как была занудой, так и осталась: преподает литературу в школе. А Витя Черепанов ушел в бизнес, но погорел и даже, говорят, скрывался от мафии.
– А про мадемуазель Ясеневу, между прочим, рассказывали какие-то невообразимые истории. Что-то душераздирающее! Будто бы она жила с каким-то генералом-афганцем, у которого кроме нее было еще две семьи, будто бы он ее чуть ли не бил, а она страдала, но ни за что не хотела его оставить. В общем, что-то бредовое, – хохотнула Наталья Андреевна. – Но Алина всегда была сумасшедшая, это же все знали. А почему ты не спросишь, Женечка, чем кончились ее любовные страдания? – добавила она, бросив на Женю быстрый взгляд.
– Потому что мне это неинтересно, – сказал он.
Марина вздрогнула, услышав, как звучит его голос. Значит, Алина Ясенева…
– Да? – усмехнулась Наталья Андреевна. – Очень жаль. А то бы я тебе рассказала, что генерал в конце концов сам ее бросил, попросту товарищу подарил, будучи подшофе. И она жила потом с товарищем, потому что, видите ли, считала, что так надо для ее неверного возлюбленного…
– Перестань, Наташа, – оборвал ее Женя. – Зачем ты мне все это рассказываешь?
Голос его прозвучал глухо. Он стоял у окна, отвернувшись, и только белые костяшки пальцев, вцепившихся в подоконник, выдавали то, что он чувствовал в эти минуты.
– А почему бы и нет? – мило удивилась она. – Я думала, тебе небезразлично, как устроили свою жизнь однокурсники. Особенно те, кто, в отличие от меня, подчинил свою судьбу страстям…
«Ладно – мне, – думала Марина. – Но ему-то она зачем делает больно?»
И как только она поняла, что Наталья Андреевна сознательно и безжалостно причиняет Жене боль, – словно что-то лопнуло у нее в груди. Марина знала этот неслышный треск ломающейся преграды – знала и боялась его.
Она вдруг вспомнила, как давным-давно, больше десяти лет назад, услышала его в себе и как страшно обернулась та сила нацеленного желания, которую она позволила себе отпустить…
– Я совсем забыла, Женя, – сказала она, вставая. – Мне же на работу надо.
Он ничего не ответил, не попытался ее удержать. Он по-прежнему, не оборачиваясь, стоял у окна, прижавшись лбом к стеклу.
– На работу? – притворно удивилась Наталья Андреевна, и глаза ее блеснули из-под длинной челки. – Какая же работа ночью?
– Мне больную надо навестить, – объяснила Марина. – Больную, сердечницу, я обещала.
– Ну конечно, конечно! – воскликнула Спешнева. – Как это благородно с твоей стороны – ночью оставить любимого человека ради незнакомой больной!
Но не за ироничный тон, не за нескрываемое презрение к себе и даже не из ревности ненавидела она сейчас красавицу Спешневу. За эти Женины побелевшие пальцы…
Проходя мимо Жени, она прикоснулась ладонью к его плечу и на мгновение остановилась рядом с ним. Пальцы ее вздрогнули, когда она держала руку на его плече, потом скользнули к милой впадинке между ключицами и замерли там.
Женя взглянул на нее – сначала удивленно, потом обрадованно; лицо его просветлело.
– Ты надолго, Машенька? – спросил он. – Проводить тебя?
– Нет, – покачала головой Марина. – Я скоро вернусь, но вы меня не ждите, пейте вино.
Когда она вернулась, Натальи Андреевны уже не было. Бутылка «Бордо» была открыта, но невыпитое вино краснело в стаканах.
– Ушла? – спросила Марина, снимая куртку.
– Да. – Женя смотрел на нее, стоя в углу комнаты, у кровати. – Она немного посидела после твоего ухода, а потом плохо себя почувствовала. Голова у нее заболела, что ли, побледнела так…
– Что же, в Москву она на ночь глядя поехала? – спокойно поинтересовалась Марина.
– Да нет, пошла в усадьбу ночевать. К Анне Гавриловне, экскурсоводше нашей. Сказала, утром поедет… Маша! – сказал он, помолчав и глядя, как Марина неторопливо надевает халат, стоя перед своим старым зеркалом. – Я же вижу, ты хочешь меня спросить о… О том, что она рассказывала!..
– Нет. – Марина обернулась к нему, и он видел теперь в зеркале россыпь золотящихся волос у нее на спине. – Зачем мне спрашивать об этом, Женя? Я же тебе сказала – это все пройдет. Уже почти прошло, разве нет?
– Наверное… – произнес он медленно и слегка растерянно. – Но как странно все это…
– Ничего странного, мой любимый, – тихо сказала Марина. – Ничего странного, давай лучше спать ляжем.
Она смотрела на него, и любовь переливалась в ее глазах, мгновенно меняя их неуловимый цвет. Халат она так и не застегнула, и, подняв на нее глаза, Женя сделал шаг ей навстречу…
Глава 7
Народу в этот день на прием пришло столько, что Марина устала к вечеру, как будто мешки таскала.
Правда, все было как обычно: жаловались на колики, понос, даже зубную боль. Ей пришлось доставать нагноившуюся занозу, делать прививку младенцу и вызывать «Скорую» из Мценска, чтобы отправить старика с подозрением на аппендицит. И когда наконец вошла последняя посетительница, Марина облегченно вздохнула.
– Ну, а у вас что? – спросила она маленькую полненькую женщину лет тридцати.
Впрочем, это и так было понятно – что. На лбу у женщины были наклеены пластырные ленты, лицо отекло так, что Марина не сразу ее и узнала.
– Что случилось, Галина? – повторила она.
Галина Трофимова, уборщица из местной администрации, как-то приводила к ней дочку, растянувшую ногу. И после того как девочка стала ходить, притащила в благодарность целое лукошко свежих яиц.
– Ой, Мариночка, мочи моей больше нет! – тонким голосом затянула Галина. – За что мне напасть такая, чтоб ей, стерве, сдохнуть!
– Галя, хватит выть! – прикрикнула Марина. – Дай-ка я посмотрю.
Она осторожно отмочила пластырь – и глазам ее открылся огромный фурункул на лбу у Галины. Фурункул был плотный, неназревший, она сразу поняла, что вскрывать его рано.
– Будешь на УВЧ ездить во Мценск, – сказала она. – Не созрел еще твой нарыв, придется потерпеть.
– Какой там нарыв! – снова запричитала Галина. – Нешто это простой нарыв? Нешто ты, Мариночка, не видишь, какой это нарыв?
Она зыркала на Марину заплывшими щелочками глаз, и та невольно отвела взгляд.
– Что я должна видеть? Фурункул, довольно большой…
– Да сучье вымя это, Марина, вроде ты не знаешь!