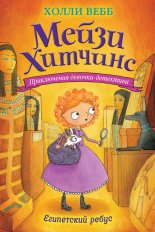Другое тело Павич Милорад
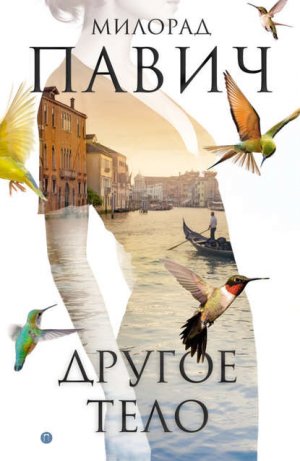
Жандармы вместе со священником торопливо спустились по ступенькам.
Когда все утихло и в гондоле вместе с покойным Себастьяном увезли и тело маэстро, Захария отвел Анну в комнату нижнего этажа, где она иногда ночевала. Прощаясь, сказал ей:
– Я знаю, кто убил гондольера и почему.
– Думаешь, из-за бокала? – к изумлению Захарии, спросила Анна. – Не знаю… не уверена. Бокал принадлежал Джеремии. Он купил его у Себастьяна и заплатил ему ровно столько, сколько тот потребовал, но Себастьян не отдал ему бокал и начал шантажировать, грозя отдать бокал кому-то другому, если Джеремия не добавит денег. И таким образом постоянно тянул деньги из маэстро. Тот был в отчаянии. Бокал был ему дороже любых денег. Он был бесценен и в то же время почти ничего не стоил.
Как и мой новый каменный перстень, подумал Захария и отправился к себе в комнату.
Уже в дверях он услышал за спиной голос Анны:
– Все это не важно. Единственная загадка – это почему и как умер Джеремия. Вот о чем стоит подумать сегодня вечером… Хотя сдается мне, я знаю, как умер мой маэстро.
Захария подошел к окну, которое из его шкафа смотрело на канал Чудес, и глянул на воду. Надвигалась непогода, ветер снова топил птиц в море, и Захария подумал о ветрах своей родины, ему даже удалось в воспоминаниях оживить их вкус и запах: снега и тоски… И показалось, что он слышит серебристый перезвон церковных колоколов, который запомнился ему с тех дней, когда он услышал его впервые, в Венгрии, проплывая по Дунаю мимо города Сентандреи. Колокола с колокольни церкви Святого иконописца Луки звонили все время, пока он верхом ехал по дороге в Будим, их звук таился в глубинах его памяти с тех пор и до сегодняшнего вечера… Очнувшись от воспоминаний, он сфокусировал рассеянный взгляд. На мрачных волнах канала Чудес ясно виднелся светлый квадрат, похожий на трепещущее на ветру знамя, – отражение освещенного окна комнаты Анны в нижнем этаже. Захария стоял неподвижно и смотрел. Его рот наполнился жидкостью, но это была не слюна, а что-то вроде горького пота. Когда свет в нижней комнате погас, он взял перо, обмакнул его в чернила и со свечой тихо вышел в коридор и неслышными шагами прошел в комнату маэстро. На столе нашел осколки разбитого бокала и переписал с их дна волшебный стих:
atto’tseuq ehc ero’uqnic ertlo uip rei
Потом собрал стеклянные осколки и выбросил их в канал. Вернулся к себе в постель, забыв погасить свечу. Погружаясь в сон, он почувствовал, что допустил какую-то ошибку. Такие озарения часто бывают в промежутке между явью и сном. И он понял. Но изменить что-нибудь было уже невозможно. Все, что осталось от бокала, покоилось на дне канала Чудес. Гондольер говорил ему, что стих нужно читать, не заглядывая в бокал, а иначе. Но как иначе? Он ломал себе голову, и вдруг его осенило. Может быть, он сумеет все исправить, хотя бокал безвозвратно утрачен. В его распоряжении есть записанный стих, о котором гондольер сказал, что читать его следует иначе, а это означает – глядя на внешнюю сторону бокала. Он встал и поднес клочок бумаги с переписанным со дна бокала стихом к зеркальцу на ручке своего колокольчика. Так буквы предстали перед ним в обратной последовательности. Прочитанные по-новому, они звучали так:
ier piu oltre cinqu’ore che questotta
Теперь слова что-то значили, они были итальянскими, но их смысл оставался Захарии непонятным.
Наутро Захария обнаружил, что в светильнике осталось еще много масла, и это означало, что ночью он не горел. Кто-то, кто не забывал ни о чем, что творится в зеленом доме, незаметно зашел в комнату к Захарии и вовремя задул фитиль.
4. Дьявольские трели
– Знаете ли вы, дорогой кир Сакариас, сколько на нашем белом свете имеется видов писателей? Не знаете? Разумеется, не знаете, ведь вы же и сами писатель. Poli kalo![3]Но я, слава Богу на небесах и святому Иоанну Хризостомо, не писатель, а издатель, и я знаю. Я не могу этого не знать. Два вида. Вы меня слышите? Всего два вида. Одни чувствуют вкус читателей и угождают ему, не заботясь о том, какими будут их книги. Вторые хотят изменить мир и литературу и делают это без оглядки на читательский вкус и интересы своего издателя. Ээ, наш дорогой господин консул Юлинац не таков, другая порода. Его обожает русский императорский двор, но поэтому к нему неблагосклонна венская цензура, дорогой мой господин. Знаете ли вы, что это значит? Не знаете? Это значит, что мы не получили разрешения на его книгу с трудным названием, в которой описана сербская история. Венская цензура не позволила печатать книгу Юлинца и потребовала изменить целый авторский лист, и вы, как корректор этой книги, естественно, знаете, какие страницы, почему и как следует изменить на основе замечаний цензора. И хорошо понимаете, что последует, если мы ослушаемся. Мы не сможем продавать эту книгу на австрийском рынке вашим соплеменникам, живущим в империи сербам. А кто ее в таком случае будет покупать? Никто. Из этого следует, что мы понесем убытки и не сумеем вернуть вложенные в издание собственные деньги. То есть мои деньги. Поэтому, дорогой кир Сакариас, изымите из книги Юлинца нужные страницы и переделайте их! Причем таким образом, чтобы довольными остались и цензор в Вене, и русский майор Юлинац в Неаполе, и, что самое главное, ваши земляки, наши читатели и, следовательно, наши покупатели!
– Но, кир Теодосий, если мы так сделаем, то и майор Юлинац, и все читатели от Вены до Триеста и Москвы увидят, что мы, здесь, в Венеции, включили в книгу целый авторский лист, переделанный цензурой! Что мы напечатали главу, которую Юлинац вовсе не писал! Долили в вино воду! А коль скоро именно я являюсь у вас корректором всех сербских книг, то сразу станет ясно, кто это сделал, все поймут, что я, Захария Стефанович, испортил книгу Юлинца, что я изменил ее! Подумайте, разумно ли это?