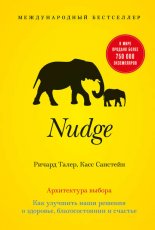Стратегия. Логика войны и мира Люттвак Эдвард
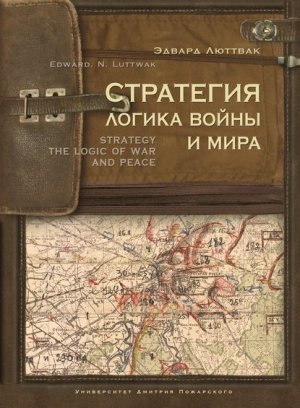
Но времени нет, слишком поздно. Передовые подразделения колонн глубокого проникновения уже зашли далеко за новую линию фронта и теперь захватывают центральные базы и склады, а также главные штабы, чьи офицеры, связные, служащие, повара и военные полицейские должны вступить в безнадежное сражение с атакующими боевыми колоннами танков и моторизованной пехоты.
В этой сумятице верховное командование обороны стремится восстановить контроль над ситуацией, опять перестроив свои войска на фронте: оно не видит никакой альтернативы очередному отступлению, чтобы образовать новую линию фронта еще глубже в тылу. Когда соответствующие приказы передаются по уцелевшим линиям коммуникации, некоторые фронтовые войска по-прежнему удерживают первоначальную линию фронта. Другие войска все еще находятся в процессе движения, скованные многочисленными пробками. Только те солдаты, что окапывались на новой линии фронта, могут действовать быстро. Теперь им опять приказывают отступить, чтобы образовать новый фронт. Возможно, у них еще есть энергия и решимость немедленно подчиниться; но даже те, чьи машины находятся в боевой готовности, не могут опередить вражеские колонны, которые обошли их некоторое время назад и теперь упорно катятся вперед.
Таким образом, весь мучительный процесс может повториться снова, до тех пор, пока очень малочисленная боевая сила не останется среди массы все более дезорганизованных и деморализованных войск обороны, разметанных по всей карте, оторванных от своих подразделений поддержки, отрезанных от снабжения. Начинаются массовые сдачи в плен, как только на пути действительно встретится некоторое количество вражеских солдат. Либо капитуляция, либо дальнейшее отступление в континентальном масштабе, если у обороняющихся достаточно земли для того, чтобы ее терять, — вот единственные решения, к которым может прийти верховное командование. Все это произошло с поляками в 1939 году, с французами в 1940-м, с русскими в 1941-м, а затем с армией США в Корее в 1950 году, с египтянами в 1967-м и с южновьетнамцами в 1975 году.
Только теперь тактические составные части снова приходят в соответствие с оперативным целым, и это приведет к неожиданным результатам. До тех пор пока войска обороны не приведены в состояние хаоса и смятения, любой взгляд на ход сражений с тактического уровня по-прежнему вводит в заблуждение, поскольку ничто не исправило крайней уязвимости (на тактическом уровне) длинных и тонких глубоко проникших колонн нападения. Решающее материальное и психологическое воздействие их слаженного наступления становится очевидным лишь на оперативном уровне. При таком, более широком и полном взгляде на ход сражений мы видим, что уязвимость колонн глубокого проникновения является лишь теоретической, а усиливающийся паралич обороны — неизбежным.
Глядя назад, мы понимаем, что высшее командование фатально ошиблось, отдав приказ о самом первом отступлении вместо приказа об упорных контратаках против узких проходов в линии фронта. Если бы значительная часть войск удерживалась на некотором расстоянии от линии фронта именно с этой целью, бреши в линии можно было бы быстро залатать, и колонны глубокого проникновения были бы отрезаны от снабжения, что облегчило бы их поголовное уничтожение.
Но у высшего командования сил обороны никогда не было такого ясного взгляда на ход сражений с оперативного уровня. Ни вначале, ни некоторое время спустя оно не могло даже знать о том, что враг намеревается проникнуть так глубоко: его начальные атаки были неотличимы от обычной попытки вести наступление по всей линии фронта. Сообщения о больших и малых атаках приходили с каждого участка фронта, но, по мнению штабных офицеров, складывающаяся при этом ситуация была весьма обнадеживающей. Враг, по всей видимости, затеял общее наступление. Во многих местах его атаки были на удивление слабы и потерпели неудачу. Командиры подразделений бодро рапортовали о победах сил обороны на многих участках, по обыкновению давая слишком высокую оценку численности отраженных ими вражеских сил. Врагу удалось продвинуться вперед лишь в нескольких местах, образовав немногочисленные и узкие бреши в линии фронта. Конечно, следовало ожидать новых атак, потому что враг, несомненно, попытался бы продвинуться на более широком участке — в противном случае ему пришлось бы оттянуть назад эти немногочисленные атакующие силы, чьи фланги были так опасно открыты.
Вот каким образом прямолинейная ментальность определяет восприятие. Эти «на удивление слабые» атаки врага не были опознаны как уловки, единственная цель которых— отвлечь внимание от главных сил, стремящихся прорваться прямо через фронт. Поскольку метод ведения войны, свойственный высшему командованию обороны, заключается в том, чтобы защищать линию фронта войсками, распределенными по всей ее длине, командование предполагает, что враг тоже замышляет сражаться прямолинейно, чтобы отбросить назад весь фронт посредством широкого наступления.
Маневр глубокого проникновения использует эту прямолинейную ментальность, предоставляя факты, подтверждающее ошибочное восприятие. Лучшие атакующие войска, конечно же, скапливаются напротив немногих узких участков фронта, чтобы вести битву на прорыв, а колонны бронетехники располагаются за ними, дожидаясь начала своего наступления. Но, кроме того, есть еще войска, хотя бы и слабые, напротив каждого участка фронта, и всем им, даже если они способны лишь на совсем незначительные шаги, приказано инсценировать атаки, по меньшей мере открывать огонь, как будто они собираются атаковать.
Линейный оперативный метод был вбит в умы обороняющихся годами планирования и полевых учений. Он держится прочно. Поэтому, впервые услышав, что силы врага прорвали их фронт, обороняющиеся предполагают, что враг решил предпринять ограниченное наступление или всего лишь несколько рейдов. Если войска, осуществляющие эти рейды, не перехватят, им придется отступить обратно, на свою безопасную линию фронта, прежде чем у них закончатся припасы. А если это наступление по ограниченному фронту, его открытые фланги скоро предоставят прекрасную возможность для контратак. Именно так британское и французское высшее командование истолковало первоначальное проникновение немцев в Бельгию 10 мая 1940 года, пока не пришло верное понимание методов и целей блицкрига, гитлеровской разновидности войны методом глубокого проникновения. Но точно так же были проанализированы и первые танковые атаки северокорейцев в июне 1950 года, прежде чем стало понятно, что идет полномасштабное вторжение. Подобным же образом египетское высшее командование истолковало переход войск Ариэля Шарона через Суэцкий канал 15–16 октября 1973 года. Египтяне, сами успешно пересекшие канал большими силами и удерживавшие прочный фронт на восточной, или Синайской, стороне канала, отразив серию израильских контратак, полагали, что небольшое израильское подразделение каким-то образом просочилось на ту сторону канала через брешь в их линии фронта, которая скоро будет залатана. Они думали, что это был всего лишь рейд коммандос для поднятия боевого духа, и он скоро либо отступит обратно, либо будет перехвачен и уничтожен. Когда египтяне поняли, что израильтяне вводят значительные бронетанковые силы на запад от канала и намерены пройти за египетским фронтом на Синайской стороне, чтобы отрезать его от поддержки с тыла, было уже слишком поздно: израильтяне уже переправили через канал две бронетанковые дивизии, которые продвигались к югу и к западу; отрезав южную половину египетского фронта, они стали угрожать самому Каиру.
Прямолинейное мышление сохраняет свою власть даже в тех случаях, когда начинают приходить сообщения о значительных силах врага, обнаруженных глубоко за линией фронта. В конце концов, подобные сообщения не могут прийти от старших командиров фронтовых войск, все еще сосредоточенных на врагах, находящихся напротив их участка, большинство из которых до сих пор прочно стоит на месте. Обычно такие сообщения приходят от летчиков, вполне способных ошибочно принять свою транспортную колонну за вражескую бронетанковую дивизию, или же с контрольных постов военной полиции, от пришедших в ужас остатков дорожных конвоев и разбитых вспомогательных подразделений, от гражданской полиции, от деревенских старост и т. п. Идет война, нервы на пределе, и поступает огромное количество истерических сообщений: о вражеских парашютистах, высаживающихся там и сям, о вражеских танках, которые якобы видели не только далеко за линией фронта, но и вообще слишком далеко для того, чтобы они могли там быть.
В это время достоверная и своевременная информация становится самым мощным оружием — а вот ее-то как раз у обороняющихся оказывается очень мало. Спутниками-наблюдателями владеют пока лишь несколько стран; кроме того, они не слишком-то помогают текущей разведке в режиме прямого времени — разве если случится так, что спутник окажется над нужным местом, и данные будут проанализированы верно и достаточно быстро. У США лучшая спутниковая система наблюдения в мире, но она оказалась совершенно бесполезна 2 августа 1990 года, когда иракская армия быстро вторглась в Кувейт (если бы она вторгалась в Йемен, переход занял бы две недели, и вот тут спутник сослужил бы добрую службу). Фотографии воздушной разведки гораздо лучше подходят для своевременного предоставления информации, их гораздо легче верно истолковать, но они требуют разведывательных полетов, что, в свою очередь, предполагает базирование в пределах достижимости. Радиоэлектронная разведка, обычно представляющая собою самый полный и надежный источник информации, гораздо более пригодна для того, чтобы раскрыть общие возможности и намерения врага, нежели для того, чтобы следить за тактическими перемещениями, — особенно потому, что военные действия глубокого проникновения могут, примечательным образом, не являться предметом коммуникации.
Колонны наступают со всей возможной скоростью к подлежащим завоеванию целям, отмеченным на их картах; они кратко сообщают о своем продвижении, пользуясь кодом, чтобы сообщить о достижении таких-то населенных пунктов; но штабу в тылу вовсе не нужно отдавать дальнейшие приказы, если все идет хорошо. Командиры, возглавляющие каждую из колонн, на месте решают, атаковать ли сопротивляющиеся войска, перекрывшие им дорогу, или же обойти их стороной, продолжая быстрое наступление. Сообщения о продвижении сопоставляются по мере поступления, чтобы показать на карте все более глубокое проникновение — ключевой момент для того, чтобы предотвратить бомбардировки своих войск и сосредоточить их на подразделениях обороны, которые могут перекрыть дорогу колоннам или даже атаковать их открытые фланги. Таким образом, главному штабу нападающих не требуется много информации. Коммуникация происходит в основном односторонне, с фронта в тыл, в то время как с другой стороны, из тыла, команды колоннам поступают лишь в том случае, если их нужно перенаправить, избежать их схождения (и пробок на дорогах) либо, напротив, обеспечить схождение (для создания большей массы).
У обороняющихся совершенно иные потребности. Когда их командиры наконец понимают, что эти атаки — не просто рейды, не наступление на ограниченном фронте и не начальная стадия прямолинейного наступления по всему фронту, тогда своевременная и точная информация о передвижениях колонн глубокого проникновения обретает решающее значение. Если бы штабы обороны могли получить ясную картину разворачивающегося сражения на оперативном уровне, было бы совершенно очевидно, что следует предпринять. Во-первых, закрыть бреши в линии фронта решительными атаками с обеих сторон, используя массу фронтовых войск, до сих пор оставшихся нетронутыми. Во-вторых, приказать всем второстепенным и вспомогательным подразделениям, обладающим малой или вовсе незначительной ударной мощью и находящимся далеко от линии фронта, перекрыть дороги, где бы эти подразделения ни находились. Они непременно окажутся полезны: либо для того, чтобы замедлить продвижение наступающих колонн, либо для того, чтобы не давать им получать дополнительные подкрепления и припасы. В-третьих, приказать любому боевому формированию, все еще остающемуся в тылу, атаковать открытый фланг ближайшей вражеской колонны.
Однако к этому времени каналы коммуникации со штабом сил обороны перенасыщены массой поступающих сообщений. Многие из них были вполне точны, когда их отправляли, но устарели вследствие быстрого продвижения врага. Другие преувеличены, преуменьшены или попросту ошибочны. Третьи представляют собою порождения фантазии перепуганных людей (так, и во время гражданской войны в Испании, и в ходе вторжения во Францию в мае 1940 года сообщения о «пятой колонне», то есть о замаскированных врагах, поступали отовсюду). Разбирая всю эту информацию, чтобы попытаться определить, где находится враг, насколько быстро он продвигается и в каком направлении, командующие и их штабы утопают в огромном количестве поступающих сообщений — и, пока они пытаются разобраться в том, каково в действительности положение дел, дела вовсе не стоят на месте, потому что враг продолжает продвигаться вперед. Как отмечалось выше, современные технические средства разведки не слишком в этом помогают, равно как и современные телекоммуникации, если судить по опыту недавних войн. Как только начинается движение, тут же появляется информационный туман. В войне в Персидском заливе в 1991 году территория Ирака была сплошь охвачена всеми видами наблюдения, но обнаружить иракские мобильные ракеты «Скад» не удавалось — разве что случайно. В войне в Косове в 1999 году неподвижные цели можно было локализовать и атаковать с предельной точностью, но мобильные цели, например сербские подразделения бронетехники, оставались трудноуловимыми. В арабо-израильской войне 1973 года египетское высшее командование не сумело обнаружить весьма значительную израильскую боевую группировку, которая была гораздо ближе к Каиру, чем к Тель-Авиву[70].
В действительности происходит не что иное, как информационная гонка, предопределяющая исход гонки перегруппирования, которая обычно решает дело. С одной стороны, наступающие колонны глубокого проникновения уже в силу самого своего движения получают самые разнообразные сообщения. С другой стороны, штабы обороны стараются обрабатывать информацию достаточно быстро, чтобы получить достоверную, хотя и не вполне актуальную («в режиме реального времени») картину событий. Если оборона выигрывает эту гонку, если способность усваивать и анализировать информацию ей не отказывает, тогда у нее есть хороший шанс на полную победу: верно определив векторы движения вражеских колонн, даже самые скромные силы смогут добиться многого, потому что противник, в сущности, сильно уязвим на тактическом уровне. Но, если информационная битва проиграна, если взгляд на ситуацию на оперативном уровне остается слишком неясным и не позволяет правильно и в надлежащее время наметить контратаки, тогда даже сильные войска могут достичь лишь малого или вообще ничего. Вместо того чтобы ударить по вражеским флангам, дабы вынудить растянувшиеся по дороге колонны с трудом собраться для контратаки, войска обороны, даже обладая значительной ударной мощью, будут лишь изматывать себя в бесполезных передвижениях, пытаясь найти трудноуловимого врага и сами становясь жертвами засад. Если оборона проигрывает информационную гонку, вся ее обслуживающая структура в стороне от линии фронта будет сметена глубоко проникающим нападением, вследствие которого войска на фронте останутся без снабжения. Они еще могут пытаться вести бои, используя все свои ресурсы, но положение их безнадежно невыгодно.
Конечно, вплоть до этого этапа все еще остается возможность прямолинейного решения: силы обороны отводятся вглубь, чтобы восстановить прочный фронт. Правда, при этом значительная часть территории останется под контролем противника, но сопротивление может успешно продолжаться, если боевые силы на фронте способны выйти из боя, перегруппироваться в колонны и продвигаться быстрее противника, чтобы быстро передислоцироваться вместе с любыми свежими силами, дабы образовать совершено новый фронт. Естественно, при этом предполагается, что есть достаточно территории, которую можно уступить, не теряя ресурсов, необходимых для продолжения битвы. Ибо, чтобы добиться успеха, отступлению необходимо превзойти глубину единичного рывка противника, за пределом которого колонны его бронетехники должны остановиться, чтобы службы снабжения могли ее догнать, наладить машины и дать людям отдохнуть[71]. Исход зависит уже не столько от динамического взаимодействия враждующих сил на оперативном уровне, сколько от географической глубины театра войны — а для того, чтобы рассмотреть этот аспект войны, нам нужно подняться на следующий, более высокий уровень стратегии.
После только что предоставленной иллюстрации реляционного маневра мы готовы заново рассмотреть предложения о создании подразделений пехоты, вооруженной ПТУР, для борьбы с бронетанковыми войсками, которые выдвигались в годы «холодной войны», — на сей раз на оперативном уровне. Теперь мы знаем, что технически превосходная и тактически адекватная (не более того) оборона, построенная на противотанковых ракетах, должна быть эффективна и на оперативном уровне, если должна быть эффективна вообще. Также мы знаем, что столкновение бронетехники и противотанкового оружия уже нельзя рассматривать изолированно, но лишь в контексте всех типов войск с обеих сторон, которые могут взаимодействовать на всем поле боя. Это может быть артиллерия в ее различных разновидностях (минометы, гаубицы, пушки, ракеты заграждения, реактивные снаряды); пехота, удерживающая линию фронта, и высадившаяся из своих машин пехота атакующих; военные инженеры и их деятельность; вся авиация в той мере, в которой она оказывает воздействие на самом поле боя, вертолетные войска, а также выстроенные преграды и укрепления.
Кроме того, если мы рассматриваем не столь радикальное предложение, в котором дополнительный фронтовой слой пехоты с ПТУР прибавляется к бронетанковым и механизированным войскам обороны, а не заменяет их полностью, то их тоже следует учитывать — ибо они, конечно, останутся самой важной частью всей обороны в целом.
Теперь, пытаясь оценить эффект пехоты, вооруженной ПТУР, в контексте многостороннего взаимодействия на оперативном уровне, мы знаем, что бой между бронетанковым подразделением и подразделением ПТУР, рассматривавшийся на тактическом уровне, не может быть сам по себе окончательным. Это верно и по отношению к любой воздушной дуэли в рамках гораздо более масштабной борьбы за превосходство в воздухе и к любой «игре в прятки» между подводной лодкой и самолетами, эсминцами и подводными лодками противолодочных сил.
Ибо при более широком взгляде на оперативном уровне мы можем увидеть то, что оставалось незримым на тактическом: за этими первыми наступающими подразделениями танков и моторизованной пехоты стоят другие, еще более многочисленные. Они представляют собой хорошо подготовленную колонну, которая дожидается своего часа, чтобы с боем пробиться через линию фронта.
То, что мы узнали на тактическом уровне, по-прежнему правдиво, но значение этой правды преображается: бронированные машины, уничтожаемые ракетами, находятся там, в некотором смысле, именно для того, чтобы их уничтожали, пока они, в свою очередь, уничтожают или рассеивают ракетные расчеты либо просто истощают их запасы ракет. Иными словами, танки и БМП не только расходуют боеприпасы: они и сами суть боеприпасы, которые расходуются наступающей армией, чтобы проложить ей путь к дальнейшему наступлению. Конечно, атакующие потеряют скорее больше, чем меньше, прорываясь через линию фронта. Но на оперативном уровне тактический «обменный курс» между ракетными расчетами и бронированными машинами первой волны не так уж важен: важно лишь открытие прохода через позиции противника для основных сил, осуществляющих реляционный маневр. Успех или неудача последующего наступления с глубоким проникновением не будет зависеть от того, какой процент потерь — 5,10 или даже 50 — был при прорыве фронта: такова цена вступления в слабый тыл.
Оперативный метод каждой из сторон теперь становится решающим фактором. Как тактика нацелена на достижение максимальных успехов на тактическом уровне, так и оперативные методы стремятся к наибольшим успехам на оперативном уровне, но в обоих случаях предписания не могут быть абсолютными: все зависит от того, кто с кем воюет и в каких обстоятельствах. Выше обсуждался всего лишь один оперативный метод: маневр глубокого проникновения. Но, конечно, есть и ряд других; и, пока содержание военных действий не сводится целиком к войне на истощение, есть еще место также для военно-воздушных и военно-морских оперативных методов, равно как и тактики для обоих.
Например, в военных действиях в воздухе перехват и атака на аэродром — два различных оперативных метода, которые можно использовать, чтобы добиться превосходства, и каждый из них может быть дополнен множеством различных тактик. Равным образом при использовании ВВС против наземных войск могут применяться различные оперативные методы. Один из них — «перекрытие подступов к полю боя» (battlefield interdiction), то есть удары по наиболее концентрированным формированиям, еще не достигшим поля боя (где они рассеются и станут менее уязвимы для атаки). Другой — «прямая авиационная поддержка» (close air support), при которой авиация атакует подразделения прямо на поле боя, с расчетом на то, что потерю эффективности перевесит выигрыш во взаимодействии воздух/земля: если за ударами с воздуха непосредственно следуют наземные атаки, они могут застать врага еще парализованным шоком и внезапностью. Есть также различные оперативные методы бомбардировки: «ковровые бомбардировки» (area-bombing) Второй мировой войны, после 1945 года — в ядерной форме; точечная бомбардировка, о которой пойдет речь ниже; и «удары по тыловым объектам» (deep interdiction), нацеленные на наземные коммуникации, основная цель которых — перекрыть приток свежих сил и припасов к зоне боя. Схожим образом, если взять пример из военно-морского дела, защита судоходства от подводных лодок может осуществляться различными оперативными методами, включающими в себя использование минных полей, кораблей радиолокационного обнаружения, а также подводных лодок в засаде, чтобы не дать противнику добраться до важных морских путей; территориальная оборона (area defense), осуществляемая посредством активной охоты за подводными лодками силами дальней авиации и смешанными оперативными группами (task forces), состоящими из эсминцев, авианосцев и подводных лодок; и, наконец, защита конвоев посредством эскорта. В каждом из этих случаев разделительная черта между тактикой и оперативными методами вполне очевидна.
Возвращаясь к рассматриваемому нами примеру и к ключевой роли оперативных методов с обеих сторон, мы уже знаем, что атакующие стремятся добиться эффекта блицкрига[72], который заключается в следующем: разрушение всей системы поддержки обороны; вынужденная эвакуация передовых авиабаз и хранилищ ядерного оружия; внесение разлада в решения командования с целью побудить его к организации контратак в ложных направлениях (это главный момент); принуждение противника к неорганизованному отступлению. Что же касается обороны и избранных ею оперативных методов, нам теперь известно, что фронтальное истощение танковых частей противника, осуществляемое пехотой с ПТУР, не может достичь успеха против атаки колонн глубокого проникновения. Дело не в том, что износ представляет собою некую низшую форму ведения войны, а скорее в том, что его материальные потребности прямо пропорциональны его задаче. И в этом случае задача каждого подразделения обороны является невероятно сложной, потому что численность наступающих войск, густо сконцентрировавшихся на узких участках фронта, будет сильно превосходить численность войск обороны, распределенных по всей длине этого фронта.
Конечно, истощение — это вопрос арифметики, и оно может оказаться успешным, но лишь при наличии гораздо более изощренной оборонительной системы, чем простая линия пехоты, вооруженной ракетами. Во-первых, противотанковые заграждения (минные поля, противотанковые рвы-контрэскарпы, бетонные надолбы и т. п.), за которыми нужно подобающим образом наблюдать, чтобы не допустить прорыва, — все это потребуется для того, чтобы замедлить скорость подхода противника и, кроме того, удерживать численность прибывающих машин ниже боевых возможностей пехоты, вооруженной ПТУР. В известных пределах одно можно заменить другим: чем прочнее и надежнее заграждения, тем меньше уцелевших противотанковых расчетов потребуется для того, чтобы сдержать наступление врага. Такова функция успешных ударов, направленных как против инженерных машин, пытающихся разрушить заграждения, так и против танков и БМП, которые могут их преодолеть. Во-вторых, для достижения приемлемой пропорции взаимных потерь потребуются укрепленные огневые позиции, чтобы обеспечить высокий «обменный курс» между потерями ракетных расчетов и уничтоженными бронемашинами. Конечно, экономика такой укрепленной фронтальной обороны будет зависеть от длины фронта, который необходимо закрыть, а это уже вопрос не оперативного уровня — скорее, он относится к уровню стратегии театра военных действий. Как бы то ни было, без охраняемых заграждений и укреплений, гораздо более дорогостоящих, чем сами ракетные комплексы, у пехоты с ПТУР нет никакого шанса на успех. Таким образом, оказывается, что технически превосходящая противника и тактически адекватная пехота, вооруженная ракетными установками, неэффективна на оперативном уровне.
Если мы далее рассмотрим не столь радикальную версию этого предложения, которая высказывается в пользу добавления фронтального слоя пехоты с ПТУР к бронетанковым и механизированным войскам обороны, то увидим, что истощение противника будет иметь решающее значение. Отчасти это следует из суммы двух тактических эффектов. Во-первых, это задержка, навязываемая наступающим, которая сама по себе может быть весьма ценна, чтобы выиграть время для мобилизации, если противнику поначалу удалось достичь внезапности. Во-вторых, действительное истощение, которого можно добиться, поскольку если еще предстоят мобильные военные действия, снижение численности живой силы и техники врага уже будет влиять на исход дела. Но значение дополнительного фронтального ряда пехоты с ПТУР может оказаться гораздо большим, нежели сумма этих тактических частей. Очевидно, что, распознав основные векторы наступления противника, начиная от того места, где ему удается прорваться, и продолжая защищать все другие участки фронта, сильная передовая линия, укрепленная пехотой с ПТУР, способна дать мобильным силам обороны возможность быть еще эффективнее на оперативном уровне: они могут контратаковать фланги вторгающихся колонн, будучи сами защищены от атак с флангов незатронутыми участками фронта.
Конечно, это предполагает либо своевременную мобилизацию, либо фронтальную защиту, достаточно крепкую, позволяющую выиграть время, необходимое мобильным силам для того, чтобы собраться на своих базах, добраться до фронта и, развернувшись в надлежащий боевой порядок, предпринять контратаку. Если имеется одно из этих двух условий, тогда оборона налажена куда лучше, чем было бы при отсутствии фронтальной линии укрепленной пехоты с ПТУР. А полностью мобильная защита, если только она не обладает значительным численным превосходством, сначала была бы вынуждена защищать участок прорванного фронта, не располагая свободой для того, чтобы начать собственные контратаки. И если противнику удастся добиться внезапности, достигнувшим фронта бронетехнике и механизированным силам защиты придется столкнуться с ним лоб в лоб вместо того, чтобы получить возможность атаковать вражеские колонны с флангов.
Поэтому в случае менее радикального предложения технически превосходящая и тактически адекватная защита фронта силами пехоты с ПТУР, в конечном счете, оперативно действенна. Следующий вопрос, конечно, будет заключаться в том, насколько она действенна в сравнении с альтернативой — придать вместо пехоты с ПТУР побольше бронетанковых и моторизованных сил. Тогда это уже вопрос об оценке альтернативных вариантов, то есть о том объеме мобильной силы, которым жертвуют ради того, чтобы получить фронтовую линию пехоты, вооруженной ПТУР, с требуемыми заграждениями и силами, их охраняющими. Ответ будет зависеть частично от того, кем будет укомплектовано это формирование: немногочисленными регулярными солдатами, взятыми из мобильных сил, или же более многочисленными резервистами. Институциональные особенности, не имевшие никакого значения на техническом уровне и важные, как выяснилось, на тактическом уровне, на оперативном уровне оказываются решающими.
Поскольку пехота с ПТУР статична, есть лишь два оперативных метода ее использования: защита фронта ее собственными силами или же в сочетании с контратакующими мобильными войсками. Конечно, существуют и другие способы применения оснащенной противотанковыми ракетами пехоты, более подходящие, чем фронтальная защита, где такая пехота должна принять на себя еще не ослабленный наступательный порыв атакующих. Одна из возможностей, уже упоминавшихся выше, — «эластичная оборона» (elastic defense), способная серьезно противостоять продвижению врага лишь после того как он проникнет достаточно глубоко, чтобы его первоначальный порыв ослаб. Это, разумеется, требует соответственно глубокого отступления в строгом порядке — а также достаточно территории, которую можно потерять, не проиграв войну. Другая возможность — глубокая оборона (defense-in-depth), в форме многочисленных линий, призванных замедлить противника на каждой из них последовательно, либо в форме сильных «островов» сопротивления, призванных направлять каждое перемещение противника в заранее подготовленные огневые зоны, готовя тем самым контратаки.
Но эти варианты решений относятся не к оперативному уровню, поскольку действующие здесь факторы определяются не взаимодействием сил в бою, а, скорее, протяженностью, глубиной и характером театра войны, — а это уже следующий уровень стратегии. Кроме того, мы увидим, что как только предметом рассмотрения становится вопрос о сдаче территории по военным причинам, в силу также вступают и различные политические соображения.
Теперь уже должно быть ясно, что истощение и реляционный маневр присутствуют не только на войне, но и в подготовке к ней в мирное время — например, в исследованиях и разработке оружия. При подходе, ориентированном на истощение, цель состоит просто в том, чтобы улучшить оружие, получить все и всяческие технические преимущества, которые предлагает наука и которые можно развить с помощью доступных ресурсов и таланта. Здесь нет какой-либо особой тактической или оперативной направленности: речь лишь о тому чтобы разработать «лучшее» оружие» в смысле всех технически-эксплуатационных характеристик, которое только можно произвести за терпимую цену. Соответственно этому, вместо того чтобы совершенствовать существующее оружие или что-то к нему прибавлять, разрабатывается принципиально новое оборудование, дабы избежать ограничений, унаследованных от конструкции старого. Из-за этого, когда новое оружие наконец появится, чтобы заменить собою прежнее, потребуются также значительные и зачастую дорогостоящие изменения в порядке эксплуатации и в средствах обслуживания. Например, старые склады запасных частей больше не понадобятся, а новые еще нужно будет создать. Принципиально новое оборудование потребует также заново обучить как обслуживающий, так и эксплуатационный персонал, а это тоже может обойтись дорого.
Поэтому лишь очень серьезные преимущества в технических характеристиках могут оправдать приложенные усилия, что едва ли вероятно, если не будут достигнуты значительные инженерные успехи. А это, в свою очередь, не только повышает стоимость исследований и развития, но и требует многих лет для начального изучения и расчетов, создания модели, испытаний, новых расчетов, новых моделей и новых испытаний. Наконец, поскольку период «вынашивания» столь долог, лишь в силу случайности специфические характеристики нового оружия могут подходить для специфической конфигурации уязвимых мест противника или отвечать специфическим тактическим требованиям тех войск, которые будут это оружие применять. К тому времени, когда оно принимается на вооружение, прежние слабости врага вполне могут стать его сильными сторонами и наоборот, причем оперативные методы самих войск, для которых предназначено новое оружие, тоже могут измениться[73].
Напротив, при подходе, ориентированном на реляционный маневр, цель исследований и разработок заключается в обретении специфических возможностей, чтобы использовать столь же специфические уязвимые места врага. К тому же новшества должны подходить для тактических и оперативных методов, выработанных с той же целью. Это оборудование, чтобы быть полученным своевременно, пока предполагаемые слабые места противника все еще существуют, должно быть не полностью новым, а развиваться посредством обновления, модификации или пере комбинирования уже существующих подсистем, компонентов и частей. Само собой, это предполагает ограничения в конструкции, не позволяющие в полную силу эксплуатировать все возможности, которые теоретически предоставляет нынешнее состояние научно-технического прогресса. Это не может быть совершенно новым оборудованием, «последним словом техники» (state of the art), как говорят технологи. Кроме того, поскольку обновленные/усовершенствованные устройства вводятся в действие в относительно короткие сроки, совместимость общего обслуживания и обучения с прежним оборудованием является ключевым фактором, позволяющим избежать убийственных затрат на интеграцию — а это накладывает дополнительные ограничения на разработку конструкции. Иными словами, действительно важные технические достижения («прорывы») в данном случае куда менее вероятны. Но потери на техническом уровне могут оказаться гораздо меньше выигрыша на тактическом и оперативном уровнях. Так, например, совершенно новый танк М-1, разрабатывавшийся армией США с 1970-х годов (поначалу для войны на центральном фронте НАТО), был впервые применен в бою в 1991 году, причем не на гладких лугах Германии, а в Аравийской пустыне, и не в обороне от лавины советских танков, а в нападении на иракские войска, отступающие из Кувейта. Поскольку иракцы были сильно потрепаны обстрелами и деморализованы неделями бомбардировок, любые танки оказались бы столь же эффективны против них (французский Иностранный легион, например, успешно наступал на легких бронированных машинах). Таким образом, недостатки танка М-1 — высокий уровень потребления топлива газотурбинным двигателем и уязвимость отсека для боеприпасов, расположенного высоко в башне, — не имели ровно никакого значения, впрочем, как и его достоинства. Напротив, израильтяне в течение многих лет производили все новые и новые варианты своего танка «Меркава», каждый раз заменяя двигатель, чтобы повысить подвижность танка, и оставляя пушку и броню без изменений. Затем они заменили первоначальную пушку калибром 105 мм на более мощную, калибром 120 мм, оставив без изменений двигатель и броню; далее установили устройство телевизионного слежения при низком уровне освещенности против вертолетов (low-light TV tracking device), потом добавили броню для защиты от противотанковых ракет — и так далее. Всякий раз эти перемены, осложнялись необходимостью соответствия предшествующей конструкции. Но имелась и возможность давать быстрый ответ на новые угрозы, использовать новые удобные обстоятельства, усваивая уроки не только полевых учений и технических испытаний, но и реального боевого опыта.
То, что верно в отношении исследований и развития оружия, приложимо и к другим аспектам военной политики. Истощение предполагает независимое стремление к лучшему в самом общем смысле, будь то обучение вооруженных сил, строительство военных баз и их оснащение или же разработка оборудования. Напротив, при реляционном маневре «лучшие» решения приносятся в жертву, чтобы на первый план вышли возможности, использующие уязвимые места и ограниченность конкретных противников. Ни истощение, ни реляционный маневр никогда не выступают в чистом виде, но их соотношение обычно отражает взгляд нации на саму себя, а также общий подход к ведению войны.
Сосредоточившись на постепенном восхождении с одного уровня стратегии на другой, я оставил без внимания горизонтальное измерение — превратности действия и противодействия на каждом отдельном уровне. Это не просто некоторое ограничение реальности: это ее прямое искажение, поскольку вертикальное взаимодействие между различными уровнями оказывает влияние (и претерпевает воздействие) парадоксальной логики в пределах горизонтального измерения на каждом уровне, что и приводит к возникновению цепочки: успех, кульминация и упадок. Если, например, в бою появляется новое оружие, то в ответ на эту контрмеру противника на техническом уровне может быть дан ответ в виде тактического противодействия, которое, в свою очередь, вызывает ответ врага уже на оперативном уровне. Допустим, враг внедряет более совершенные противовоздушные ракеты, когда война уже началась, и у вас нет времени отвечать ему на том же, техническом уровне, разрабатывая электронные контрмеры, на которые уйдет несколько месяцев или даже лет. Единственная возможная реакция в этом случае — тактический ход: летать на самых малых высотах, ниже минимальной высоты действия этих ракет, и атаковать в первую очередь сами эти ракеты. У врага тоже нет времени на то, чтобы дать ответ на техническом уровне и разработать новые ракеты, способные поражать цели, летящие с большой скоростью на низкой высоте, а тактический ответ — добавить скорострельную зенитку к каждой ракетной установке — едва ли будет адекватным. Поэтому главный ответ противника может быть оперативным — изменить технологию противовоздушной обороны квадрата, заменив неподвижные ракетные установки подвижными, то есть часто перемещающимися с места на место. Частично они действительно будут мобильными — передвигаемыми с помощью самоходных машин, — но почти все стационарные противовоздушные ракетные установки можно переместить за одну ночь. Тогда, если только нельзя каким-либо образом добиться того, чтобы вся территория просматривалась средствами разведывательного наблюдения в реальном времени (это очень трудная задача, если противник хорошо умеет маскироваться и пользоваться своими радарами и радиостанциями), будет уже невозможно направлять истребители-бомбардировщики тщательно продуманными воздушными маршрутами, обходящими стороной все известные места дислокации ракетных установок.
В других случаях эта цепочка может выстраиваться иначе: первое действие может быть оперативным, ответ противника — тактическим, а дальнейшая реакция — технической. Вполне очевидно, что возможны бесконечные комбинации во взаимодействии вертикальных уровней и их горизонтальных измерений.
Даже в том случае, если наше вертикальное восхождение с одного уровня на другой далеко от совершенства и полноты, мы больше не можем рассматривать стратегию только в ее горизонтальном измерении, как волнующееся море, в котором волны и ответные волны парадоксальной логики взаимно уничтожают друг друга в постоянном стремлении к недостижимому равновесию. Не можем мы рассматривать стратегию и как многоэтажное здание, предполагая наличие своей, отдельной, правды на каждом из этажей. Взамен мы должны принять сложную картину, объединяющую в сознании оба эти образа: этажи не прочны, как в реальном здании, но пребывают в оживленном движении, подчас готовые прорваться на другой уровень. Точно так же, как и в динамической реальности войны, взаимодействие самих вертикальных уровней сочетается с горизонтальными измерениями стратегии и сталкивается с ними.
Глава 8
Стратегия театра военных действий I: решения военных и политиков
Поскольку логика стратегии на уровне театра военных действий соотносит военную мощь с территориальной протяженностью, мы можем многое понять в ней, прибегая к аналогиям из зрительного восприятия и рассматривая войска и их перемещения с птичьего полета или, скажем, со спутника. Конечно, у стратегии есть пространственный аспект на каждом уровне, но на уровне тактическом значение имеют подробности рельефа местности, тогда как боевые столкновения на оперативном уровне могут быть совершенно одинаковыми в любой географической обстановке. Однако на уровне театра военных действий некоторые специфические территории как раз и являются предметом борьбы. Будь они размером с целый континент или всего лишь с небольшой остров; будь то провинция, регион, вся страна или некая группа стран — в любом случае «театр военных действий» образует скорее некое в разумной степени самодостаточное пространство, нежели выступает частью какого-то большего целого[74].
Хотя логика стратегии на уровне театра военных действий определяет взаимодействие враждующих сил в пространственном смысле, она охватывает собою только факторы, имеющие военное значение: длину фронтов и защитный потенциал местности, по которой они проходят; глубину территорий; все аспекты доступа и проходимости этой территории и т. п. И напротив, эта логика не обращает никакого внимания на политический, экономический и моральный характер рассматриваемой территории, ставя на одну доску обжитые и возделанные земли, богатые ресурсами, и негостеприимные пустыни. Поэтому неудивительно, что в процессе формирования военной политики логика стратегии на уровне театра военных действий зачастую игнорируется, даже если она полностью понятна.
В случае Кореи, например, концентрация мощных северокорейских сил со множеством танков и артиллерии возле границы, хорошо известная способность северокорейской пехоты просачиваться вглубь вражеской территории, а также воинственность северокорейского режима наводят на мысль, что война должна была начаться неожиданной и чрезвычайно интенсивной атакой. Однако подобное нападение не могло ни продолжаться достаточно долго, ни проникнуть слишком далеко вглубь южнокорейской территории, потому что большая часть северокорейской артиллерии была малоподвижной, а пехота, не снабженная машинами, скоро истратила бы и энергию, и боеприпасы.
В подобных обстоятельствах логика стратегии на уровне театра военных действий требует значительного ослабления южнокорейской обороны, призванной защищать всю страну прямо вдоль линии прекращения огня, но при этом — укрепления обороны, ориентированной на ожидание врага где-то в глубине своей территории. Согласно логике эластичной обороны, охватывающей ближайшие к фронту 50 километров южнокорейской территории, не было необходимости в попытках удержать фронт. Вместо этого следовало бы организовывать акции по задержке наступления противника в сочетании с устройством засад за естественными преградами, что заставило бы зашедших слишком далеко северокорейцев нанести поражение самим себе. Будучи полностью мобилизована и развернута, южнокорейская армия могла бы контратаковать превосходящими силами на всем пространстве вплоть до самой границы, а затем и за ней, в то время как авиация США и Южной Кореи имела бы возможность наносить тяжкий ущерб северокорейским войскам — и при их наступлении, и при отступлении.
Логика стратегии на уровне театра военных действий, несомненно, отдает предпочтение эластичной обороне, но не обращает внимания на природу территории, которой дважды придется выдержать бои за нее, а также на ее оккупацию бесцеремонными северокорейцами в промежуточный период. Это не пустыня, а густонаселенный сельскохозяйственный регион, простирающийся до северных окраин Сеула, огромной столицы, где живут около девяти миллионов корейцев, расположены все общенациональные учреждения и значительная часть промышленности страны. Потеря этих 50 километров — прежде всего потому, что оба корейских правительства заявляют об исключительном господстве над всем полуостровом, — может привести к краху общественного доверия к южнокорейскому правительству, а также деморализовать вооруженные силы. Поэтому неудивительно, что южнокорейская политика пренебрегает стратегической логикой, стремясь взамен обеспечить Сеул, столицу страны, непоколебимой защитой, нацеленной на недопущение любого вражеского вторжения.
Эту логику можно обойти вниманием, но, конечно, такая позиция ни в коем случае не сведет на нет последствия этой логики. Для Южной Кореи это чревато и затратами, и опасностями. Многочисленные войска нужно постоянно поддерживать в степени высокой боевой готовности; необходимо возвести и сохранять в рабочем состоянии тщательно разработанные препятствия в виде минных полей; заграждений против техники и укрепленных бетонных стен — а все это стоит немалых денег. Но даже при этом статичная оборона остается гораздо более хрупкой, чем эластичная, — при том же самом балансе сил. Однако ничто в логике стратегии театра военных действий как таковой не может навязать иной порядок приоритетов, да и вообще навязать какие бы то ни было приоритеты. Во всяком случае — не в большей степени, чем известное соотношение между безработицей и инфляцией способно навязывать политические решения в пользу первой или второй: в одних странах терпимо относятся к высокому уровню инфляции, но не безработицы; в других же дело обстоит ровно наоборот. Экономическая логика, определяющая отношение между двумя этими явлениями, не предписывает выбора какой-либо экономической политики в пользу одного из них. Точно также. в случае Кореи логика стратегии театра военных действий определяет отношения между эластичностью обороны и ее ценой и опасностью, но политические приоритеты требуют неэластичной обороны, затмевая собою все прочие соображения.
В годы «холодной войны» НАТО усматривало самую значительную для себя угрозу там, где ныне находится мирная Германия, расположенная в центре территории альянса. И точно так же, как южнокорейское правительство, НАТО было политически склонно к статичной обороне в географических обстоятельствах, которые гораздо более благоприятствовали эластичной обороне. В ретроспективном взгляде на стратегическую ситуацию на театре военных действий мы увидели бы, что восточные рубежи Федеративной Республики (Западной Германии) простираются от Балтийского побережья вплоть до Австрии. На протяжении примерно 625 миль граница шла вдоль Восточной Германии и Чехословакии, которые в то время были районами базирования Советской армии. Если бы, в случае мобилизации, подразделения бельгийской, британской, канадской, голландской, западногерманской и американской армий вышли бы из своих казарм и баз, чтобы занять отведенные им позиции, то «центральный фронт» НАТО обрел бы свой физический облик. Мы не увидели бы непрерывной линии, в которой подразделения стоят плечом к плечу друг с другом, — скорее это был бы ряд развернутых в боевом порядке людей, машин и вооружения в пределах полосы территории, идущей с севера на юг. По грубым оценкам, примерно треть натовских танков и мотострелковых формирований («силы прикрытия») выдвинулись бы на расстояние нескольких миль от границы, тогда как остальные войска оставались бы на некоторой дистанции — поглубже в тылу. Хотя фронт, удерживаемый силами прикрытия, не следовал бы за каждым изгибом границы, он все же растянулся бы примерно на 600 миль. Кроме того, равнинные участки границы с нейтральной Австрией также нужно было бы защитить, потому что советские войска, вторгнувшись из Венгрии, могли бы пройти по долине Дуная весьма быстро.
Теперь мы можем, наконец, опровергнуть предложение об использовании пехоты, вооруженной ПТУР. Учтя длину фронта, который надлежало бы защищать силам альянса, мы тут же поймем, что фронтальная оборона войсками ПТУР была бы очень слабой, даже если бы она была тщательно защищена преградами, находящимися под должным охранением. Ибо на этих узких участках фронта, где две стороны могли бы действительно сойтись в бою, советская боевая техника обладала бы огромным численным превосходством над пехотой с ПТУР, несмотря на то, что ракеты несравненно дешевле. В последние два десятилетия «холодной войны» дело обстояло так, что более 10 000 танков, еще большее число БМП, изрядное количество самоходной артиллерии и всевозможные подразделения поддержки могли атаковать из Восточной Германии и Чехословакии прямо с рубежа боевого развертывания, без перегруппировки, а куда более многочисленные войска пришли бы за ними из Польши и СССР[75]. Эту огромную массу машин было бы, конечно, невозможно распределить поровну с севера на юг на каждом участке фронта: она сосредоточивалась бы на четырех-пяти векторах наступления, каждый из которых продвигался бы на запад колонной такой ширины, которую могла позволить местность. Одни из них могли ограничиться проходом шириной не более узкой двухполосной дороги, тогда как другие могли наступать полосой, занимающей в ширину не менее десяти миль. Но даже если сложить все векторы и ширину каждой колонны, то получится, что советские бронетанковые войска все же атаковали бы суммарно на участке, занимавшем небольшую часть всего 600-мильного фронта. Таким образом, даже если были бы собраны многочисленные силы пехоты с ПТУР, насчитывающей десятки тысяч солдат, наступающая советская бронетехника без труда оказалась бы в численном превосходстве в любом боевом столкновении.
Поэтому арифметика истощения обеспечила бы альянсу несомненное поражение. Иначе и быть не может, если всю численность пехоты с ПТУР нужно распределить так, чтобы охватить всю границу, а вторгающиеся бронетанковые войска при этом атакуют сосредоточенными силами[76].
Конечно, пехоту, вооруженную ПТУР, тоже можно было бы сосредоточить — и на деле она могла бы, сосредоточившись, превзойти численностью вторгающиеся колонны, если бы была достаточно мобильной. Но это не удалось бы сделать, просто-напросто обеспечив пехоту с ПТУР колесными машинами, чтобы перевозить ее туда-сюда вдоль линии фронта по приграничным патрульным дорогам, потому что любое передвижение, совершающееся так близко к границе, стало бы слишком уязвимым для артиллерийского огня. Это можно было бы реализовать лишь одним способом: удерживая основную массу пехоты с ПТУР в ожидании на тыловых перекрестных дорогах, в готовности рвануться вперед на своих машинах, чтобы усилить участки фронта, подвергшиеся атаке. Не пригодная к движению по сельской местности и поэтому привязанная к дорогам, моторизованная пехота с ПТУР на марше была бы весьма уязвима для атак с воздуха и совершенно не способна двигаться вперед навстречу артиллерийскому огню, предшествующему каждой из наступающих колонн. Вертолеты могли бы обеспечить даже более быстрый ответ. Достаточное их количество могло бы позволить пехоте, вооруженной ПТУР, всякий раз превосходить в сосредоточении наступающие колонны, но это уже не та более дешевая альтернатива, которая предлагалась изначально, — да и зачем вообще перевозить пехоту с ПТУР, если у вертолетов могут быть свои ракеты, и они не нуждаются в пехотинцах для того, чтобы их запускать. В любом случае эти самые хрупкие из всех летательных устройств были бы крайне уязвимы для установок ПВО, сопровождающих бронетанковые войска, а также для ниспадающего занавеса упреждающего артиллерийского огня, неизбежного при широкомасштабном наступлении.
Поскольку колесные машины и сильно уязвимы, и привязаны к дорогам, а вертолеты столь же уязвимы и к тому же слишком дороги, только наземные машины, оснащенные надежной броней и способные передвигаться по бездорожью, могут под огнем обеспечить пехоте с ПТУР мобильность, чтобы дать ей возможность сосредоточиться и противостоять сосредоточенной атаке. Такие машины, бронированные и гусеничные, несомненно, могли бы доставить ракетные установки туда, где они понадобятся. Конечно, они повторяли бы собою нынешние боевые машины механизированной пехоты, в вооружение которых, разумеется, входят и противотанковые ракеты. И, если нужно разработать бронемашины, почему бы не вооружить их встроенными ракетными установками, которые можно использовать прямо с этих машин, без демонтажа? И, если в любом случае нужны машины со встроенными ракетными установками, зачем ограничиваться неуклюжими ракетными установками с низкой скоростью стрельбы? Ведь пушки по-прежнему превосходят их в противотанковом бою на ближних расстояниях. Если довести наши рассуждения до этого уровня, то изначальное предложение отпадает, превращаясь в простой вариант уже существующих моторизованных войск — или даже в воссоздание самого танка. Мы прошли полный круг, возвратившись к общепринятому решению: война бронетехники против бронетехники. Теперь мы можем признать, что сохранение бронетанковых войск — не просто результат институциональной заскорузлости, не просто сила традиции, не просто могущество окопавшейся бюрократии. Без надежно защищенной мобильности нет сосредоточения, а без сосредоточения нет силы.
До сих пор мы еще ни разу не упоминали о столь важном аспекте боевых действий, как предполагаемое тактическое преимущество любой обороны над нападением. В этом контексте очень часто говорят о соотношении «три к одному», в котором нападение, как полагают, нуждается, чтобы одержать победу. Это верно на тактическом уровне, поскольку войска обороны, удерживающие линию фронта, могут вырыть окопы и стрелковые ячейки, насыпать брустверы и т. п., они могут убивать и ранить нападающих с гораздо большим успехом, чем атакующие. Поэтому для лобовых атак на окопавшихся защитников соотношение «три к одному» — весьма разумная, но грубая оценка.
Однако при более широком взгляде, уже на оперативном уровне, мы. видим, что нападающие вовсе не нуждаются в том, чтобы атаковать на этом отдельно взятом участке. Взамен они могут обойти этот участок с одной стороны или с обеих — такова простейшая разновидность реляционного маневра. Если окопавшиеся солдаты остаются на месте, то оборона терпит полное поражение и может быть уничтожена в ходе боя разворачиванием огня вдоль по линии участка. Если оборона реагирует на обходное движение с флангов, она может сделать это, либо утончая свою линию, чтобы растянуть ее на достаточную длину, либо вовсе оставив укрепленную линию, чтобы перехватить атакующих. В первом случае относительное преимущество сохраняется, но баланс силы смещается в пользу атакующих, потому что на каждом сегменте линии будет меньше защитников. Во втором случае баланс силы сражающихся войск остается неизменным, но относительное преимущество утрачивается. В любом случае уже не понадобится трех подразделений для того, чтобы разгромить всего одно.
При построении западного фронта в Первую мировую войну относительное тактическое преимущество было достигнуто и на уровне театра военных действий, потому что непрерывная протяженность укрепленной линии от побережья Бельгии до швейцарской границы не допускала возможности какого-либо простого обхода с флангов. Это относительное преимущество сохранялось и на оперативном уровне, потому что атаки колонн, сосредоточенные на узких участках фронта, не могли превзойти оборону в сосредоточении. Располагая полевыми телефонами, железнодорожными путями и грузовиками, нужными для сбора войск, ответное сосредоточение обороняющихся оказалось быстрее наступления пехотинцев, шедших на огонь артиллерии, на колючую проволоку и на пулеметы. Интеллектуалы, преобладавшие во французском Генеральном штабе после 1918 года[77], могли математически доказать превосходство обороны над наступлением в ответном сосредоточении, неизбежно проистекающее из преимущества в скорости передвижения составов по рокадным железным дорогам и грузовиков — по дорогам вдоль линии фронта над медленным наступлением пехоты, идущей навстречу огню. Нужно было лишь компенсировать возможный первоначальный рывок врага, если бы разведке не удалось обнаружить приготовления до тех пор, пока нападение не станет явным. Однако этого, несомненно, можно было бы добиться, поскольку непрерывная линия обороны обладала бы тактическим преимуществом окопавшихся войск, которые нельзя было обойти со стороны, что позволяло одному подразделению сдерживать три или даже больше наступавших подразделений, по крайней мере, до прибытия подкреплений.
Согласно этим подсчетам, до тех пор пока немецкие матери не станут рожать втрое больше сыновей, французы смогут сопротивляться любому нападению, если только не будут еще до того ослаблены собственными тщетными атаками. Поэтому победа была бы обеспечена, если бы строго следовали сугубо оборонительной стратегии театра военных действий. Но к обороне прибавилась еще одна составляющая, призванная снизить цену, которую приходится платить кровью. К тому же здравый смысл говорил, что бетонированные траншеи и укрепленные орудийные позиции, построенные еще в мирное время, несомненно, гораздо лучше антисанитарных и менее надежных окопов, вырытых в грязной почве, и убежищ, наспех сооруженных под огнем. Равным образом тщательно построенные форты для защиты артиллерии должны были повысить ее потенциал — как для контрбатарейного огня, чтобы не дать вражеской артиллерии разбить линию пехоты, так и для атаки на наступающих вражеских пехотинцев.
Таковы были казавшиеся убедительными аргументы в пользу постройки огромной «линии Мажино» вдоль французско-немецкой границы. На деле эти укрепления достигли своего наибольшего успеха в мае — июне 1940 года, когда немецкое наступление обошло их стороной, через Бельгию, чтобы избежать устрашающих преград, основательно окопавшейся пехоты и артиллерии на укрепленных позициях. В силу обычного парадокса стратегии «линия Мажино» не защитила Францию потому, что была чрезмерно успешна: ведь наивысшее достижение любой оборонительной системы заключается в том, чтобы заставить врага отказаться даже от попыток атаковать ее. В ретроспективе можно рассчитать, что не столь колоссальная оборонительная система, с притягательными разрывами, сослужила бы Франции лучшую службу, по меньшей мере дав немцам возможность атаковать ее, втянув их в позиционную войну, как в 1914–1918 годах. Случилось так, что «линия Мажино», считавшаяся непроходимой как на тактическом, так и на оперативном уровнях, была преодолена на уровне стратегии театра военных действий: в мае 1940 года немецкое наступление проникло через неукрепленные бельгийские Арденны на протяжении от них до побережья Ла-Манша. Когда «линию Мажино» обошли стороной, арифметика сосредоточения и ответного сосредоточения была перевернута с ног на голову блицкригом. Возглавляемые танками и полугусеничными машинами бронедивизий, немецкие колонны глубокого проникновения двигались на большой скорости, чтобы опередить сосредоточение войск с флангов. Это свело на нет любое тактически-относительное преимущество, которым могла обладать укрепившаяся пехота, даже снабженная большим количеством противотанкового оружия. Можно лишь дивиться глубоко укоренившимся эмоциональным предпочтениям, полностью опровергающим опыт схожих уроков 1940 года и заставляющим осуждать вполне успешную «линию Мажино», но при этом по-прежнему придерживаться соотношения «три к одному», верного лишь на тактическом уровне.
В десятилетия «холодной войны» военные планы западного альянса по защите центрального фронта в Германии менялись несколько раз. Но почти до самого конца они продолжали полагаться на тактическое ядерное оружие[78]. Главная роль ядерного оружия всегда проистекала из его функции как инструмента «увещевания»[79] на более высоком уровне большой стратегии. Однако сейчас нас интересует его роль в стратегии на уровне театра военных действий. Тактическое ядерное оружие с его взрывной мощностью и радиационным эффектом, которое было вполне скромным в сравнении с межконтинентальными ядерными стандартами, в виде ракет малого радиуса действия, артиллерийских снарядов, подрывных зарядов и тактических авиабомб[80], предназначалось для того, чтобы обеспечить ответ мощи Советской армии на техническом уровне. Оно позволяло применить экономичный способ отразить широкомасштабное наступление, угрожавшее распадом фронта. Согласно политике альянса в 1970-х и 1980-х годах, советскому неядерному нападению нужно было сопротивляться посредством неядерной обороны до тех пор, пока это будет возможно; но, если советские формирования продолжат прибывать на фронт, и оборона уже не сумеет удержать их, тогда следует применить ядерное оружие.
Впервые поступившее на вооружение в 1952–1953 годах[81], тактическое ядерное оружие США стало быстро подниматься по кривой эффективности. Оно без труда встраивалось в планировавшуюся в те дни защиту по всему фронту: цепочка немногочисленных сил, развернутая в боевой порядок с небольшой глубиной эшелонирования, образовывала почти непрерывную линию вдоль всей границы. Сил вполне, хватало для того, чтобы провести различие между пограничным инцидентом и настоящим нападением, которое можно было встретить только ядерной контратакой. Слабость в неядерном вооружении оборачивалась силой, ибо из-за нее применение ядерного оружия становилось более вероятным. Но эта реакция на неядерную мошь СССР, осуществленная на техническом уровне, достигла кульминационной точки своего успеха очень скоро, поскольку в конце 1950-х годов Советская армия создала собственное тактическое ядерное оружие. Поэтому, если бы обороняющиеся попытались защитить рушащиеся участки своего фронта, атаковав наступающие советские колонны ядерным оружием, советское командование могло ответить прорывом других участков фронта с помощью собственного ядерного оружия.
Но в этом случае действие и противодействие не уничтожали бы друг друга. Если бы ядерное оружие и было применено, то Советская армия уже не завоевала бы богатые земли, а лишь стала главной причиной их уничтожения. Поэтому, если бы альянсу удалось убедительно пригрозить применением ядерного оружия в случае нападения на него, он сумел бы предостеречь СССР от любой попытки завоевания, единственными возможными последствиями которого были бы либо неядерное поражение, либо ядерное разрушение. Увещевание всегда контролируют лидеры противников; устрашение может оказаться успешным лишь в том случае, если они верят в угрозу и при этом считают, что наказание будет значительнее возможных выгод. Из этого следует, что безопасность, достигнутая благодаря увещеванию, по сути своей менее надежна, чем надлежащая оборонительная сила («сдерживание воспрещением» — deterrence by denial). Напротив, ядерное оружие представляет собою угрозу, уменьшить которую гораздо труднее, чем ту, что исходит от любого числа бронетанковых дивизий, потому что его воздействие можно точно предсказать.
Однако в этом случае эффективность увещевания зависела бы от мотива: если бы советские лидеры напали на альянс скорее из отчаяния, чем в надежде на завоевания, их не отпугнула бы перспектива стать причиной целого пояса ядерных разрушений в средней Германии. Незаконная власть всегда ненадежна. Один из сценариев «холодной войны», которого сильно опасались, начинался с всеобщего восстания в Восточной Европе, вызванного соблазнительным примером западноевропейских свободы и процветания. В таком случае атака на Западную Европу была бы вероятным ответным ходом с целью лишить беспорядки их импульса, угрожая последствиями еще худшими, чем продолжающееся угнетение.
Другая возможность заключалась в том, что Советский Союз мог напасть из оборонительных соображений, чтобы упредить нападение сил альянса, которое, как полагали лидеры СССР, было не за горами. Идея, что агрессия могла быть тайно согласована парламентом Нидерландов, канцлером Западной Германии, великим герцогом Люксембурга, бельгийским кабинетом, а также Белым домом и Уайтхоллом, кажется невероятной. Но лидеры Кремля возглавляли правительство, способности которого к подозрению были, похоже, безграничны, и ни одну историческую дату в Советском Союзе не помнят так отчетливо, как 22 июня 1941 года, когда вторжение оказалось ужасающей неожиданностью. Если бы то, что воспринималось как необходимая самозащита, стало мотивом для агрессии, то тактическое ядерное оружие альянса сохранило бы физическую способность свести на нет грозящую победу советских обычных сил и средств, но не отпугнуть от атаки полностью.
Именно с немецкой территории обе стороны должны были выпустить больше всего ядерных боеголовок ближнего действия, и именно немецкие прифронтовые области пострадали бы от ядерного опустошения. Поскольку это нанесло бы громадный ущерб, ядерная контругроза альянса должна была самоустраниться. И все же даже правительство Западной Германии продолжало твердить о необходимости атаки тактическим ядерным оружием в случае грозящей неядерной победы СССР[82]. Оно предпочитало пойти на этот риск, вместо того чтобы содержать войска обычного сдерживания, способные разбить неядерное вторжение, не прибегая к высшему суду ядерной войны.
Опасности, возникающие при расчете на ядерное оружие, в течение «холодной войны» становились все более очевидны, но для альянса последствия наращивания его обычных сил могли оказаться парадоксально отрицательными. Отказ европейских союзников США наращивать свои неядерные силы определялся, конечно же, нежеланием идти на большие военные расходы. Но он мог быть оправдан и стратегическими соображениями. Правда, если бы неядерные войска альянса были достаточно сильны для того, чтобы защитить центральный фронт от советского неядерного вторжения, не возникло бы и необходимости применять тактическое ядерное оружие. Поэтому в случае войны мир встал бы перед общей для всех опасностью постепенного перерастания локального конфликта в межконтинентальную ядерную войну. Но, даже если ядерное оружие на войне не применялось бы, неядерные бои все же велись бы, и они были бы чрезвычайно разрушительны для затронутого войной населения Европы — но не для русских или американцев. В то время казалось верным решением уравнять степень риска сторон.
Глава 9
Стратегия театра военных действий II: нападение и оборона
При разработке стратегии наступления в масштабах театра военных действий приходится выбирать между наступлением широким фронтом, которое может позволить себе только очень сильный (иначе армию, наступающую по всем направлениям сразу, превзойдут в численности), и наступлением на узком участке, дающим возможность победить даже слабому, вели он сосредоточит свои силы. Наступление широким фронтом, без использования обходного маневра или оперативной изобретательности, скорее всего, приведет к гораздо большим жертвам. С другой стороны, его простота снижает риск: параллельное продвижение вперед гораздо легче координировать, чем сходящиеся глубокие удары, и, конечно же, при нем нет уязвимых флангов. Напротив, и риск, и выгода неизбежно возрастают, когда наступление происходит более концентрированно — кульминационным проявлением этого стали глубокие удары на узких участках фронта времен классического немецкого блицкрига 1939–1942 годов, представлявшие собою частью дерзкий маневр, частью самонадеянный трюк. В силу обычного парадокса логики стратегии только те, у кого уже есть надежный запас превосходства в силах, могут позволить себе осторожное широкое наступление, тогда как те, кто уже рискует, должны пойти на еще больший риск, чтобы вообще приобрести хотя бы какой-то шанс на успех.
Однако в случае обороны принятие решений на уровне стратегии театра военных действий определяется не только развертыванием военных сил — также учитывается и участь территорий, подвергающихся опасности. Это часто приводит к столкновению между прямолинейной логикой политики, склонной приравнивать оборону к защите территории, и парадоксальной логикой стратегии, которая обычно поступается защитой территории ради успеха обороны в целом. Особенно очевидно это в случае эластичной обороны, при которой не обороняют ни одного отдельно взятого участка территории, чтобы лучше защитить ее всю благодаря тому, что войска освобождаются от своих обязанностей по непосредственной защите тех или иных участков. Проистекающая из этого свобода действий, позволяющая уклониться от главных ударов врага, передвигаться по собственной воле и полностью сосредоточиваться, дает обороняющимся все преимущества перед нападающими. При этом они еще сохраняют изначально присущее им преимущество: сражаться в знакомом и, как можно полагать, дружественном по отношению к ним окружении. Хотя с сугубо военной точки зрения подобные обстоятельства часто рассматриваются как идеальные, с точки зрения правителей это самая нежелательная из всех оборонительных стратегий, независимо от того, чего они стремятся достичь: богатства, благосостояния или контроля. Точно так же и в противоположном случае — при статичной обороне: стремление не допустить вообще никакого вражеского проникновения на свою территорию — лучшее решение с политической точки зрения, но худшее — с точки зрения военной.
Конечно, обе эти крайности в чистом виде редки. На практике встречаются только приближения к ним: даже когда сталинское верховное командование решило уклониться от нового немецкого наступления в 1942 году, применив оборону столь эластичную, что были оставлены сотни городов, Сталинград оно оставить не могло. И даже готовность НАТО защищать Западную Германию в годы «холодьюй войны» не предполагала защиты каждой пяди ее территории[83]. Компромиссы неизбежны. Политическим приоритетам отводится больше места, когда чувство безопасности сильнее (оправданно или нет), тогда как военные приоритеты, похоже, начинают преобладать в принятии решений на уровне стратегии театра военных действий, когда опасаются грозящей вскоре катастрофы.
Разумеется, существует целый спектр различных решений между крайностями эластичной обороны, которая вовсе и не сопротивляется, а, скорее, сберегает силу для контратак, и полностью статичной обороной всего фронта. Только политические решения (включая немедленную реакцию на изменяющуюся ситуацию) могут определить границу между тем, что нужно защищать любой ценой, и тем, что допустимо оставить, пусть хотя бы временно.
Но есть и другой формат, отклоняющийся от этого спектра, а именно — глубокая оборона (defense-in-depth), при которой более или менее глубокую фронтовую зону не защищают статично, но и не оставляют противнику. Взамен эту зону обороняют выборочно, самодостаточными силами, действующими как острова сопротивления, образующие скорее цепочку, нежели сплошную линию обороны. Исторически стратегия глубокой обороны служила для постоянной охраны замков и укрепленных городов, располагающихся неподалеку от враждебных границ; это было частью стратегии Римской империи, начиная со времен Диоклетиана, то есть с конца третьего века нашей эры. В современных войнах эти методы применялись в зонах маневра. Защищенные удобной местностью или искусственными преградами, организованные и снабжаемые так, чтобы сражаться самостоятельно, подобные острова сопротивления нужны для того, чтобы удерживать важные проходы вдоль основных транспортных магистралей, либо для того, чтобы защищать ценные объекты инфраструктуры, например аэродромы и крупные склады. Но, если должен быть некий шанс на победу, то их основная функция заключается в том, чтобы предоставлять защищенные базы, с которых можно было бы осуществлять подрывные вылазки и контратаки — в идеальном случае согласованно с главными силами, остающимися по эту сторону линии фронта, защищенной только в глубину.
Если эти острова сопротивления должны быть достаточно крепки и располагаться на достаточной глубине, ясно, что они не могут образовать непрерывный фронт. Поэтому враг может наступать, не задерживаясь для того, чтобы их атаковать: он может обойти стороной любой остров сопротивления, чтобы достичь своих целей в глубоком тылу. Но эта возможность представляет собою и потенциальную ловушку: как в прошлом наступающая колонна не могла без серьезного риска обойти стороной непокоренную крепость, в которой оставались войска, готовые совершить вылазку, так и ныне бронетехника, проникающая вглубь территории противника, не может попросту игнорировать силы врага, которые вольны атаковать ее уязвимые фланги. Однако задержки с целью уничтожить каждый из островов сопротивления должны, в свою очередь, сбить критически важный темп наступления; с другой стороны, если оставлять силы сдерживания вокруг каждого из них, это выльется во все возрастающее рассеяние силы.
Использование стратегии глубокой защиты создает для наступающих еще большую угрозу, если у обороняющихся есть средства и моральная готовность высылать рейды против колонн снабжения, служебных подразделений и малочисленных отрядов, которые само наступление противника приводит в поле досягаемости. Но, даже если местность вынуждает нападающих продвигаться только по узким проходам, где их действительно можно заблокировать, это все равно не главная дилемма, с которой сталкиваются атакующие: ведь им нужно преодолевать сопротивление каждого из узлов обороны, один за другим лежащих у них на пути. Конечно же, стратегия и здесь не допускает никакой бесконечной прямолинейной профессии: чем сильнее местность театра военных действий ограничивает передвижение, тем крепче становится глубокая оборона — но лишь до тех пор, пока не будет достигнута кульминационная точка. В действительно непроходимой горной местности, вроде Гималаев, прямолинейная оборона, состоящая из поддерживающих друг друга позиций, блокирующих каждый проход, становится предпочтительнее, чем любая глубокая защита. Разумеется, никакая глубокая или прямолинейная защита в таких условиях не преуспеет сама по себе, без наступательных сил, которые могут, в конце концов, атаковать противника; без них силы обороны будут заперты на своих позициях — и нигде это не будет так явно, как в высокогорной местности.
НАТО во время «холодной войны» не подвергалась опасности пройти кульминационную точку в использовании местности на центральном фронте. На некоторых участках в центральной Германии были горы — но никак не сопоставимые с Гималаями или Альпами. Не было возможности перекрыть главные пути удара советских войск небольшим количеством хорошо укрепленных позиций. И все же даже в северной Германии и в так называемом Фульдском коридоре местность образовывала значительные преграды: и лесистые кряжи, и урбанизированные области, которые могли бы образовать сеть островов сопротивления. Стратегия на уровне театра военных действий, построенная на принципе глубокой обороны, конечно, могла бы в те дни ответить на советскую угрозу реляционным маневром, поскольку она содействовала бы тому, чтобы ослабить и рассеять натиск «бронированного кулака» Советской армии. В отсутствие на центральном фронте прочного препятствия, которое нужно было бы преодолеть, вторгающимся колоннам пришлось бы с боем прорываться через целый пояс обороны, все время подставляя свои уязвимые фланги для возможных атак. Укомплектованная (как оно и было наделе) призывниками и резервистами, вполне способными рваться вперед, но лишенными тактического мастерства, Советская армия сильно пострадала бы даже от местных контратак относительно малочисленными силами — если бы эти нападения были достаточно ощутимыми.
В годы «холодной войны» циркулировало много схем обороны центральноевропейского фронта альянса. Одни хотели сохранить наличные бронированные и механизированные войска, но держать их в глубине, чтобы они могли свободно маневрировать, а не привязывать их наглухо к фронтовым позициям[84]. Другие высказывались за комбинацию тех же самых сил с легкой пехотой, вооруженной противотанковыми ракетами и разбитой на небольшие подразделения, которые должны были перемещаться на вертолетах[85]; или же с местными ополченцами, призванными вести партизанскую войну наряду с регулярными подразделениями легкой пехоты[86]; или с небольшими подразделениями стандартной пехоты, распределенными по местным гарнизонам, чтобы оборонять деревни из каменных домов, которыми усеяны сельские ландшафты Германии[87]. В некоторых вариантах к этому предлагалось добавить непрерывные линии неподвижных противотанковых заграждений, чтобы замедлить продвижение советских колонн. В других вариантах, с неподвижными заграждениями или без них, предлагалось устроить укрепленные позиции для некоторых подразделений, чтобы они могли замедлить продвижение по дорогам и коридорам, проходящим по данной местности, в глубоком тылу. Цель всех этих схем заключалась в том, чтобы как-то замедлить глубокое проникновение, к которому стремились бы советские колонны бронетехники. после первого упорного сражения на фронте. Вместо этого советские колонны должны были увязнуть в глубокой обороне, чтобы их можно было разбить по частям или контратаковать в полную силу[88].
Альтернативы глубокой обороне, предлагавшиеся для центрального фронта, различались в деталях, но у них была одна общая черта: все они представляли собою примеры оригинальной военной мысли, которые расходились не только с окостенелыми бюрократическими планами, но и с политическими реалиями. Кроме того, авторы всех этих схем питали классическую иллюзию «окончательного хода». Реагируя на стратегию глубокого проникновения, которая вменялась Советской армии в масштабах театра военных действий, они не допускали того, что Возможна и рефлексивная реакция противника — новая и совершенно иная стратегия советских войск, разработанная для того, чтобы преодолеть глубокую оборону. Иными словами, они закрывали глаза на основополагающий принцип стратегии.
Но, прежде чем критиковать эти схемы, стоит напомнить об их значительных достоинствах с сугубо военной точки зрения. Они все еще представляют собою последнее слово военного искусства. На тактическом уровне, как мы видели, солдаты, ведущие бой из укреплений против атакующих, вынужденных продвигаться по открытому пространству, обладают преимуществом в силу выгодного «обменного курса» потерь, потому что их огонь действует в полную силу, а огонь атакующих — не в полную. Схожим образом небольшие подвижные подразделения, обученные при первой возможности (opportunistically) совершать набеги на советские колонны и отступать, как только их контратакуют, также испытали бы преимущества выгодного «обменного курса». Кроме того, такие заграждения, как противотанковые рвы, монолитные препятствия и минные поля (до тех пор, пока защищающие их подразделения способны выстоять под огнем) могут повысить тактическую эффективность оборонительных позиций, снижая темп вражеского наступления — в идеале до такой дистанции, которая позволяла бы оборонительному оружию в данном месте успешно поражать цели.
На оперативном уровне объединенный эффект заграждений и укреплений, блокирующих дороги, снижает относительную мобильность атакующих, а это значительно повышает вероятность того, что достаточно сильные контратакующие войска могут быть с немалым преимуществом расположены таким образом, чтобы нападать на фланги противника. На уровне театра военных действий любая из этих схем могла бы нейтрализовать величайшую силу Советской армии, а именно ее способность прорываться через монолитные фронты, и в то же время использовать ее величайшую слабость: отсутствие гибкости в действиях малых подразделений[89].
Тем не менее схемы глубокой обороны были отвергнуты сменяющими друг друга правительствами Западной Германии, а поэтому и всем альянсом в целом. Тот факт, что они отличались от действовавшей на тот момент стратегии НАТО, не является решающим: ведь стратегия может изменяться в любое время. Основополагающим моментом была их политическая нереальность. На техническом уровне стратегии, а также на тактическом и оперативном, преследуемые цели являются материальными и не подлежат обсуждению: вероятность убить больше врагов, более выгодный «обменный курс» потерь и победа в бою, конечно, предпочтительнее, чем их противоположности. Однако на уровне театра военных действий само значение успеха и поражения суть предмет политического решения. Схемы глубокой обороны могли бы обеспечить разгром советского вторжения, позволяя пока что избежать захвата Западной Германии, — но при этом оставался открытым вопрос, будет ли крушение Советской армии и значительной части территории Германии успехом или поражением. Размеры территории, которую надлежало бы принести в жертву, разнились во всех отдельных схемах, но ни одна из них не способна была обеспечить статичную оборону всей национальной территории, что, как предполагалось, могла сделать оборона на «передовых рубежах».
Сторонники различных схем глубокой обороны утверждали, что опасность подвергнуть некоторую часть территории Западной Германии неядерному разрушению была гораздо предпочтительнее, чем угроза подвергнуть всю ее, включая города, разрушению ядерному. Выбор осложнялся разными уровнями риска, связывавшимися с двумя этими опасностями: конечно, можно было утверждать, что устрашение с помощью тактического ядерного оружия гораздо надежнее, чем его неядерный вариант. Но на деле составляющие этого выбора сами по себе были сомнительны, потому что всегда оставалась третья возможность: правительство Западной Германии могло в любое время запретить применение ядерного оружия, базирующегося на ее территории. Поэтому, если^бы устрашение не удалось, если бы советское вторжение началось и фронт не сумел бы устоять, правительство Западной Германии могло отказать в разрешении на проведение ядерных контрударов, попросив перемирия. И даже самые жесткие условия, выдвинутые СССР, можно было бы на разумных основаниях предпочесть применению ядерного оружия на немецкой земле или же широкомасштабным разрушениям, которые причинила бы густонаселенным немецким землям затянувшаяся неядерная война. Схемы глубокой обороны в условиях мирного времени быстрее превращались в оппозицию декларируемой линии поведения политиков, чем это могло бы случиться в военное время.
«Холодная война» закончилась, а вместе с ней — и споры о том, как лучше оборонять центральноевропейский фронт. Но уроки, данные этим опытом, сохраняют свое значение. При выходе на уровень стратегии театра военных действий военные решения уже неотделимы от политических императивов. Это обстоятельство приводит к двум неизбежным осложнениям. Первое — конфликт между парадоксальной логикой войны (кто защищает все, тот не защищает ничего; победа может оказаться чрезмерной) и прямолинейной логикой политики, призывающей к максимальной защищенности или к максимальным завоеваниям, какие только возможны. Поэтому почти все военные считают почти всех политиков либо слишком дерзкими, либо слишком робкими. Второе — потенциальный конфликт между стремлением военных добиться наилучшего возможного итога (пусть даже не одержав полной победы) и типичным выбором политиков — добиться каких-то результатов путем переговоров. Только на уровне большой стратегии эти, коллизии остаются тем или иным образом не разрешенными.
Герилья[90] (испанское guerilla, буквально «малая война», «войнушка»), то есть боевые действия, ведущиеся малыми подразделениями, не стремящимися удержать за собой территорию, подразумевает тактику, которую может применять кто угодно, в том числе и самые сильные армии. Герилья также подразумевает измерение революционной войны[91]. Данная тактика ведения боевых действий как дополнение к регулярным операциям столь же стара, сколь сама война: в это понятие входит любая форма неструктурированных рейдов. Для этих целей армии обычно использовали легкую кавалерию и небольшие стрелковые отряды. В наше время появились коммандос и подразделения для «спецопераций». Принцип остается тем же: вместе с действиями основных сил или независимо от них малые самодостаточные подразделения, способные действовать без линий снабжения у себя за спиной, отправляются, чтобы атаковать цели в уязвимом тылу противника. В революционных же войнах, напротив, преобладающим контекстом выступает внутренняя борьба за контроль над правительством. Герилья является одним из ее орудий, предназначенным для того, чтобы унизить находящееся у власти правительство и ослабить его, нападая на солдат, полицейских и чиновников гражданской администрации. Но главный инструмент революционной войны — это подрывная деятельность: подрыв позиций и смещение официального административного аппарата посредством пропаганды и террора. Соотношение пропаганды и террора — хороший показатель намерений: когда широко используется террор, а не пропаганда, демократическая форма правления не может быть целью повстанцев.
В обычных ситуациях у бойцов герильи нет превосходства над регулярными войсками на техническом уровне, и они редко обладают тактическим преимуществом. Но у них, безусловно, есть оперативное преимущество: до тех пор пока бойцы герильи сражаются, уклоняясь от лобовых столкновений с регулярной армией, и не пытаясь удерживать местность, они вольны воевать столько, сколько им заблагорассудится, в то время и в том месте, когда и где им будет угодно. Они могут беспокоить регулярные войска, устраивать засады колоннам на дорогах, нападать на небольшие отряды, выводить из строя инфраструктуру и системы снабжения, всякий раз рассыпаясь в разные стороны перед лицом превосходящих сил/ Таким образом, герилья — это ответ превосходящей военной силе, данный на уровне реляционного маневра, и одна из слабостей, которыми она во многих случаях стремится воспользоваться — сдержанность регулярных сил, обусловленная статусом официального правительства. Бойцы герильи — евреи, кикуйю, китайские коммунисты, греки и арабы, — сражавшиеся с британскими войсками в Палестине, Кении, Малайе, на Кипре и в Адене, даже вьетнамцы и алжирцы, воевавшие с французскими солдатами в Индокитае и Алжире, и, уж конечно, вьетконговцы, воевавшие с американцами, могли полагаться на сдержанность врагов в обращении с гражданским населением в целом. Конечно, бывали исключения, случаи жестокого поведения солдат, и даже некоторые проявления насилия, приводящие к смерти гражданских лиц, но никогда систематическое применения подобного насилия не встречало одобрения у военных властей, а тем более — у правительств, направивших свои войска в эти регионы и действующих под строгим надзором парламента и прессы.
Если же, напротив, подобные запреты отсутствуют или они слабы, то свобода действия бойцов герильи может быть сильно ограничена угрозой жестоких репрессий против гражданркого населения в целом, в которое входят их семьи и друзья. Если каждое убийство в ходе герильи оборачивается казнью нескольких ни в чем не повинных гражданских лиц, удерживаемых в заложниках именно с этой целью; если за каждой успешной засадой следует уничтожение ближайшей деревни; и если за каждым налетом на штаб или склад следуют массовые убийства — тогда лишь немногие из бойцов герильи решатся убивать, устраивать засады и производить налеты всякий раз, когда подвернётся возможность. Эмоциональные узы, объединяющие их с гражданским населением, из которого они сами происходят, — это потенциальная слабость, которую беспощадные оккупационные войска могут использовать, чтобы дать свой ответ в виде реляционного маневра.
Репрессивная модель действий, принятая немецкими войсками во время Второй мировой войны, оказалась весьма эффективной для того, чтобы свести к минимуму те результаты, которых могли бы добиться бойцы герильи — в большей части случаев, в большей части мест. Конечно, уже само отвлечение живой силы немцев на борьбу с ними должно считаться главным при любой оценке — но, даже с подобающим учетом этого обстоятельства, ныне считается общепринятым, что военное воздействие норвежского, датского, голландского, бельгийского, французского, итальянского и греческого[92] Сопротивления было незначительным[93]. Польское Сопротивление было скорее попыткой организовать тайную армию для дальнейшего контроля над страной после ухода немцев, нежели постоянной кампанией герильи; действительно вступив в бой, эта армия воевала в совершенно обычной форме, попытавшись захватить Варшаву в августе 1944 года, когда казалось, что советские войска вот-вот подойдут[94]. Только коммунисты Тито и советские партизаны были действительно эффективны в качестве бойцов герильи во время войны, и именно потому, что они готовы были состязаться с немцами в беспощадности; за что гражданское население заплатило огромную цену[95].
Бойцы герильи, воевавшие с колониальными правительствами, как мы видели, с этой дилеммой не сталкивались. Однако сейчас вооруженные сепаратисты в Кашмире, на Шри-Ланке и в Судане стремятся следовать советской партизанской модели, нападая на правительственные войска всякий раз и во всяком месте, где только возможно, ни в коей мере не заботясь о страданиях гражданского населения.
Кажется странным, что карательные меры против гражданского населения в целом и его вооружение могут быть равносильным ответом, но в парадоксальной области стратегии это именно так. Симметричный ответ бойцам герильи на уровне театра военных действий заключается в том, чтобы подражать их рассеянию. Вместо того чтобы обеспечить оборону некоторой области крупными формированиями, готовыми выйти на встречу с противником (неэффективная мера против уклончивого врага), отряжается множество малых подразделений, чтобы обеспечить «точечную оборону» как можно большего числа уязвимых целей. Часовые на мостах, дамбах и электростанциях, а также городские и деревенские гарнизоны, контрольные пункты на дорогах и патрули состязаются с рассеянной силой бойцов герильи, причем по большей части успешно, поскольку регулярные войска могут быть более дисциплинированы, лучше обучены и вооружены. Конечно, если в то же время идет и обычная война, то ценой, которую придется заплатить за множество обороняемых точек в тылу, будет снижение, боевых сил на фронте — и это действительно одна из причин парадоксальной конвергенции между непрерывными наступлениями и поражением[96].
Однако в контексте революционной войны точечная оборона — важнейшая функция вооруженных сил, призванная обеспечивать жизнедеятельность общества и государства до тех пор, пока поводы к восстанию не будут устранены реформами, контрпропагандой или капитуляцией повстанцев.
Обычный ответ, который может дать герилья на оперативном уровне, заключается в том, чтобы перейти к более сосредоточенной форме военных действий. Прибегнув вначале к рассредоточению вследствие своей неспособности противостоять крупным правительственным формированиям, бойцы герильи обнаруживают, что после создания противником оборонительных точек с часовыми и деревенскими гарнизонами его контрольные пункты и патрули могут быть уничтожены, если они (бойцы герильи) соберутся в более многочисленные отряды. По мере развития этого процесса зачастую намечается различие между бойцами герильи, остающимися в составе небольших локальных отрядов, и «главными силами», действующими на более широком пространстве — возможно, по всей стране. На этой стадии бойцы герильи, используя свои объединенные отряды, могут разгромить одну за другой точки обороны, которые их противник создавал для борьбы с мелкими разрозненными отрядами. Но, начиная действовать таким образом, бойцы герильи неизбежно становятся куда более уязвимыми: и по физическим причинам (сотни людей не могут укрыться в природном окружении также успешно, как несколько человек), и потому, что сбор главных сил неизбежно отвлечет отдельных бойцов от их родины — а будучи чужаками, они едва ли смогут рассчитывать на поддержку местных жителей. Это обстоятельство может дать правительству возможность воевать с бойцами герильи, состязаясь с ними в сосредоточении/ контрсосредоточении, в условиях, изменяющихся, в зависимости от соответствующих средств снабжения, коммуникации и мобильности. Если две стороны не слишком сильно отличаются друг от друга в данном отношении, то эта спираль может подниматься все выше, пока обе они не введут в бой крупные формирования, и тогда guerra («большая война») придет на место герильи.
Однако это маловероятно, потому что бойцы герильи очень редко бывают способны собрать все свои локальные группы в единый отряд, да и вряд ли хотят это делать, потому что преимущество в снабжении, коммуникациях и мобильности остается, как правило, за правительством[97]. Поэтому главные силы сражения будут, скорее всего, существовать наряду с малыми трудноуловимыми отрядами, при первой возможности атакующими любые сколько-нибудь значимые объекты, оставшиеся незащищенными. В итоге правительство сталкивается с двойной необходимостью: с одной стороны, комплектовать крупные формирования (чтобы воевать с объединенными силами бойцов герильи), с другой — создавать обороняемые точки для защиты различных объектов от атак мелких групп. Это ставит правительство в то же самое положение, что и армию, ведущую регулярную войну на фронте, которая завоевала активно враждебное население и стремится свести к минимуму отвлечение своих сил при устроении обороняемых точек в тылу. Для оккупационной армии самое дешевое решение заключается в том, чтобы скорее отпугнуть бойцов герильи от нападений карательными мерами, будь то смертные казни или нечто иное (так, уничтожение имущества может оказаться столь же эффективным), нежели упреждать их атаки, распределяя малые подразделения по всем районам, охваченным сопротивлением[98]. С другой стороны, в борьбе с революционными повстанцами в своей стране равноценное решение заключается в том, чтобы заставить обитателей неспокойных районов создавать милицию для самозащиты — организации точечной обороны. Тогда регулярные отряды освободятся от караульных и гарнизонных обязанностей и смогут вернуться в свои формирования для проведения широкомасштабных действий против главных сил повстанцев. Таково было решение, успешно принятое в Сальвадоре в 1980-х годах, когда Defensa Civil («Гражданская оборона») вооружала и обучала крестьян, чтобы они могли защитить себя от отрядов бойцов герильи. Мобильная обучающая команда прибывала на место и обучала крестьян обращению с выданными им карабинами Ml, а также простейшей тактике; после этого с ними оставался один-единственный армейский сержант с полевой радиостанцией, которому надлежало обеспечить командование и вызвать помощь, если она понадобится. Эта система действовала отлично и была действительно куда эффективнее попыток регулярной армии обнаружить бойцов герильи и вступить с ними в бой, посылая для этого медлительные и шумные батальоны численностью в 1200 человек[99].
В те же годы СССР вел свою последнюю войну: в Афганистане. Столкнувшись с трудноуловимыми повстанцами, разобщенными в еще большей степени из-за того, что сопротивление было политически раздроблено, Советский Союз и его союзники в афганском правительстве в значительной мере полагались на карательные меры против повстанцев: бомбардировки близлежащих деревень были обычным ответом советских войск на атаки повстанцев, и поступало немало сообщений о казнях мужчин боеспособного возраста, оказавшихся в пределах досягаемости. Конечно, эффект устрашения был весьма невелик: будучи детищами воинской культуры, к тому же воспламененные религиозным пылом, повстанцы не отказались от своего вследствие тяжкой участи гражданского населения. Однако со временем бомбардировки стали вполне эффективными, изменив демографическую карту Афганистана.
Те области, в которых деятельность повстанцев была наиболее интенсивной, постепенно пустели. Там, где деревенское население,_ напротив, не уменьшилось, масштабы действий повстанцев оставались весьма скромными. Чем дальше, тем меньше семей и кланов оставались поблизости от повстанцев, действующих в регионе. Люди стекались в лагеря для беженцев в Пакистане и Иране, где им не грозили советские карательные меры. Но у повстанцев уже не было поддержки населения, снабжавшего их съестными припасами и информацией. Если не считать немногих операций коммандос, Советская армия, укомплектованная по большей части новобранцами, избегала наступательных действий, чтобы уменьшить число жертв. Их численность действительно оставалась очень низкой: в год гибло менее тысячи человек. Но, в конце концов, и этого оказалось много. Получилось, что закрытое советское общество, подвергавшееся строгой цензуре, еще меньше готово было идти на жертвы, чем американское общество во время войны во Вьетнаме.
Глава 10
Стратегия театравоенных действий III: воспрещение (interdiction)и неожиданная атака
Мы видели, что различные форматы обороны на уровне театра военных действий не являются предметом свободного выбора: они предопределяются основополагающими политическими и цивилизационными подходами. В нормальном случае всегда предпочитают статичную оборону на передовых рубежах, даже если при этом оставляют за собой право на некую форму обороны на незначительной глубине. Что же касается версий глубокой обороны и, конечно же, обороны эластичной, то их едва ли сознательно планируют: их принимают скрепя сердце, чтобы предотвратить неминуемое поражение.
В действительности существует и некий формат, даже более предпочтительный в теории, чем оборона на передовых рубежах: это активная оборона. Она имеет место, когда оборона театра военных действий производится путем немедленной ответной контратаки, вообще без всяких оборонительных боев. Таким образом, изначальные тактические преимущества обороны сознательно приносятся в жертву: либо для того, чтобы уберечь национальную территорию от ущерба, либо же потому, что отсутствует географическая глубина, на которой можно было бы проводить успешные оборонительные операции. Таково было, например, положение Израиля в 1967 году, когда ему грозили согласованные наступления арабов с разных сторон. Далее, организационно легче начать заранее спланированное нападение, чем в обороне иметь дело с целым рядом различных неожиданных атак. Но в любом случае, если и атакующий, и обороняющийся делают выбор в пользу нападения — значит, либо один, либо другой допустили серьезную ошибку в подсчете баланса сил. Вот одна из причин того, почему активная оборона — редкость на стратегическом уровне: она требует такого наступательного порыва, который гораздо вероятнее встретить у агрессоров, а не у жертв. На деле невозможно привести ни одного современного примера в чистом виде, за исключением израильской войны 1967 года; а ближайший к этому случай, то есть наступление французской и британской армий на Бельгию в качестве незамедлительной реакции на нападение немцев 10 мая 1940 года, не представляет собой сколько-нибудь вдохновляющего прецедента.
Появление дальнодействующих средств атаки дало обеим сторонам возможность вести войну в глубине вражеской территории — но, конечно же, глубина театра военных действий благоприятствует обороне, если в распоряжении имеется достаточно пространства. Хотя Франция, по европейским меркам, большая страна, все же ей не хватало глубины в ее войнах с Германией, которые велись в век железных дорог, с 1870-го по 1940 год. Париж, сердце страны, находится не в центре нее, а, скорее, в ее северо-западном углу, всего в сотне миль, покрытых хорошими дорогами, от бельгийской границы, причем между границей и Парижем нет никаких естественных преград. В этих обстоятельствах размеры страны обернулись на деле ее слабостью, потому что большая часть французских резервных и гарнизонных войск должна была добираться издалека, чтобы встать между Парижем и границей. Вполне очевидно, что Париж и Франция оказались уязвимы перед лицом внезапной атаки. Именно для того, чтобы восполнить этот недочет, было выстроено столько французских крепостей задолго до сооружения «линии Мажино».
И напротив, именно такое географическое положение благоприятствовало наступательным действиям французов в северном направлении, на Нидерланды и немецкие земли. Обладая политическим центром, расположенным настолько удачно, чтобы служить передовым командным пунктом, а к тому же имея пограничные крепости, способные стать складами и отправными базами, Франция вполне могла устраивать внезапные нападения и частенько это делала, пока объединение Германии не свело на нет это преимущество.
Советский Союз, как царская Россия до него и как Российская Федерация после него, находился в ровно противоположной ситуации. Если принять во внимание, что почти 800 миль служили Москве щитом в направлении с запада на восток (и то считая только от Варшавы), причем проезжих дорог было очень мало, — станет очевидным наличие глубины театра военных действий, вполне достаточной для того, чтобы вобрать в себя силу шведских, французских и немецких захватчиков, начиная с Карла XII и кончая Гитлером. Даже основание новой столицы Петром I не внесло коренных изменений в положение дел. Хотя оборонительная территориальная глубина города по направлению к северу была гораздо меньше, чем у Москвы, ко времени основания Санкт-Петербурга шведская держава вовсю клонилась к упадку, и ни одной северной державы на ее месте не возникло. Что же касается глубины в западном направлении, то кратчайшее расстояние до Восточной Пруссии, составляющее как-никак почти 500 миль по прямой, в действительности было куда больше, потому что тамошняя местность вынуждала искать долгие обходные пути вокруг болот и озер.
Географическая глубина Москвы еще больше в восточном направлении: там пролегает стратегический вакуум в несколько тысяч миль до Китая и Японии, причем обе эти страны и по сей день представляют лишь периферийную угрозу. Только с юга Московия была уязвима до тех пор, пока нынешняя Украина оставалась ничейной землей, частью степного коридора, открытого для тюркских и монгольских вторжений, — но и эта опасность была в конце концов устранена русской экспансией и упадком Османской империи в эпоху Петра Великого[100].
Однако ровно по той же причине наступательный потенциал русских армий, набиравшихся из Москвы, сильно снижался из-за расстояния; вплоть до железнодорожной эпохи их силы и припасы неизбежно истощались на марше задолго до того, как они достигали даже своей стороны границы. Основание Санкт-Петербурга не слишком изменило это положение дел, потому что русские войска по большей части по-прежнему набирались из Москвы и близлежащих регионов. Поэтому до эпохи железных дорог подготовка любого русского наступления была делом затяжным: требовался в лучшем случае один сезон военной кампании для того, чтобы подготовиться к следующему, перемещая войска и их припасы на передовой фронт. Даже в годы Второй мировой войны Советской армии нужно было несколько месяцев для того, чтобы набрать силу от одного наступления до другого, пока война не обернулась в ее пользу летом 1943 года. Да и теперь, несмотря на наличие авиатранспорта, а также железных дорог и немногочисленных автотрасс, требуется немало времени и ресурсов, чтобы преодолеть это расстояние, а длинные линии коммуникации уязвимы перед лицом новой опасности: атак с воздуха.
Поэтому оборотной стороной медали огромной оборонительной глубины Советского Союза была неспособность его армий предпринимать наступления в полную силу с рубежа боевого развертывания без перегруппировки. В западном направлении даже советские формирования в полной боевой готовности (кроме группировки войск в Восточной Германии) должны были совершать долгие переходы прежде, чем получить возможность вступить в дело.
Именно в этом контексте была предложена еще одна концепция для центральноевропейского фронта альянса: стратегия глубокой атаки на уровне театра военных действий, которую необходимо наложить на оборону фронта, чтобы посредством воздушных ударов замедлить, расчленить и численно уменьшить советские силы, движущиеся к зоне боев. Возможно, силы альянса, дислоцированные в Западной Германии в мирное время, и сумели бы сдержать первую волну наступления советских армий. Но они, конечно, не способны были бы обеспечить надежную неядерную оборону от мобилизованных советских формирований, которые впоследствии достигли бы зоны боев с гораздо более высокой скоростью, чем та, с которой могли прибыть подкрепления альянса.
Предлагалось несколько различных схем глубокой атаки[101]; все они тем или иным образом предвосхищали «революцию в военном деле» (RMA), широко обсуждавшуюся с 1990-х годов. Общим у них было то, что все они полагались на крылатые ракеты с множеством малых суббоеприпасов, а также на пилотируемые самолеты и обычные ракеты с одной боеголовкой, чтобы атаковать цели, отстоящие от линии фронта на сотни миль.
Уже тогда не было ничего нового в идее воздушной атаки на неподвижные цели в тылу, будь то мосты или аэродромы, и только подробные расчеты могли бы (или могут) дать оценку относительных выгод такой атаки посредством крылатых ракет, а не пилотируемых самолетов. Во время «холодной войны» преобладающей реакцией СССР на техническое превосходство западных ВВС стала исключительно широкая по размаху и интенсивная попытка развивать войска ПВО. Итогом стала широкая сеть мобильных ракет класса «земля-воздух», которые теперь рассеяны по всему миру. Они, в свою очередь, вызвали надлежащую реакцию альянса в виде как ныне устаревшей модели (воздушные атаки на сверхмалых высотах, практически исключающих применение оружия точного наведения), так и электронные контрмеры, которые продолжали развиваться. Но, спустя десятилетия взаимной подготовки к войне НАТО и ОВД, способность западных пилотов атаковать цели, расположенные в глубоком тылу, оставалась под сомнением. Поэтому ракеты представляли собою привлекательную альтернативу, хотя она и порождала целый ряд технических, военных и политических затруднений[102]. Однако именно глубокая атака советских подкреплений, движущихся по направлению к зонам боевых действий, была новаторской идеей. Она представляла технические трудности и поднимала вопросы, важные и по сей день. Даже после воздушной войны в Косове в 1999 году способность ВВС атаковать мобильные цели остается лишь невыполненным обещанием, что решительно противоречит той привычной точности, с которой сейчас обнаруживают, определяют и поражают такие неподвижные «высококонтрастные» цели, как мосты и электростанции.
Опять же, ничего нового не было и в воспрещении (interdiction) подхода подкреплений как таковом. Систематический артобстрел дорог, ведущих к линии фронта, широко использовался уже в Первой мировой войне, когда такая тактика с применением дальнобойной артиллерии была важным элементом стратегии театра военных действий: и при удержании фронта, и при его прорыве.
Наряду с искусственными препятствиями на «ничейной земле» между противостоящими друг другу рядами окопов, изрытой заполненными водой воронками от снарядов и покрытой колючей проволокой, а также с учетом решающего арифметического преимущества пулеметов в укрепленных гнездах перед наступающей в пешем строю пехотой, артиллерийское воспрещение позволяло обороняющимся превзойти наступающих в сосредоточении, даже если силы последних тайно скопились в больших количествах прямо за линией фронта, прежде чем перейти в атаку[103]. С гораздо меньшим успехом дальнобойная артиллерия применялась в попытках прорвать фронт, лишая вражеские подкрепления возможности собраться на участках, подвергающихся атаке.
Артобстрелы, производившиеся по точкам на географической карте (обычно это были перекрестки дорог или подходы к линии фронта), не приводили к смертям или ранениям множества людей и не могли уничтожить значительную часть оборудования. Но этого и не требовалось для того, чтобы добиться задержки, которая и была целью обстрелов (правда, случалось и так, что вследствие артиллерийского воспрещения все-таки гибло большое количество людей: так было, например, на маленьком Верденском выступе, где в течение месяцев ежедневно скапливались тысячи солдат).
Во время Второй мировой войны, а затем в Корее, Вьетнаме и Ираке в 1991 году воспрещение поставок снабжения и подкреплений посредством атак с воздуха заменило или дополнило собою обстрелы путей подъезда. Глубокие атаки требуют более крупных и дорогих самолетов или как минимум — больше топлива, но при полной заправке самолеты вынуждены брать на борт меньше бомб, чем при атаках на линии фронта; а поэтому применение глубоких атак должно быть оправдано каким-то их компенсирующим преимуществом. И оно имеется: противник, находящийся на линии фронта, выглядит иначе, чем за ней (в тылу). Подкрепления, прибывающие на линию фронта по автомобильным или железным дорогам, более заметны и плотнее сосредоточены, а поэтому представляют собою более выгодные цели для атак с воздуха, чем силы, развернутые для сражения на линии фронта, — особенно в том случае, если это силы обороны. Однако обилие целей — это одно, а возможность их поражения — совсем другое: штурмовые бомбардировщики могут беспрепятственно проникать в глубокий тыл, пролетая вдоль автомобильных и железных дорог, бомбя и обстреливая с воздуха вражеские колонны, лишь в том случае, если логика стратегии отменяется отсутствием реакции противника. Это почти справедливо для ситуации 1991 года в Ираке, когда активными оставались лишь локализованные системы ПВО; с другой стороны, войска НАТО проявляли изрядную осторожность в войне в Косове в 1999 году, опасаясь низкотехнологичных, но многочисленных и дислоцированных на широком пространстве средств ПВО югославских федеральных сил.
Здесь, как всегда, действует некий парадокс. Если собственные ВВС и ПВО противника сильны, его войска и команды снабжения могут без особого риска скапливаться в своем тылу в плотные конвои прямо средь бела дня, так как их передвижению вряд ли грозит воспрещение с воздуха. В этом случае команды самолетов, предназначенных для бомбометания и атак, придется укомплектовывать большим количеством истребителей сопровождения. С другой стороны, если ПВО противника слаба (что дает полную свободу действия самолетам, осуществляющим воспрещение), то он едва ли позволит себе организацию оживленного дорожного движения военной техники на тех территориях, где ее можно было бы с легкостью атаковать. Ведь в таком случае противник постарается перемещать свои войска и отряды снабжения по ночам или же рассеянными группами — либо будет использовать обе эти тактики. Таким образом, слишком мощные ВВС сами подрывают свою потенциальную полезность. Правда, и перемещение по ночам, и рассредоточение сами по себе приводят к задержкам, и тогда перед атакующими встает вопрос: достаточно ли выигранного таким образом времени для того, чтобы оправдать цену воспрещения с воздуха? Одно дело, если воспрещение задержит прибытие к линии фронта какого-то определенного воинского подразделения, и это определит исход боя. И совсем другое — если воспрещение с воздуха лишь на несколько дней задержит обычный недельный переход подкреплений противника к зоне затянувшегося сражения[104].
В контексте обороны центрального фронта силами альянса в годы «холодной войны» было маловероятно, что удастся серьезно воспрепятствовать советским подкреплениям и командам снабжения посредством бомбардировок мостов, путепроводов, железнодорожных сортировочных узлов и автодорог. Возрастающее количество и густота железных и автомобильных дорог, идущих с востока на запад, из СССР в Западную Германию, а также превосходство Советской армии в возведении военных мостов привели бы к краху кампании по воспрещению, нацеленной на транспортную сеть как таковую[105].
В нынешних схемах «революции в военном деле» (RMA), как и в предшествовавших им схемах «глубокого удара» времен «холодной войны», бомбардировка транспортной инфраструктуры представляет собою лишь второстепенную задачу, хотя ныне, в век рутинной технической точности средств поражения, она весьма эффективна. Более важной задачей является поражение самого движущегося транспорта — а это цели, которые гораздо сложнее найти, идентифицировать, передать самолетам или ракетным частям и поразить. До сих пор, до войны в Косове включительно, только неподвижные цели подвергались успешным бомбардировкам, то есть с малым расходом оружия на каждую уничтоженную цель. Но оптимистически настроенные сторонники РВД утверждают, что последние достижения в области датчиков обнаружения и в компьютерном деле пролагают путь выхода из этого стратегического парадокса, сводя на нет такие препятствия, как покров ночи и (в меньшей степени) рассредоточенное перемещение сил противника. Спутниковое наблюдение не может быть непрерывным, но зато таковым может быть наблюдение, осуществляемое с больших высот беспилотными самолетами. Данные о замеченных передвижениях передаются немедленно и могут обрабатываться полуавтоматически, чтобы затем выбрать конкретные цели и подобрать подходящие средства их атаки: направляя на них либо ракету, либо пилотируемые самолеты с передовым вооружением. Это дает потенциальную техническую возможность атаковать войска противника на переходе, даже ночью и даже если они рассредоточены, — но лишь в том случае, когда каждый компонент системы действует надлежащим образом[106].
И все же до сих пор не прекращаются споры о возможности создания (а также экономичности и прочности) «системы систем», которая могла бы обнаруживать движущиеся цели и следить за ними, запускать в них ракеты или отправлять для их уничтожения пилотируемые самолеты той или иной разновидности и при этом добиваться необходимой корректировки нацеливания, по мере того как цель продолжает перемещаться. Оставив детальные подсчеты другим, мы можем рассмотреть этот вопрос в рамках стратегии, и обнаружится, что Клаузевиц вновь оказался здесь нашим предшественником. В его дни не было ни боевых самолетов, ни управляемых ракет, но основополагающая асимметрия между командами снабжениями, находящимися в пути, и войсками, развернутыми для боя, уже была налицо, как и искушение нанести удар за линиями войск противника посредством кавалерии, совершающей глубокий рейд. Как обычно, Клаузевиц описывает благоприятные перспективы, прежде чем указать на осложнения:
«Среднего размера транспорт в 300 или 400 повозок с любым грузом растягивается в длину на полмили, более значительный — на несколько миль. Каким же образом можно прикрыть столь растянутый участок теми ничтожными силами, какие обычно сопровождают обозы? [Нынешние транспорты длиннее: одна механизированная дивизия из 4 000 или более машин занимает по меньшей мере 40 миль дороги]. Если прибавить к этому еще малоподвижность всей этой массы, ползущей чрезвычайно медленно и находящейся под постоянной угрозой замешательства; если к тому же принять во внимание, что каждую часть транспорта надо прикрывать отдельно, так как если противник настигнет эту часть, то весь транспорт придет в смятение. Невольно возникает вопрос: возможно ли вообще защищать и прикрывать подобного рода обозы? Или, иными словами: почему не все замеченные обозы бывают атакованы? И почему не все обозы, достойные прикрытия, бывают атакованы? Разрешение загадки заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев безопасность транспортов обеспечивается их общим стратегическим положением (то есть попросту тем, что они находятся в тылу). В этом преимущество транспортов перед всеми другими частями армии, доступными воздействию на них неприятеля, в этом и причина дееспособности даже ничтожных средств транспортной обороны. Таким образом, можно заключить, что, несмотря на то, что это кажется тактически просто, но нападение на транспортные конвои не обещает верного успеха»[107].
Иными словами, оперативные недостатки любых действий, проводимых вне зоны вашего контроля, в глубоком вражеском тылу, состоят в том, что при этом расходуются ресурсы вашего тактического преимущества, позволяющего производить удары по намеченным целям, сосредоточенным в поле видения. И поэтому, сколь бы уязвимыми ни казались цели, движущиеся по автомобильным и железным дорогам, потенциальные выгоды их поражения могут оказаться недостаточными для того, чтобы перевесить цену и риск при атаке, производимой на дальнее расстояние в глубоком тылу противника. Клаузевиц напоминает нам и о третьем, и притом более тонком, соображении: «общее стратегическое положение» транспортов в тылу оперативно более выгодно для войск обороны в целом, потому что им легче следить за тем, как разворачивается сражение за их обозы, так как вся их сила находится здесь, на месте событий. Во времена Клаузевица участь кавалерийского рейда оставалась неизвестной до тех пор, пока его участники не возвращались, чтобы поведать, что с ними произошло; остальная часть армии никак не могла оказать помощь рейду из-за отсутствия сведений о превратностях судьбы его участников. И лишь малую часть армии можно было отправлять в рейды: нескольких сотен всадников считалось много для значительного рейда по тылам врага, даже в армии, насчитывающей десятки тысяч человек.
Сегодня есть технические средства наблюдения, способные следить за тем, как разворачиваются события, но все же у обороны значительно больше возможностей отслеживать текущие итоги атаки с воздуха в пределах зоны своего контроля. В том случае и до тех пор, пока спутники наблюдения не будут уничтожены, они могут передавать изображения, однако клубы дыма и развалины, конечно же, демонстрируют итоги воздушных ударов, но в тоже время и скрывают их. Самолеты с радарами с большой высоты могут охватывать боковые панорамы на большие дистанции, а фотографирование с воздуха может продолжаться в течение всей войны, но вся совокупность информации, собранной таким образом, все же не может сравниться с точными подробностями, содержащимися во многих сообщениях с места событий, если у обороны еще есть средства телекоммуникации и она может принимать сообщения. Это информационное преимущество, а также обладание всеми средствами прямо на месте, может дать обороняющимся возможность реагировать широкомасштабно на узконаправленную глубокую атаку: либо перехватывая рейдовую кавалерию противника своей собственной, как во времена Клаузевица, либо пользуясь средствами современных военно-воздушной сил и методами электронной войны.
Мы не можем предсказать исход влияющих друг на друга мер и контрмер, которые последуют, если системы глубокой атаки действительно будут развернуты. Датчики, средства передачи сообщений, контрольные центры, сами летательные аппараты и размещенное на них оборудование — все это потенциально уязвимо для контрмер. Все эти средства, обнаруживающие мишени, чтобы передать данные о них в контрольные центры, могут располагать большими возможностями и располагаться на разнообразных носителях (на спутниках, на пилотируемых и беспилотных самолетах, снабженных радарами, инфракрасными, оптическими и другими датчиками). Но тогда управление отдельными боезарядами, которые, в конце концов, атакуют каждую конкретную цель, должно быть чрезвычайно простым, если вся система в целом стремится быть экономичной.
Казалось бы, ничто не может предотвратить поражение цели, если одновременно используется нескольких альтернативных типов наведения на нее для нескольких видов поражающих средств. Так что транспортный конвой и другие цели в тылу врага могут быть атакованы целым набором боеприпасов точного наведения, которые в целом будут достаточно невосприимчивы к любой отдельно взятой контрмере. Но ведь нет никаких препятствий и на пути комбинированного применения силами обороны различных контрмер. Конечно, не все боеприпасы надо обязательно точно наводить на цель; известно, что кассетные бомбы ориентированы на поражение не точечных целей, а определенной площади целиком; но в этом случае их поражающее воздействие само по себе является ограниченным и подверженным контрмерам[108].
Технологическое состязание между оружием точного наведения и разработкой контрмер против них проходит более или менее симметрично, но налицо основополагающая асимметрия в состязании между системами глубокой атаки, взятыми как единое целое, и контрмерами против них. Чтобы добиться успеха, кавалерии времен Клаузевица, отправившейся в рейд, приходилось уходить от пикетов передовой стражи, совершать обходные маневры, избегая крупных сил на своем пути, отыскивать обозы, предоставленные самим себе, а также рассеивать сопровождающие их отряды эскорта, чтобы успешно атаковать сами обозы — и все это нужно было делать последовательно. Равным образом в системах глубокой атаки датчики первоначального обнаружения целей и системы передачи их данных, контрольные центры и ракеты или пилотируемые самолеты, а также оружие точного наведения — все это должно действовать точно и в строгой последовательности. Напротив, обороняющиеся могут нарушить способность системы к атаке любой совокупности целей, успешно нейтрализовав всего лишь один из ее компонентов. Правда, избыточность примененных средств может уменьшить этот недостаток, но за это придется платить какую-то цену. Усложнение системы увеличивает «организационное трение» и увеличивает вызванный им риск (в силу все той же последовательной природы систем глубокой атаки), в то время как обороняющимся при этом не требуется применять никаких усилий.
Если мы отвлечемся от предположений технического характера, то все, что у нас останется, — сплошная неопределенность в отношении результативности систем «глубокого удара», ио мере того как невидимые для атакующих контрмеры будут" со временем развиваться. Неопределенность — вечный спутник войны, но есть огромная разница между неопределенностью, сопровождающей применение меча (который может сломаться), обычной винтовки (которую может заклинить), танка (который может выйти из строя) и сложной системы, состоящей из многих компонентов последовательного действия, каждый из которых подвержен риску.
Самый напрашивающийся ответ на применение вашим противником систем «глубокого удара» — попросту нанести удар по этим системам, но на момент, когда пишутся эти строки, только Соединенные Штаты в состоянии создать такие системы, и только Российская Федерация сможет их атаковать. Противоспутниковые ракеты и истребители дальнего радиуса действия способны обнаружить и уничтожить беспилотные летательные аппараты с платформами датчиков систем первоначального обнаружения и слежения (одновременно с созданием электронных помех средствам передачи данных от этих датчиков); по компьютеризированным контрольным центрам могут быть нанесены удары авиацией, ракетами или с помощью рейдов спецподразделений (одновременно с попытками затруднить их деятельность с помощью мер камуфляжа и маскировки); ракетные и авиационные базы средств поражения также могут быть атакованы (одновременно с попытками создать помехи их системам связи с контрольными центрами обработки данных); системы ПВО всех типов — в виде истребителей, ракет и зенитных орудий — будут стараться перехватить средства поражения точного наведения (одновременно с использованием маскировочных и защитных контрмер против них); и при комбинировании всех этих средств воздействия ассиметричная уязвимость системы «глубокого удара» с его элементами последовательного действия может сильно сказаться на ее успешности. Если удача или действия разведки помогут нейтрализующим усилиям обороняющихся, то уничтожения всего лишь нескольких датчиков, контрольных центров обработки данных и некоторых средств доставки в районе их дислокации может оказаться достаточно для нейтрализации всей системы «глубокого удара» во всей ее последовательности.
Глава 11
He-стратегии: военно-морская, военно-воздушная, и ядерная
Прежде чем перейти к рассмотрению уровня большой стратегии, нам нужно разделаться с запутанным и запутывающим вопросом «стратегии», приписываемой каким-то конкретным родам войск: военно-морской, военно-воздушной и ядерной «стратегиями». Здесь налицо и простая неточность языка, и невинное бахвальство энтузиастов того или иного типа войск. Но, если бы действительно существовало такое явление, как военно-морская, военно-воздушная или ядерная стратегия, в каком-либо смысле отличная от комбинации технического, тактического и оперативного уровней в рамках одной и той же универсальной стратегии, тогда каждая из них обладала бы своей особой логикой или же существовала как отдельный феномен наряду со стратегией театра военных действий, которая в таком случае сводилась бы к сухопутной войне. Первое невозможно, а во втором нет необходимости.
Чтобы рассмотреть этот вопрос по порядку, для начала я отмечу, что на техническом, тактическом и оперативном уровнях вполне очевидным образом применяется все та же парадоксальная логика. Соответственно этому в рассмотрении данных трех уровней я свободно приводил примеры из военно-морского и военно-воздушного дела — наряду с теми, что были почерпнуты из опыта наземной войны. Правда, на уровне рассмотрения стратегии театра военных действий упор был сделан на наземной войне, в то время как применение ВВС обсуждалось только в отдельных случаях[109], а примеры из военно-морского дела вообще не приводились. Но на это есть свои причины.
Отсутствие примеров из области военно-морского дела и поверхностное рассмотрение военно-воздушной составной части стратегии были неслучайными. Не подлежит сомнению, что тот же самый пространственный аспект выражения парадоксальной логики стратегии присутствует как в морской, так и в воздушной войне. У военно-морских и военно-воздушных сил есть как фронтовые, так и тыловые диспозиции, системы обороны на передовых рубежах, системы глубокой обороны и так далее, и все это можно применить к пространственным и погодным особенностям данных видов ведения войны. Военно-воздушные и военно-морские силы взаимодействуют в рамках театра военных действий точно так же, как сухопутные войска. Но ввиду их особой мобильности пространственные аспекты имеют здесь гораздо меньшее значение. Диспозиции могут меняться настолько быстро, что та или иная из них не предопределяет исхода сражения; на деле они часто носят столь переходный характер, что являются тривиальными.
Так, концепция превосходства ВМФ, популяризированная выдающимся историком военно-морского флота Альфредом Тайером Мэхэном[110], которой руководствовались в своих боевых действиях как британский, так и германский флоты во время Первой мировой войны, а также японские ВМС в годы Второй мировой, вылилась в фактическое отрицание пространственных аспектов. Согласно этой концепции, флот, имеющий превосходство над другими, будет контролировать весь мировой океан, оставаясь в то же время сконцентрированным в одном месте по своему выбору и при этом не проявляя особой активности. В условиях, когда торпедное оружие было уже фактически нейтрализовано к 1914 году, а подводным лодкам (ошибочно) не придавали значения, конечная способность разбить соединение линкоров противника в решающей битве должна была повсеместно обеспечить все преимущества и выгоды господства на море. Более сильный флот гарантировал себе свободное использование морских коммуникаций как для торговли, так и для военных перевозок и в то же время не давал воспользоваться ими врагу, причем не прибегая к блокаде его портов.
Такой исход должна была обеспечивать иерархия военно-морской силы: будучи превзойденным мощью, соединение линкоров противника не могло пойти на риск решающего сражения; также не отваживались бы на активные действия и силы его боевых крейсеров. Крейсеры противника не могли выйти в открытое море ни для того, чтобы атаковать судоходство врага, ни для обеспечения поддержки флотилии эсминцев, которые могли бы сделать это, — в случае их перехвата они были бы легко побеждены не менее быстрыми, а главное, более жизнеспособными, оснащенными более прочной броней и пушками большего калибра, крейсерами. Так что крейсеры более сильного флота могли бы оперировать свободно, а обладатели менее сильного не сумели бы ни сами использовать судоходные линии, ни помешать их использовать своим врагам.
Таким образом, даже пассивно пребывающее в определенном месте соединение линкоров могло бы косвенно обеспечивать свое господство над мировым океаном, вне зависимости от расстояния до зоны каких-либо локальных событий. Конечно, было бы ничего не поделать с неожиданным выходом из своего охраняемого порта одного из эсминцев, который мог бы. перехватить случайно проходившее мимо торговое судно, но на этом все и завершилось бы. Более слабому противнику в морском противостоянии остается лишь каботажное судоходство под защитой своих берегов, в закрытых морях, таких, например, как Балтийское, но возможности навигации в открытом море он лишен. В реальности именно это и произошло с флотами австро-германского блока во время Первой мировой войны.
Однако, как только в боевых действиях на море появляются подводные лодки, наличие у какой-либо из враждующих сторон более внушительного соединения линкоров уже не обеспечивает безопасности ее торговому судоходству. Когда враг располагает мощными подводными силами, теория «гипотетического столкновения линкоров» больше не работает[111]. Если бы такое столкновение где-либо и произошло, то головные линкольны должны были бы сопровождаться к месту боя эскортом крейсеров (против эсминцев), а также эскортом эсминцев (против торпедных катеров). Все силы были бы задействованы в основном сражении, а для защиты судоходства от атак подводных лодок никаких ресурсов не осталось бы.
В худшем случае результатом была бы симметричная парализация судоходства обоих противников, что оказалось бы очень плохим исходом для стороны, более зависимой от трансокеанских поставок. Это почти и произошло на пике германской подводной войны во время обеих мировых войн в 1917 и 1942 годах соответственно, когда флоты союзников свели на нет германскую морскую торговлю, в то время как германские субмарины серьезно мешали судоходству союзников. При этом силы обоих противников были практически не ограничены пространственным фактором.
Таким образом, в этом случае решающим оказывается не способ ведения войны, а скорее степень мобильности противостоящих друг другу сил: чем выше мобильность, тем сложнее предугадать расположение сил противника в то или иное время. Если бы наземные силы могли так же свободно и быстро перемещаться по всему театру военных действий и между различными театрами, то уровень стратегии театра военных действий потерял бы свою значимость и для них. Железные дороги в некоторой степени дали подобный эффект, а моторизация войск принесла в этом отношении еще более весомые результаты. С помощью грузовиков войска и вооружения могут передвигаться из одного сектора в другой в «тактический» отрезок времени, который является, естественно, временем одного сражения, тем самым снижая важность предварительного выдвижения к месту битвы. В годы Второй мировой войны транспортировка по воздуху усилила эффект от перемещений войск между различными театрами; с тех пор этот метод распространился и на переброску войск в рамках одного театра военных действий, хотя и только в отношении небольших контингентов с легким вооружением, которые можно перебросить «воздушным мостом» на значительные расстояния.
Важность феномена стратегии на уровне театра военных действий сохраняется только потому, что существуют пределы мобильности наземной моторизации, уязвимость, ограниченные возможности, зависимость воздушного транспорта от аэродромов, а также географические ограничения, низкая скорость и зависимость морского транспорта от портов. Здесь можно провести параллель с потерей значительности оперативного уровня стратегии в том случае, если война на истощение является преобладающим видом военных действий. Нет необходимости вычленять отдельные типы военно-морской и военно-воздушной стратегии на уровне театра военных действий уже просто потому, что на этом уровне факторы наземной войны наиболее важны. Не может быть какого-либо другого уровня стратегии, на котором применялся бы лишь какой-то один из родов войск и который стоял бы выше оперативного, но ниже уровня большой стратегии.
Но каково же тогда содержание многочисленных трудов, в заглавиях которых встречаются термины «морская стратегия», «воздушная стратегия», «ядерная стратегия» или (в последнее время) «космическая стратегия»? Если не принимать во внимание любопытное притязание Мэхэна на формулировку «военно-морской мощи», мы обнаружим, что в подобной литературе изучаются в основном технические, тактические или оперативные вопросы или же приводится аргументация в пользу той или иной конкретной политики, обычно на уровне большой стратегии[112]. Например, вопросы состава военно-морских соединений обычно лежат в основе того, что описывается как военно-морская стратегия. Но старый спор между сторонниками линкоров и авианосцев или более современный спор между сторонниками подводных лодок и всех других типов кораблей явно относятся к оперативному уровню анализа, и в реальных боевых действиях все эти силы будут взаимодействовать и противостоять друг другу на оперативном уровне. Что касается более специфических дебатов по таким вопросам, как достоинства больших или малых авианосцев, то они относятся к техническому уровню анализа, поскольку в реальности суть здесь сводится к различиям в боевых возможностях и стоимости машин. Конечно, верно и то, что технические предпочтения часто проявляются и в более широких масштабах, но тогда эти предпочтения будут относиться к большой стратегии. Например, большие авианосцы лучше пригодны для наступательной войны, а малые — для эскортирования в условиях обороны.
В военно-воздушных силах различные возможности боевого состава тех или иных соединений также ограничены техническим, тактическим или оперативным уровнями, а не уровнем стратегии театра военных действий. Это ярко проявилось в дебатах 1945–1955 годов (и в США, и в Великобритании) между сторонниками «сбалансированных» бомбардировочных сил (тяжелые, средние и легкие бомбардировщики) и теми, кто утверждал, что все ресурсы должны быть выделены только на тяжелые бомбардировщики. То же самое можно сказать и относительно дебатов 1955–1965 годов между сторонниками управляемых ракет и теми, кто продолжал оказывать предпочтение пилотируемым бомбардировщикам; и относительно нынешних споров между сторонниками беспилотных летательных аппаратов и теми, кто утверждает, что подавляющую часть наличных ресурсов следует по-прежнему направлять на пилотируемые самолеты. Пространственные факторы не играют никакой роли в этих спорах — главенствуют, напротив, соображения о соотношении затрат и эффективности, а также неявная сила институциональных предпочтений: ВВС, в которых командуют пилоты, не испытывают энтузиазма по отношению к беспилотным летательным аппаратам.
Вопросы выбора целей, которые традиционно важны для того, что описывается как «военно-воздушная стратегия»[113], также относятся скорее не-к стратегии театра военных действий, а к уровню большой стратегии. Конечно, любую военную или гражданскую цель можно бомбить по тем или иным соображениям. Но последствия таких бомбардировок будут проявляться уже на уровне большой стратегии. Поэтому выбор категорий целей является предметом национальной политики, как, впрочем, и ответ жертв этих бомбежек будет ответом национальным и произойдет на уровне большой стратегии.
То же самое относится к целям, для поражения которых используется военно-морская мощь. Только результаты десантов с моря будут рассматриваться на уровне стратегии театра военных действий. Но в том, что касается блокады или препятствования судоходству в открытом море либо использования авиации ВМС для поражения наземных целей, большая стратегия — более подходящий уровень для планирования как наступательных, так и ответных мер. Конечно, эффективность морского воспрещения или ударов авиации ВМС по наземным целям может зависеть от географических факторов и тем самым находиться на уровне стратегии театра военных действий, но оперативное и тактическое взаимодействие сил каждой из сторон будет явно более важным. Если удастся блокировать судоходство, последствия этого, разумеется, будут определяться самодостаточностью затронутого блокадой государства. И, опять же, меры и контрмеры будут проявляться на уровне большой стратегии.
Мы можем назвать только одно оправдание выявлению стратегии, ограниченной лишь одним видом вооруженных сил: то, что такая стратегия будет действенна сама по себе. В этом как раз и состоял тезис Мэхэна: в его интерпретации истории военно-морская мощь была определяющим фактором в возвышении и упадке тех или иных наций[114]. На самом деле Мэхэн употреблял термин «военно-морская мощь» в двух различных смыслах, подразумевая либо преобладание на море («которое изгоняет с морей флаг врага или позволяет ему быть только флагом спасающихся бегством»), либо в более широком смысле, описывая полный спектр выгод, которые можно извлечь благодаря усилиям на море: торговлю, судоходство, колонии и доступ к рынкам[115]. Первая трактовка военно-морской мощи у Мэхэна представляла собой краткосрочную перспективу, определяющую исход войн путем блокад или морских рейдов. Напротив, во второй трактовке «военно-морская мощь» была долгосрочной перспективой, нацеленной на процветание наций. Мэхэн основывал свои чрезмерные обобщения, интерпретируя главным образом британскую историю — это вполне очевидно. Он смешивал военно-морскую мощь (в обоих значениях) с мощью как таковой, игнорируя континентальные державы, которые не полагались на длительные морские перевозки в сколь-нибудь серьезной степени, — например, Германию в периоды обеих мировых войн и Советский Союз во время его существования.
Возможно, не столь очевидна, зато более интересна с точки зрения изучения стратегии ошибка Мэхэна, состоящая в объяснении успеха Британии в борьбе против ее континентальных противников ее исключительной силой на море. Не подлежит сомнению, что британская морская мощь в первой трактовке понятия была здесь важным инструментом, а морская мощь во втором значении — источником благосостояния страны. Но реальной причиной британского господства на море был успех ее внешней политики в сохранении баланса сил в Европе[116].
Путем вмешательства в континентальные дела с целью противодействия одной из великих держав или коалиции держав, которые находились на грани завоевания господства в континентальной Европе, британцы не допускали прекращения раздоров. Это вынуждало континентальные державы иметь большие сухопутные армии, которые, в свою очередь, лишали их средств на создание столь же больших флотов. Военно-морская мощь, в обоих значениях этого термина, действительно была необходима для поддержания баланса сил между континентальными державами. Но верный вывод из этого скорее противоположен сделанному Мэхэном[117]: превосходящая военно-морская мощь была результатом успешной стратегии, а не ее причиной. Приоритетами британской политики были активная дипломатия и способность субсидировать послушных, но бедных союзников, а не стремление к поддержанию высокой боеготовности Королевского флота. Как только удавалось создать условия, позволявшие относительно легко обеспечить превосходство на море благодаря успешному поддержанию баланса сил на континенте, британский флот получал в распоряжение весьма скромные ресурсы для обретения военно-морской мощи «номер один», что, в свою очередь, имело своим результатом укрепление и военно-морской мощи «номер два».
Если бы в попытке достичь господства в мире британцы не придавали бы должного значения дипломатии и субсидиям, а действовали исключительно прямолинейно, стремясь добиться превосходства в количестве кораблей над континентальными державами, то немедленным результатом такой стратегии стала бы растрата средств, необходимых для поддержки морской мощи «номер два». В итоге это привело бы к подрыву общего баланса сил, что, в свою очередь, отвлекло бы континентальные державы от расходования средств на сухопутные войны, и тогда британских ресурсов оказалось бы явно недостаточно для того, чтобы состязаться со всеми мореходными талантами объединенной Западной Европы.
То, что британское господство на море сосуществовало с неизменно скромным финансированием Королевских ВМС, как раз и является ярким отражением логики стратегии. И, напротив, Британия вступила бы в полное противоречие с этой парадоксальной логикой, если бы стремилась достичь господства исключительно за счет строительства все большего и большого количества фрегатов. У европейских противников Британии оказались бы развязаны руки для того, чтобы отреагировать на сосредоточение усилий британцев на военно-морских силах, и они бы приступили к строительству собственных фрегатов вместо того, чтобы отвлекать свои ресурсы на ведение сухопутных войн друг с другом. Современники, резко критиковавшие недостаточное выделение средств на королевский флот, в том числе адмиралы, которые горько жаловались на то, что необходимое их кораблям британское золото раздают иностранцам, руководствовались здравым смыслом, но отнюдь не стратегическими соображениями.
По иронии судьбы, к моменту публикации книги Мэхэна британское правительство отказалось от своей многолетней политики. Вместо того чтобы вооружать континентальных противников Германии, в особенности очень нуждавшихся в этом русских, дабы поддерживать баланс сил на континенте, были выделены большие средства на королевский флот, чтобы сохранить военно-морскую мощь в прямом соревновании строительства боевых кораблей с кайзеровской Германией. И здравый смысл, и общественное мнение были удовлетворены. Но Мэхэн стяжал в Британии столь громкую славу не как автор руководства по ведению разумной политики, а скорее как пропагандист политики уже сформулированной: закон о национальной обороне (National Defence Act), установивший «паритет» британского флота с двумя взятыми вместе флотами сильнейших континентальных держав, был принят в 1889 году — еще до того, как была опубликована первая «повлиявшая на умы» книга Мэхэна.
В конце концов, и военно-морская мощь «номер два», и накопленный капитал морского превосходства, и много пролитой крови — все это было принесено на алтарь в сражениях Первой мировой. Британия впервые оказалась всерьез вовлеченной в сухопутную войну в Европе, чего, скорее всего, вообще удалось бы избежать, если бы не было потрачено столько ресурсов на военно-морские силы. Чтобы мы ни взялись рассматривать в качестве главной причины всех этих последствий: прямолинейное и негибкое общественное мнение, отвратившее британских лидеров от следования политике своих предшественников (которые финансировали железные дороги и арсеналы царской России вместо того, чтобы строить больше линкоров), или отсутствие у самих этих лидеров ясности стратегических взглядов, в любом случае вряд ли приходится сомневаться в том, что агонию и упадок Британии значительно ускорила политика, отражавшая заблуждения Мэхэна.
Сразу же после Первой мировой войны у одного из видов вооруженных сил появились совершенно новые притязания на стратегическую автономию. К этому времени, в контексте логики ведения современной войны, достаточно ясно проявились пределы военно-морской мощи. Так, оказалось, что военно-морская блокада требует очень много времени для того, чтобы появилась возможность достичь каких-либо результатов, а высадки морских десантов были вообще практически неосуществимы (сухопутные войска могли прибыть в район десанта слишком быстро), и единственная крупная высадка с моря в районе Галлиполи обернулась весьма дорогостоящим фиаско. Поскольку тактическое преимущество простой «господствующей высоты» понималось отчетливо и повсеместно, летательные аппараты тяжелее воздуха были приняты на вооружение практически сразу же после появления. В 1914 году самолеты для наблюдения и корректировки артиллерийского огня имелись уже во всех серьезных армиях мира, а к 1918-му военно-воздушные силы уже достигли значительного размаха. К моменту заключения перемирия с Германией, 11 ноября 1918 года, британские ВВС имели в наличии 22 000 самолетов и 293 532 человек личного состава. Морские флоты тоже получили в свое распоряжение самолеты, в основном амфибии, с трудом запускаемые с палубы и поднимаемые на борт при приводнении; но первый настоящий авианосец был построен еще до конца войны.
Таким образом, самолеты заняли в армии прочное место, но в основном в качестве вспомогательных сил для сухопутных войск и флота. Первые офицеры-летчики и публицисты в сфере военной авиации, потребовавшие независимости для нового вида вооруженных сил, делали это из соображений эффективности, подчеркивая экономию средств, которой можно было бы достичь, если бы приобретение самолетов и обучение летчиков проводилось централизованно, а не оставалось распыленным между сухопутными войсками и флотами. Однако другие пошли гораздо дальше, провозгласив стратегическую автономию нового вида вооруженных сил.
Три человека, пропагандировавшие военно-воздушную мощь как «трендовую волну будущего», смогли добиться серьезного внимания к своим взглядам, выдвинув, независимо друг от друга, сходные аргументы. Джулио Дуэ, являвшийся лидером ВВС Италии еще до 1914 года, опубликовал в 1921 году книгу «Господство в воздухе» (Il dominio dell' aria). Американец Уильям (Билли) Митчелл, также практикующий офицер-пилот, опубликовал книгу «Крылатая оборона» (Winged Defense) в 1925 году, задолго до того, как книга Дуэ была переведена на английский язык, что произошло в 1942-м, когда Митчелл уже бомбил Токио. Взгляды Хью Монтэгю Тренчарда, основателя Королевских ВВС Великобритании, были отражены в основном во внутренних документах этих ВВС.
И Дуэ, и Митчелл, и Тренчард полагали, что самолет дает возможность прямого проникновения в сердце вражеской территории, перелетая через укрепленные форты и географические барьеры; что большие соединения бомбардировщиков, таким образом, могут отменить медленные процессы боевых действий на суше и на море, уничтожив промышленность противника, от которой зависят все формы боевой мощи; и что победы такого рода можно достигнуть быстро только за счет превосходства в воздухе[118], без ужасных потерь в сухопутной войне и долгих лет морской блокады. Дуэ, Тренчард и их последователи отличались от Митчелла тем, что утверждали, что бомбардировщики могут, в общем-то, не обращать внимания на ПВО, таким образом, сводя суть военно-воздушной мощи исключительно к наступлению[119]. Но все трое сходились в том, что после возникновения ВВС все другие формы военной мощи устарели.
Как оказалось, стратегическая военно-воздушная мощь сильно пострадала во время Второй мировой и от собственных недостатков, и от ответной реакции, которую она спровоцировала, — реакций очень мощной, поскольку стратегическую ценность, на которую притязали бомбардировки, почти все осознали еще до начала войны, в то время как недостатки в точности бомбометания и в его возможном объеме не были приняты во внимание. Одной из реакций на угрозу массированных налетов на столицы (как думали тогда, с применением химических бомб) был напряженный поиск средств заблаговременного обнаружения, которые дали бы надежду на перехват вражеских бомбардировщиков. К 1939 году Британия, Германия и Соединенные Штаты уже разработали радар дальнего радиуса действия, сведя на нет предположение Дуэ / Тренчарда, что бомбардировщики всегда могут достичь своих целей[120].
ПВО, сводящаяся исключительно к истребителям, была практически бесполезна до изобретения радара, но от нее все же не отказались — в слабой надежде на то, что множество телефонных сообщений от наблюдателей на земле и акустические приборы сделают перехват возможным. Поэтому и скоростные истребители-перехватчики, и организационные схемы их сопровождения наземными службами уже были в наличии к тому времени, когда появился радар. В то же время бомбардировщики, считавшиеся «стратегическими» и оттого обязанные нести большую бомбовую нагрузку для разрушения промышленности и городов, становились все более громоздкими и тихоходными по сравнению с современными им истребителями, от которых они практически не могли уйти с помощью маневра[121].
Сторонники бомбардировщиков сознавали эту тактическую слабость и предлагали «лекарство» в виде массированных соединений бомбардировщиков, хорошо вооруженных пулеметами. До появления радара такие соединения могли превзойти по численности отдельные случайные истребители, встретившиеся им на пути. В соответствии с классическими принципами военного искусства, преимущество в инициативе давало им численное преимущество над истребителями противника в районе столкновения. Скоординированный огонь хвостовых, фюзеляжных и расположенных спереди пулеметов соединения бомбардировщиков мог бы свести на нет преимущество истребителей в маневренности, перекрыв любой вектор их возможной атаки, вне зависимости от того, насколько быстро истребители могли бы менять направление этой самой атаки. Другими словами, оперативное превосходство массированных соединений бомбардировщиков должно было компенсировать ожидаемую тактическую слабость одного-единственного бомбардировщика.
Таким было положение дел до тех пор, пока в события не вмешалась построенная на радарах система контроля воздушного пространства. Она сделала возможным целенаправленный перехват соединений бомбардировщиков целыми группами истребителей[122], вместо использовавшихся ранее постоянных воздушных патрулей, которые могли лишь случайно столкнуться с бомбардировщиками противника. Теперь воздушное пространство уже можно было оборонять так же, как и наземное; при этом сеть радаров представляла собой линию фронта, а эскадрильи истребителей — мобильные силы, которые концентрировались для противостояния наступательным армадам бомбардировщиков. Преимущество бомбардировщиков в инициативе было ограничено до такой степени, какую позволяли технические возможности радаров, заранее продуманные контрмеры и организационные трения, способные помешать успешному перехвату.
Силы противовоздушной обороны, со своей стороны, имели в активе классическое преимущество сражения в собственном воздушном пространстве — возможность заранее подготовить «местность» путем развертывания зенитных орудий, прожекторов и дирижаблей воздушного ограждения. Кроме того, силы ПВО могли надеяться на проведение сразу нескольких перехватов одним и тем же истребителем, который каждый раз можно было дозаправить и пополнить боезапасом для продолжения борьбы, тогда как соединению бомбардировщиков требовалось несколько часов для возврата на свои базы и повторного появления в боевой зоне. Таким образом, силы ПВО достигли превосходства и на уровне стратегии театра военных действий — в придачу к тактическим преимуществам истребителей, которым уже не приходилось сталкиваться с оперативным превосходством соединений бомбардировщиков: они могли противопоставлять им соединения истребителей.
В 1940 году такое развитие событий привело к неудаче кампании по бомбардировке Британии самолетами Люфтваффе вследствие истощения сил. Эта кампания не смогла сломить волю британцев к сопротивлению (впрочем, и в будущем ни одна кампания бомбардировок не смогла сломить подобную волю ни у одной нации), У Люфтваффе не хватало разрывных и зажигательных бомб для того, чтобы быстро уничтожить большую часть британского индустриального потенциала (опять же, впоследствии ни одна кампания бомбежек не смогла добиться этого эффекта в военных действиях против какой-либо промышленно развитой нации).
Есть определенная ирония судьбы в том, что именно Люфтваффе впервые попыталось применить на практике концепцию «стратегических» бомбардировок и первой же потерпела в этом неудачу, потому что командование германских ВВС не верило в эту концепцию и не сделало бомбежки городов и промышленных объектов своим главным приоритетом[123]. Вместо тяжелых бомбардировщиков немцы строили средние и легкие бомбардировщики, ставя во главу угла точность при бомбометании на поле боя, достигавшуюся путем пикирования, которое, в свою очередь, исключало большую бомбовую нагрузку. Если учесть, какими самолетами располагало Люфтваффе, то немецкие бомбардировки британских городов, равно как и бомбежки Варшавы и Роттердама до этого, были просто импровизациями. Будучи случайным следствием, незначительные германские потери не выявили уязвимость бомбардировщиков как таковую, потому что немецкие бомбардировщики были особенно маневренными и довольно скоростными.
Поскольку у Люфтваффе не было четырехмоторных бомбардировщиков типа тех, которые массово производились потом в Великобритании и США, значение поражения немцев в «битве за Британию» преуменьшалось сторонниками бомбардировщиков, которые продолжали провозглашать стратегическую автономность своего любимого вида вооружений. Только после того, как британские и американские тяжелые бомбардировщики большими силами атаковали Германию, теория Дуэ / Митчелла / Тренчарда наконец была отвергнута: сначала англичанами, а потом и американцами. Точности ради следует отметить, что бомбардировки не были отвергнуты как эффективное средство ведения войны, но они явно не могли быть самодостаточным и быстрым инструментом достижения победы. Длительный кровопролитный процесс взаимного истощения в наземных боях и путем морской блокады, которого бомбардировщики были призваны избежать, превратился в воздушную войну, где шансы на выживание экипажей бомбардировщиков в действительности были ниже, чем у пехоты в окопной войне времен Первой мировой войны.
В конечном счете, только техническое превосходство британцев в радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и преимущество американских истребителей сопровождения (особенно Р-51 «Мустанг» с их почти невозможным сочетанием большого радиуса действия и маневренности) дало бомбардировщикам, задействованным против Германии, возможность разрушить столько, сколько они смогли. Однако перед лицом огромного потенциала и гибкости немецкой промышленности даже огромные масштабы британских и американских бомбардировок, на фоне которых налеты Люфтваффе на Британию выглядели карликовыми, могли привести только к замедленному общему эффекту, не более быстрому, чем морская блокада. Бомбардировки даже не смогли достичь быстрых результатов против гораздо более скромного и менее гибкого промышленного потенциала Японии, который страдал больше от нехватки сырья (вызванного потерями судов на море), чем от бомбежек[124]. Таким образом, сторонники «стратегических» бомбардировок сильно переоценили их физический эффект, но изрядно недооценили политическую и промышленную выносливость их жертв.
Когда основанная на цепной реакции распада «атомная» бомба в самом прямом смысле этого слова взорвалась в 1945 году, казалось, что претензии на стратегическую автономность бомбардировок с воздуха, только что опровергнутые опытом войны, абсолютно неожиданно реабилитированы вновь. Перспективы, которые открывались с появлением нового оружия, позволяли думать, что все недостатки бомбардировщиков — технические, тактические и уровня стратегии театра военных действий — отныне станут неважны, а способность жертв сопротивляться будет сведена на нет.
Как учил опыт войны, бомбардировщик не всегда сможет подняться в воздух по плану, если случатся технические неполадки; он не всегда сможет пережить воздействие систем ПВО; не всегда точно достигнет цели; бомбы не всегда будут сброшены точно, и не все из них взорвутся. Как раз вследствие соединения всех этих «принижающих факторов» разрушение посредством стратегических бомбардировок оказалось делом гораздо более труднодостижимым, чем ожидалось, к тому же масштаб требуемых разрушений оказался куда значительнее, чем предполагалось.
С появлением атомной бомбы разрушение городов и промышленных объектов стало делом легким. Таким образом, Дуэ и его коллеги были избавлены от своих грандиозных заблуждений[125], и казалось, что уже ничем нельзя помешать исполнению их предсказаний: как только атомные бомбы начнут производиться в достаточном количестве, воздушные (впрочем, как и иные) средства их доставки станут полностью преобладать, сделав остальные вооруженные силы ненужными. Даже стратегия как таковая тоже окажется излишней, за исключением, конечно же, стратегии ядерной.
Разумеется, неприменение этого нового оружия в ходе дипломатии сдерживания оказалось самым важным обстоятельством для стратегов такой нацеленной на сохранение статуса-кво державы, как США, для которой было достаточно предотвратить агрессию, чтобы победить. Именно на этой смычке между большим разрушительным потенциалом атомной бомбы и конкретным американским видением мира, сформированным политическими обстоятельствами и цивилизационными предпочтениями, была выстроена вся концепция сдерживания. Сначала все твердо верили в то, что «абсолютное оружие» сможет предотвратить все формы агрессии, все войны[126]. Если бы Советский Союз выработал атомную бомбу первым, он тоже, несомненно, сосредоточил бы внимание на способах ее неприменения, но тогда его концепция подчеркивала бы «принуждение» к изменению статуса-кво, а не его сохранение путем сдерживания[127].
Конечно, парализующее сдерживание, которое могло бы удовлетворить такую самодостаточную державу, как США, в той же степени не удовлетворило бы советских лидеров, все еще хотевших изменить положение дел в мире. Эта реакция гарантировала то, что даже ядерное оружие разделит парадоксальную судьбу всех технических новаций в сфере стратегии: чем сильнее рост мощи в результате их появления, тем сильнее нарушение прежнего равновесия, и тем сильнее будет пробужденная реакция на это новшество, которая со временем снизит чистый эффект нового оружия. Когда ядерное оружие появилось в виде атомных бомб, которые могла производить только одна страна и только в небольшом количестве, думали, что это оружие сможет преобразовать всю стратегию. Применение бомб оказалось очень эффективным: центры городов Хиросима и Нагасаки были опустошены без ощутимых негативных последствий для других частей планеты. Эти результаты позволяли делать планы о разрушении пяти или десяти советских городов[128]. И конечно, Соединенные Штаты могли бы не опасаться возмездия, так как ядерное оружие было только у них. Таким образом, угроза ядерного нападения, даже если ее не выражали вслух, и даже если она не была сформирована в умах американских лидеров, могла, как ожидалось, сдержать прямую агрессию.
Но бездействие является успехом только для удовлетворенных держав. В то время как в Советском Союзе делали все, чтобы прямо реагировать на гонку вооружений, разработав не только ядерную, но и водородную бомбу, возникла и асиметричная реакция. Как только появилась ядерная бомба, советским приоритетом того времени стало установление политического контроля над восточной половиной Европы посредством создания местных коммунистических правительств, покорных Москве. Однако местные коммунистические партии были побеждены в ходе первых послевоенных выборов, тогда как открытое применение силы могло бы спровоцировать излишне жесткую реакцию США. Вместо этого стена сдерживания была обойдена с помощью подрывной деятельности[129].
Угрожающее присутствие советских оккупационных войск между 1945 и 1948 годами заставило лидеров партий большинства в Венгрии, Румынии и, наконец, в Чехословакии[130] сформировать коалиции с местными коммунистическими партиями. Полицейские силы во всех этих широких коалициях неизменно подпадали под контроль министров-коммунистов. Вскоре министры из некоммунистических партий, по-прежнему составлявшие большинство в правительствах, но находившиеся под сильным давлением, проголосовали за запрет оставшихся вне коалиций правых партий, которые были обвинены в «фашизме». После этого были образованы новые коалиции, уже без самых консервативных партий/которые затем также были поставлены вне закона или распущены их же лидерами из опасений за свою жизнь. Этот процесс повторялся, шаг за шагом сужая пространство коалиций, пока у власти не остались только коммунисты и их партии-сателлиты. К концу 1948 года процесс был завершен: стена ядерного сдерживания оставалась целой, но советская мощь пробралась в «туннеле» под ней, чтобы установить полный контроль над Восточной Европой без открытого применения силы.
Таким образом, сначала стратегическая автономность ядерного оружия была лишь снижена невоенными методами, которые оставались почти невидимыми. И к тому моменту, когда Соединенные Штаты и Великобритания все-таки отреагировали на эту стратегию, сначала в Европе, а затем и за ее пределами собственными мерами контрподрывной деятельности (финансируя антикоммунистические партии, СМИ, профсоюзы и т. д.), большое количество подобных «туннелей» уже было прорублено под стеной ядерного устрашения, и этот процесс продолжался. Противоборство в логике этого сценария продолжалось еще десятилетия, вплоть до окончания «холодной войны», принимая различные формы. В «репертуар» добавились военные силы стран-сателлитов, спецслужбы, поддержка повстанческой деятельности и международных террористов.
Таким образом, первым результатом ядерного сдерживания стало отвлечение воинственных усилий в сторону менее видимых или непрямых форм конфликта, которые всегда исключали прямое американо-советское боевое столкновение, но не вооруженное насилие в целом. В то время как непрямые и тайные формы конфликта стали частью повседневной реальности международной политики, ядерное оружие вызывало и более прозаические защитные реакции. Советский ответ на угрозу американских ядерных бомб, доставляемых американскими бомбардировщиками дальнего радиуса действия, заключался в придании наивысшего приоритета системам ПВО. Огромное количество оставшихся со времен войны, но все еще вполне пригодных зенитных орудий, радаров, скопированных с моделей, некогда переданных Соединенными Штатами по ленд-лизу, и первых реактивных истребителей и ракет, укрепляло новую систему ПВО, предназначенную для отражения американских бомбардировщиков.
Обычно именно оборонительная реакция больше всего снижает чистый эффект нового вооружения, но в случае ядерного оружия это было не так. Даже системы ПВО, гораздо более эффективные, чем те, которые имелись у СССР в первые послевоенные годы, не сумели бы противостоять ему, потому что всего лишь один-единственный уцелевший бомбардировщик мог бы причинить невосполнимый ущерб. Учитывая неизбежную контрреакцию по усилению жизнеспособности бомбардировщика в боевых действиях, эффективность ядерного оружия едва ли могла быть серьезно снижена одной только системой ПВО.
Даже до того, как Соединенные Штаты столкнулись с угрозой равноценного возмездия (1945–1949 годы), некоторые самоограничения затрудняли применение ими ядерной бомбы. Это оружие не могло разрушить весь мир, но несколько атомных бомб способны были опустошить крупный город, и их огромная разрушительная сила сама по себе превосходила кульминационную точку военной целесообразности по многим причинам, вне зависимости от возможной реакции на применение ядерного оружия со стороны противника. Такая высокая степень разрушений, причиненных даже заклятому врагу, была бы политически неприемлемой и дома, и за границей, если бы только речь не шла о каких-то широкоизвестных и общественно признанных интересах. Поэтому даже во время существования монополии США на обладание ядерным оружием оставалось свободное пространство для целой категории различных войн, которые могли бы вестись «обычными» вооруженными силами. Речь шла, конечно, только о небольших войнах, и велись бы они, несомненно, в отдаленных местах, против второсортных соперников, в интересах не столь уж важных союзников. Возможно, эти войны оправдывали бы себя, но не войны с применением атомного оружия. Таким образом, стратегическая самостоятельность, которую многие охотно присвоили ядерной бомбе, бесполезной уже в применении против непрямого или скрытного нападения, оказалась еще более иллюзорной в контексте недостаточно провокационной агрессии.
И вскоре на горизонте замаячило еще большее снижение стратегической автономности атомной бомбы. Симметричная реакция, вызванная американской ядерной монополией, к 1949 году принесла первые плоды, когда Советский Союз испытал свой первый ядерный заряд (и даже еще раньше — до 1945 года, когда советские разведчики сумели внедриться в «манхэттенский проект»). Хотя между силами бомбардировочной авиации обоих государств не существовало равновесия, одни из них были еще малы, а другие находились в зародыше, но сфера ядерного сдерживания все-таки была затронута самым непосредственным образом: так текущая стоимость будущих денег обычно преуменьшается в то время как будущая военная мощь наоборот — преувеличивается[131].
Как только появилась угроза симметричного возмездия, стратегам пришлось стать более осторожными в том, что касалось предполагаемого применения ядерного оружия, а политические лидеры теперь гораздо неохотнее выступали с угрозами — даже с угрозой устрашения.
То, чего могла бы достичь угроза применения ядерного оружия, либо навязывая другим те или иные действия (принуждение — corpulence), либо вынуждая их к бездействию (сдерживание — deterrence), всегда было ограничено оценками другой стороной вероятности действительного применения атомного оружия, а эта вероятность неизбежно снизилась после того, как стал возможным ядерный ответный удар. До определенной степени на оценках возможности применения ядерного оружия стали сказываться представления о характере политического руководства той страны, которая, как предполагалось, должна прибегнуть к «убеждению»: те лидеры, которых считали очень осторожными, внушали меньше опасений, чем те, кого считали безрассудными. Несмотря на размышления о политической роли безумия, при попытках добиться чего-либо убеждением не было необходимости особенно сомневаться в степени осторожности американского или советского руководства, обычно и так проявлявшего осторожность. Вместо этого пределы ядерного сдерживания определялись в основном восприятием важности интересов, стоявших на кону для каждой из сторон. Одной и той же угрозы было бы вполне достаточно для удержания Советского Союза от прямого нападения на американскую территорию, но она звучала бы гораздо менее убедительно, если бы речь шла о защите второстепенного союзника от периферийного советского вмешательства.
«Баланс взаимно оцениваемых интересов», таким образом, присоединился к балансу технических возможностей при определении того, чего можно достичь с помощью угрозы применении ядерного оружия, сломав простую связь между наличной ядерной мощью и ее ценностью для успеха сдерживания или принуждения. Советские оценки американских интересов с точки зрения американцев, равно как и американские оценки советских интересов с точки зрения Кремля, могли извращаться обеими сторонами посредством искусной пропаганды[132], но лишь в известных пределах: не всякое находившееся под угрозой место можно было превратить в. Берлин, который надо было защищать любой ценой; и не каждые международные связи Советского Союза можно было возвести в степень священного союза.
В итоге добавилась новая категория возможных войн, которые можно было вести обычными вооружениями, еще больше снижая стратегическую самостоятельность, когда-то приписывавшуюся ядерному оружию. Конечно, вероятность того, что проигравшая сторона прибегнет к ядерному оружию, исключала прямое военное столкновение между американскими и советскими вооруженными силами — даже самое незначительное, для удовлетворения какого бы то ни было второстепенного интереса. Таким образом, экспедиционные вылазки, рейды и контр-рейды советских и американских войск друг против друга не играли в «холодной войне» никакой роли. Право прежнего владения, подтверждаемое физическим военным присутствием, стало важнее, чем когда-либо, потому что туда, где находился один, другой зайти не мог.
Но то, что срабатывало в случае защиты вторичных интересов, нельзя было применить в тех случаях, когда затрагивались действительно важные интересы обеих сторон, за которые могла бы вспыхнуть война, даже несмотря на риск применения атомных бомб проигравшей стороной. Эти интересы следовало защищать обычными вооруженными силами, непосредственно на местах. Размещение американских войск и ВВС после 1949 года в Европе[133] и ведение войны в Корее после 25 июня 1950 года знаменовали собой отказ от принуждения только с опорой на ядерное оружие.
В начале 1950-х годов возможности ядерного оружия изменились в двух направлениях. Наряду с разработкой ядерных зарядов, которые высвобождали в 50 или даже в 500 раз больше энергии, чем первые атомные бомбы, появилось много малых тактических зарядов — авиабомб, атомных артиллерийских снарядов, глубинных бомб, морских и наземных ядерных мин, а также ракет и ракетных боеголовок. Воздействие на стратегическую самостоятельность ядерного оружия было противоречивым. С одной стороны, разрушительный потенциал больших атомных бомб с учетом неминуемого аналогичного ответного удара слишком сильно превышал любой кульминационный пункт полезности в целях сдерживания. И в самом деле, кривая полезности настолько резко пошла вниз, что от таких бомб можно было ожидать меньшего, чем от первых атомных бомб с их сравнительно мизерной разрушительной энергией. Естественно, найти причины, способные оправдать начало войны, которая могла бы уничтожить всю земную цивилизацию, намного труднее, чем указать интересы, которыми ранее оправдывали риск войны с применением ядерного оружия. Но, с другой стороны, включение ядерного оружия в каждый вид вооруженных сил значительно снизило важность дисбаланса в обычных силах и вооружениях. При наличии ядерного оружия в авиаэскадрильях и армейских корпусах, на военных кораблях и подводных лодках появился прямой механизм превращения потенциального поражения в неядерной войне в боевые действия с применением ядерного оружия, что могло бы свести на нет все предыдущие успехи победителя.
Оба этих эффекта проявились в практической политике ядерных держав с самого начала появления развернутых ядерных арсеналов в середине 50-х годов, и вплоть до конца «холодной войны» Советскому Союзу не удавалось исключить ядерное оружие из баланса обычных сил и вооружений на суше, где его численное превосходство так и не дало желаемого результата. С другой стороны, американская стратегия «массированного возмездия» (1954–1961 годы), которая должна была вообще упразднить баланс в сфере обычных вооружений, уповая «прежде всего на способность к немедленному возмездию в тех местах и теми средствами, какие продиктует наш собственный выбор»[134], также провалилась.
Массированное возмездие, конечно, подтвердило бы стратегическую самостоятельность ядерного оружия, будь оно успешным. Но теперь уже никогда не узнать, удержали бы советских лидеров одни только ядерные угрозы, поскольку эта политика была лишь продекларирована, но никогда не применялась: Соединенные Штаты не сократили свои неядерные силы до очень низкого уровня, необходимого в качестве «минных растяжек» на мировой периферии, и не сосредоточили все свои усилия на создании «большого арсенала возмездия». Вместо этого на протяжении десятилетий, проходя циклы вооружения, войны, разоружения, инфляции и повторного вооружения, американская деятельность по созданию и поддержанию неядерных сил сама по себе стала лучшим доказательством эрозии ядерного сдерживания.
Как ясно показывает упадок военной полезности, вызванный слишком большой разрушительной силой, ядерное оружие, в конечном счете, тоже подчиняется парадоксальной логике стратегии. Борьба со множеством крупных ядерных зарядов настолько отличалась бы от предыдущих войн, что, несомненно, заслуживала бы специальной терминологии для своего описания. Но в результате такой борьбы не осталось бы ни военной экономики, ни военной поэзии, ни военной пропаганды, ни военного законодательства, ни прочих знакомых нам спутников войны. Все это было бы уничтожено. Однако нет никакой другой логики, которая была бы здесь применима. Все та же стратегическая логика, которую мы исследовали на ее техническом, тактическом, оперативном уровнях и на уровне театра военных действий, объясняет и самоотрицание ядерной войны, что мы и увидим, достигнув уровня большой стратегии.
Глава 12
Возрождение стратегической воздушной мощи
В январе 1945 года, после пяти лет все более и более разрушительных англо-американских воздушных бомбардировок, Берлин был опустошен, и его государственные здания и жилые дома в центральных районах превратились в обгоревшие руины, в то время как в пригородах много фабрик и складов осталось без крыш и стен. Но нацистский министр пропаганды Йозеф Геббельс все еще мог вещать как внутри Германии, так и на весь остальной мир с помощью коротковолновых передатчиков. Гитлер из своего бункера и высшее командование вермахта из Цоссена, располагавшегося неподалеку от Берлина, по-прежнему могли рассылать приказы и получать доклады со всех фронтов по телетайпу, наземным проводным телефонным линиям и по радио, а германская армия по-прежнему могла перемещать и снабжать свои силы по железным дорогам, используя берлинские сортировочные станции, которые, правда, часто бомбили, но и быстро восстанавливали. Что касается населения города, то многие жили в наспех подлатанных домах, но электричество, телефонная связь, общественный транспорт, водопровод, канализация и основные службы жизнеобеспечения функционировали всего лишь с короткими перерывами, так же как и многие кинотеатры. 30 января 1945 года состоялась гала-премьера цветного фильма «Кольберг», на которой присутствовало много гостей.
Спустя менее чем 48 часов после начала воздушного наступления на Ирак 17 января 1991 года Багдад в целом нормально функционировал, как и в течение всей войны в Персидском заливе, но Саддам Хусейн и его спикеры уже не могли вещать по телевидению или по национальному радио, все крупные военные штабы в городе с их радиокоммуникациями были разрушены, а в Багдаде большая часть населения осталась без электричества, телефонной связи, общественного транспорта, водопровода и канализации. Война едва успела начаться, а лидеры Ирака и его военное командование уже «ослепли», «оглохли» и потеряли свободу передвижения по парализованной столице, будучи неспособны установить, что происходит за пределами Багдада, настолько быстро, чтобы успевать с толком реагировать, и в любом случае не имея возможности посылать приказы каким-либо иным путем, кроме как с курьерами и по сохранившейся оптико-волоконной связи, соединявшей столицу всего лишь с несколькими местами.
Непосредственным результатом этого обездвиживания с воздуха было выведение из строя хорошо вооруженной иракской ПВО. Все базы ВВС с их истребителями, батареи ракет или зениток остались при своих орудиях, но лишились систем раннего обнаружения, необходимых для того, чтобы привести эти орудия в боевую готовность и без централизованного командования. Для того чтобы следить за вторгнувшимися в воздушное пространство самолетами и атаковать их снова и снова, чтобы, использовав угрозу ракет ПВО дальнего радиуса действия, загонять самолеты противника на низкие высоты и подставлять их под огонь переносных ЗРК и зенитных орудий и чтобы встречать концентрированные атаки с воздуха концентрированной противовоздушной обороной, система ПВО должна быть частью единого целого. Но ПВО Ирака таковой уже не была, потому что все ее национальные и региональные контрольные центры уничтожили. Важные радары раннего оповещения были уничтожены еще в начале воздушной войны, а взлетно-посадочные полосы многих баз ВВС были повреждены. Действующими оставались некоторые иракские радары слежения и бесчисленные пункты воздушного наблюдения, взлетно-посадочные полосы были быстро отремонтированы — но все это не играло никакой роли, так как уже не было централизованного командования, которое могло бы обобщить поступавшую информацию, направить истребители на перехват, если они еще могли взлететь, и координировать большое количество оставшихся невредимыми ЗРК и зенитных орудий.
Что касается огромных иракских сухопутных сил, то эффект воздействия на них атаки с воздуха был скорее кумулятивным, чем немедленным. Но довольно скоро и сухопутные войска оказались парализованными, будучи не в состоянии снабжать продовольствием, водой, топливом и боеприпасами большие контингенты в Кувейте и рядом с ним, поскольку были разрушены железнодорожные и обычные мосты, нефтеперерабатывающие заводы, склады нефтепродуктов и большинство крупных складов боеприпасов, включая бомбы, снаряды и боеголовки для ракет, а также сами ракеты. Не могла иракская армия и двинуть свои силы ни назад в Ирак, ни вперед в Саудовскую Аравию, потому что эти силы были бы обнаружены и мощно атакованы с воздуха. Но, даже если бы они остались на своих тщательно замаскированных и зарытых в землю позициях, танки, БТР и орудия все равно были бы уничтожены прямыми попаданиями управляемых боезарядов[135], наряду с самолетами в бетонных ангарах или вне них, ракетными батареями, командными постами, боевыми кораблями и многим другим. Гордость режима, его большой военно-промышленный комплекс также был серьезно поврежден в ходе атак с воздуха. После войны инспекторы ООН обнаружили немало сохранившихся военных объектов, но многие сборочные линии, фабрики и ремонтные мастерские, центры разработки ракетного и ядерного оружия, фабрики по производству средств химической и бактериологической войны, промышленные предприятия и склады были разбомблены, причем вполне успешно.
Англо-американское воздушное наступление на Германию разрушило многие города, и большие, и малые, но не нанесло никакого прямого урона германской военной мощи. Напротив, в 1991 году воздушная атака на Ирак оставила в неприкосновенности почти все его крупные и мелкие города, но нанесла сокрушительное поражение иракским вооруженным силам, так что запланированное решающее наземное наступление не привело к серьезным боям, поскольку ему почти никто не противостоял. Иракские войска, почти обездвиженные, часто голодные и страдающие от жажды, сократившиеся в числе из-за дезертирства[136], уже потерявшие от ударов с воздуха многие виды своего тяжелого вооружения[137], почти не сопротивлялись 100-часовому маршу союзных наземных сил вокруг Кувейта и по его территории. Защищенные прочной броней американские боевые танки М-1 продвигались практически без помех, но таким же образом наступали и легкобронированные БТР, и джипы французского Иностранного легиона, и даже взятые в аренду машины смелых до безрассудства журналистов. Даже сама логика наземного наступления была обусловлена осознанием военно-воздушной мощи: вооруженные силы США и войска коалиции наступали разрозненными колоннами, отстоявшими друг от друга слишком далеко для того, чтобы иметь возможность оказать друг другу поддержку, так как все были уверены, что любая попытка иракцев напасть на одну из колонн будет немедленно пресечена атакой с воздуха.
В конечном счете, именно военно-воздушная мощь выиграла войну, в том объеме, в котором Соединенные Штаты хотели выиграть ее. Президент Джордж Буш объявил в одностороннем порядке о прекращении огня 27 февраля 1991 года, когда Саддам Хуссейн еще оставался у власти и имел в своем распоряжении значительные силы. Только завоевание всего Ирака наземными силами могло бы гарантировать ликвидацию режима Саддама Хуссейна. Однако если бы разработчикам удара с воздуха поручили выполнить эту задачу, они не справились бы с ней, просто продолжая наносить удары с воздуха в течение достаточного долгого времени. Если бы движение по дорогам в Багдад и из него, а также ремонтные работы по восстановлению систем жизнеобеспечения и средств связи были парализованы ударами с воздуха, то в высшей степени централизованный иракский диктаторский режим оказался бы полностью отрезанным от оставшейся части страны. Став в собственной осажденной столице беженцем, вынужденным прятаться от воздушных атак, Саддам Хусейн наверняка утратил бы контроль над государственной системой безопасности и пропагандистской машиной, благодаря которым держалась его власть. Но еще задолго до этого любая часть страны, более или менее отдаленная от столицы, была бы освобождена от гнета, и мощные оппозиционные силы вырвались бы наружу как на юге, населенном шиитами, так и в северном Курдистане. Именно такая перспектива и побудила президента Буша остановить войну на том этапе, на каком он это и сделал. Если бы Ирак распался, то потребовалось бы постоянное военное присутствие США в Месопотамии, чтобы удержать экспансию Ирана.
Понять, что именно произошло в ходе той или иной войны — даже недолгой, односторонней и ограниченной одним-единственным театром военных действий, — обычно очень нелегко, так как реальное развитие событий нужно рассмотреть сквозь слепящие отблески различных уровней войны: политического, стратегического, оперативного, тактического и технического. Каждый из них своеобразен, а некоторые противоречат друг другу. В качестве примера можно привести участие арабских войск в антииракской коалиции, очень ценное с политической точки зрения, но незначительное с точки зрения оперативной, хотя, опять же, потенциально полезное на уровне стратегии театра военных действий, поскольку египтяне, сирийцы и саудовцы, по крайней мере, присутствовали на среднем участке фронта между морской пехотой США на побережье и основными силами армии США и Великобритании в глубине территории. Если бы вместо случившейся кавалькады там разгорелись настоящие бои, то присутствие в коалиции арабских войск могло бы сыграть определенную роль.
Само наличие и взаимодействие различных уровней дает повод для грандиозной сумятицы и множества противоречий, что доказывают бесконечные переписывания военной истории. Это же предоставляет некоторые возможности для неверной интерпретации: либо с целью удовлетворить личные амбиции, либо для того, чтобы потрафить притязаниям тех или иных соперничающих военных ведомств. С помощью выбора того или иного уровня, который лучше всего подходит для выполнения намеченных целей — тактического или политического, оперативного или стратегического, — можно аргументированно доказать целый ряд тезисов и извлечь практически любой «урок», часто для того, чтобы оправдать те или иные решения военных, сделанные гораздо раньше-, или подчеркнуть заслуги того или иного рода войск или вида вооружений. Если уж пускаться в это методологическое болото, то при условии воздержания от всякой попытки извлечь так называемые уроки из любой войны, до тех пор пока эта война не будет всесторонне осмыслена на различных уровнях и в обоих измерениях. А эту задачу, как правило, удается решить только после того как сменятся примерно два поколения, бывшие противники уже отойдут в мир иной, все эмоции утихнут, и последние тайны будут раскрыты.
Только один вывод о войне в Персидском заливе 1991 года можно сделать уверенно: боевые действия разворачивались без обычного в таких случаях чередования приливов и отливов военной удачи, что, как правило, характеризует любую серьезную войну, поскольку был достигнут немедленный успех в исторически небывалой воздушной атаке, «обезглавившей» противника. В остальном же пока можно сделать только первоначальную попытку понять, что же в действительности произошло, не пытаясь извлечь из этого непререкаемые выводы. Наступательная военно-воздушная мощь в особой степени зависит от ситуации, в частности, от интенсивности конфликта. В крайнем случае, например при сугубо партизанской войне, бомбардировка с воздуха обречена на то, чтобы оказаться бесполезной, вне зависимости от ее убийственного эффекта или от точности. Выявить какие-либо стратегические цели для авиации невозможно, ведь партизаны слишком рассеяны для того, чтобы их можно было бы успешно бомбить, а их пропагандисты, снабженцы и вожди неотличимы от обычного населения. Напротив, в той мере, в какой возрастает интенсивность конфликта, растет и потенциальная ценность наступления с воздуха, достигая, в конце концов, другой своей экстремальной точки — войны, которую можно выиграть только за счет ВВС. К этой категории относились войны в Персидском заливе 1991 года и в Косове 1999 года, если, конечно, согласиться с тем, что их единственной целью было выдавить наступавших из Кувейта и Косова соответственно.
С определенной долей осторожности можно сделать еще два вывода относительно двух этих войн. В обоих случаях ВВС были решающим видом вооруженных сил, притом — в степени, небывалой в анналах истории войн; в обоих случаях наступления с воздуха отличались сутью, а не размахом, от всех предыдущих воздушных сражений. Ибо вовсе не огромное количество сброшенных с воздуха боеприпасов привело к достигнутым результатам.
Во время войны в Персидском заливе на брифингах для СМИ царил торжественный настрой и каждый день количество произведенных боевых вылетов объявлялось так, как будто бы каждый из них завершался бомбовым ударом. Между тем только половина из примерно 110 000 вылетов, зафиксированных с начала кампании 17 января 1991 года до прекращения огня 27 февраля 1991 года, были «ударными»[138]. И даже, эти самолеты несли не слишком большую бомбовую нагрузку. Даже огромные старинные бомбардировщики В-52 несли примерно половину нагрузки в сравнении со своими предшественниками в войне во Вьетнаме, сбросив в общей сложности 25 700 тонн бомб во время 1624 боевых вылетов[139], то есть 15,8 тонны за вылет. Что же касается основной массы истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков (т. е. легких бомбардировщиков), то их средняя бомбовая нагрузка была гораздо меньше, чем теоретически возможная. Например, истребители-бомбардировщики F-16 (самый массовый самолет ВВС США) были, как правило, вооружены двумя бомбами Mk-84 общим весом в 4000 фунтов, что составляет практически только одну треть максимальной нагрузки этого типа самолета[140]. Что же касается легких бомбардировщиков F-117«Стелс» (которые сложно засечь) — единственного типа пилотируемых самолетов, которые атаковали цели в центре Багдада, — то они несли в среднем по 1,5 тонны бомб во время 1300 боевых вылетов в ходе войны[141]. В реальности средняя бомбовая нагрузка на каждый американский боевой самолет, за исключением В-52, составляла чуть менее тонны[142]. В общем итоге совокупный вес всех бомб, сброшенных на Ирак, составил 90 000 тонн, включая силы коалиции и все виды боеприпасов: как управляемых, так и неуправляемых[143].
Эта цифра может показаться огромной, но лишь в том случае, если не сравнивать ее со 134 000 тоннами бомб, сброшенных на Германию только за один месяц — март 1945 года. К то муже она не включает в себя огромное количество неучтенных бомб и ракет, сброшенных на Германию более чем тремя тысячами американских, британских и советских истребителей-бомбардировщиков.
Вышесказанное подводит нас к обманчиво простому выводу, который наделе полон осложнений: именно небывалая точность ударов с воздуха, а не их объем, позволила добиться ошеломляющих результатов. Еще более противоречивый тезис осторожно предлагается ниже: только точные удары с помощью управляемых боеприпасов были решающими, в то время как в остальном бомбардировки были не более эффективными, чем во всех предыдущих воздушных сражениях, по большей части неэффективных вовсе.
Несмотря на все обсуждения и изображения «умных» бомб и ракет, столь характерные для репортажей СМИ во время войны, как в Персидском заливе, так и в Косове, это «умное» оружие составляло лишь небольшую часть реально использованных боеприпасов. Из всех видов боеприпасов, сброшенных или выпущенных по Ираку вооруженными силами США во время войны в Персидском заливе, только 17 109 управлялись при наведении на цель, в то время как 177 999 были обычными неуправляемыми бомбами: некоторые из них — кассетные того или иного типа, но большинство — обычные «железные» бомбы, очень похожие на своих предшественниц времен Второй мировой. Значительная часть последних (72 000)[144] была сброшена бомбардировщиками В-52, но большая часть была доставлена к целям истребителями-бомбардировщиками, многие из которых могли бы быть оснащены точным оружием[145]. Точно так же на боеголовки управляемых боеприпасов всех типов пришлась только 6 631 тонна из общего количества 71 627 тонн боеприпасов, сброшенных или выпущенных американскими войсками[146]. Таким образом, если исходить из количества примененных вооружений различных типов вооружений, воздушная война против Ирака была на 91,2 % старомодной бомбардировкой; а если принять во внимание тоннаж, то этот процент снизится до 90,74 %. Но в любом случае старомодная бомбардировка останется преобладающей в воздушной войне, даже без учета ВВС союзников по коалиции, из которых только французы применили достаточную долю управляемых боеприпасов. В войне за Косово пропорция управляемых боеприпасов была большей, но все же далеко не такой, чтобы представлять собой полный тоннаж примененных средств.
Мы отлично знаем, что принесли успешные точные удары с воздуха во время войны в Персидском заливе — в некоторых случаях эти результаты показывали по телевидению (ожидать репортажей о неудачных налетах — это было бы уже слишком). Каждая ракета или управляемая бомба, которая достигла своей цели (а это была очень большая доля, свыше 50 %), уничтожила или повредила одну из целей — здание, систему вооружений и т. п., — специально отобранных в качестве мишени для атаки, немедленно лишив Ирак всех функций, которые тот или иной объект должен был играть в предстоявшем конфликте. Нам известны и последствия прекращения телефонной связи, когда был уничтожен центральный телефонный узел, а также массового бегства самолетов в Иран, после того как якобы прочные ангары иракских ВВС стали уничтожаться один за другим, и прерывания снабжения иракских войск в Кувейте, когда были разбиты железнодорожные и шоссейные мосты.
Столь непосредственные и конкретные результаты, конечно, резко отличаются от тех, что достигались бомбардировками старого типа, где каждый боеприпас, даже успешно сброшенный вблизи от цели, вносил не поддающийся точной оценке вклад в общий ущерб, который можно было бы впоследствии увидеть, рассматривая фотографии объекта после атаки или воронки от бомб, упавших рядом, не причинив никакого вреда.
Нельзя утверждать, что в тех случаях, когда ничего существенного уничтожено не было, удалось достичь какого-то воздействия на «боевой дух» противника при атаках с применением управляемого оружия. Его отличие от обычных бомбардировок стоит искать не в этом. Ведь из анализов итогов всех предыдущих бомбовых атак мы знаем, что даже когда за счет случайного попадания бомб все-таки производятся какие-либо разрушения, способность противника к ведению боевых действий еще не обязательно как-либо существенно ослабляется. Конечно, встречаются и исключения. Например, в одном из драматических эпизодов войны в Персидском заливе неуправляемые бомбы были сброшены намеренно в рассеянном порядке на столь же рассеянные по местности склады боеприпасов иракской армии. Цепи взрывов лишили иракские силы в Кувейте и его окрестностях значительной части боеприпасов. Но при бомбардировках старого типа с использованием неуправляемых бомб такая непосредственная связь между действием и его результатом обычно все-таки маловероятна.
Стоит отметить, что даже самые точные из управляемых боеприпасов могут быть использованы только против «точечных» целей, то есть таких, когда всего лишь одним взрывом можно разрушить или вывести из строя какую-либо часть объекта или весь объект целиком. Такой целью может быть одиночный объект типа артиллерийского орудия, одиночного самолетного ангара или достаточно компактного здания. Во время войны в Персидском заливе такими одиночными целями были высотные здания штаб-квартиры военной разведки, министерства обороны и некоторых других министерств в Багдаде: все они внешне сохранились, но все их этажи были пробиты насквозь, от крыши до пола на уровне мостовой. Равным образом даже солидные железобетонные мосты с четырьмя полосами движения выводились из строя всего двумя бомбами, прицельно сброшенными так, чтобы перерезать их по всей ширине. В Белграде, в городе Нови-Сад и в других местах Югославии списки целей, которые можно было вывести из строя всего одним попаданием, очень походили друг на друга.
Но остаются все же так называемые протяженные цели[147], недостаточно компактные для того, чтобы их можно было вывести из строя одним, а порой даже двумя или тремя попаданиями. Это именно те цели, существование которых оправдывает неуправляемые бессистемные бомбежки. Но насколько обычны такие цели — и можно ли вообще успешно атаковать их с воздуха? В случае войны в Персидском заливе такой вопрос может показаться праздным, поскольку само по себе размещение огромного количества иракских наземных сил в Кувейте и в его окрестностях представляло собой множество «протяженных» целей. Конечно, иракцы были рассредоточены на местности, как и должны поступать мало-мальски компетентные сухопутные войска. Позиции взводов были достаточно отделены и друг от друга, и от ротных КП, равно как и сами роты были размещены в отдалении от штаба полка и от полковой артиллерии.
Кроме того, разрозненные подразделения рассредоточенных таким образом сил нельзя атаковать с воздуха индивидуально. Взвод — это скорее абстракция, а не реальный физический объект, который можно атаковать управляемым оружием с воздуха. Если пилот — или, еще лучше, беспилотный летательный аппарат — пролетает над взводом, картина, открывающаяся ему на земле, будет состоять из трех или четырех одиночных танков, когда речь идет о бронетанковом подразделении, о таком же количестве БТР, когда речь идет о механизированном подразделении, и о дюжине стрелковых ячеек и блиндаже, когда речь идет о пехотном взводе. В первом случае удары управляемым оружием еще могут принести пользу. У Саддама Хусейна было множество танков, но все же не слишком много для того, чтобы атаковать их индивидуально бомбами GBU-12 с лазерным наведением стоимостью $9000 каждая. Но второй случай уже довольно сомнителен: БТР гораздо дешевле танков, и их было еще больше в иракской армии, оснащенной с большим размахом. Если цель бомбежки была скорее тактической, чем стратегической (например, остановить наступление с применением этих самых БТР), бронетранспортеры не заслуживали индивидуального поражения с воздуха. А третий случай вообще предельно ясен: рассредоточенные стрелковые ячейки и блиндажи не заслуживают того, чтобы атаковать их даже самым дешевым управляемым оружием.
Поскольку наземные войска, предназначенные для защиты территории, действительно представляют собою «протяженные» цели, преобладание бомбардировок старого стиля в войне в Персидском заливе оказывается вполне оправданным, что верно и для бомбардировок неуправляемыми боеприпасами во время войны в Косове. Но из того, что атаки с воздуха дорогими управляемыми боеприпасами против рассредоточенных войск непрактичны, отнюдь не следует, что воздушные удары с применением дешевых неуправляемых бомб эффективны. Напротив, и старые, и современные данные показывают в основном обратное. Наиболее известные примеры, то есть сражение за Монте-Кассино в 1943 году и удары с воздуха в Нормандии в 1944 году, демонстрируют, что самые крупные бомбардировки наземных сил во Второй мировой войне дали ничтожные результаты, равно как и все прочие подобные бомбардировки до и после этого[148]. Для пилотов, взиравших сверху на созданный ими хаос разрушения, такой результат показался бы невероятным. Он оказался удивительным и для союзных сухопутных частей, взбиравшихся на гору Монте-Кассино в 1943 году, будучи уверенными в том, что ни один немец не выжил в результате каскадных бомбежек, после которых от старого монастыря остались одни руины. Однако нападающие были сметены пулеметным огнем. То же самое произошло и с британскими танками, наступавшими на город Кан после его разрушения с воздуха: они натолкнулись на немецкие противотанковые пушки, большинство из которых пережило налет. В войне за Косово в 1999 году довольно небольшие контингента югославских войск (менее 25 000 человек в общей сложности) несколько недель подвергались тяжелым бомбардировкам; но, когда в Косово вошли войска НАТО, а югославские части отступили в Сербию, выяснилось, что потери югославов в людях и в вооружении составили около 2 %, а не 25 %, как ожидалось по прежним натовским оценкам.
Все всегда происходит одинаково. Бомбы падают со страшными взрывами, земля содрогается, комья дерна и камни взлетают в воздух, войска поражены ударной волной, у многих из носа или из ушей течет кровь, солдаты в ужасе и впадают либо в апатию, либо в самую настоящую панику. Но, если только противник не находится поблизости и не готов к немедленному наступлению[149], то этот удачный момент быстро проходит. Взрывы прекращаются, земля перестает вздыматься, войска успокаиваются, и тогда выясняется, что количество убитых и раненых очень невелико, причем настолько невелико, что те, кто подсчитывают потери, сильно удивлены — хотя еще больше достойно удивления то, что до сих пор многие не знают довольно известного факта: бомбы редко убивают военнослужащих, размещенных на местности. Именно их естественное рассредоточение так успешно защищает их, даже если они не окапывались, как это по большей части было с иракцами в самом Кувейте или в его окрестностях (или с югославами в Косове), несмотря на фантастические истории о надежных бомбоубежищах, которые пресса распространяла вместе с выдуманными диаграммами[150].