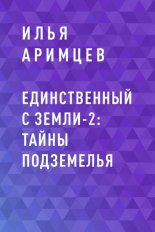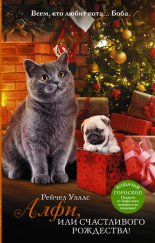Театр отчаяния. Отчаянный театр Гришковец Евгений
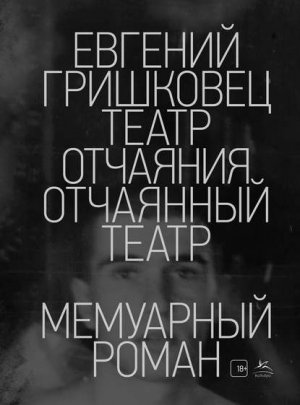
Дивную книгу Туве Янссон про Муми-тролля, фрёкен Снорк, Снусмумрика, страшную Морру и прочих я знал. (Кстати, тогда я думал, что Туве Янссон – это мужчина, а не женщина.) Знал я эту книгу не с детства. В моём детстве её не было. Попала она мне в руки случайно. Кажется, отец привёз её откуда-то из командировки. Привёз не мне, а в подарок кому-то из племянниц. Мне уже не впору было такое привозить. Я тогда вовсю читал Джека Лондона и Стивенсона. Но я проглотил эту книжку с восторгом и даже не хотел, чтобы её кому-то дарили. Хотел оставить себе, но устыдился об этом просить, считая себя слишком взрослым, чтобы признаться в том, что мне понравилась детская сказка. Книжку же и иллюстрации в ней я запомнил и полюбил сразу пожизненно.
А вот что такое пантомима, я знал смутно. Пантомимой для меня были худые люди во всём обтягивающе-чёрном, с белёными грустными лицами. Их я видел несколько раз по телевизору. А может быть, я несколько раз видел одного и того же человека. Просто я не придал значения увиденному. Эти люди, или человек, занятно двигался, ходил под музыку на месте, но казалось, что он скользит в пространстве. Ещё он очень ловко изображал невидимый зонт, который у него вырывает из рук невидимый ветер. Он мог удивительно плавными, волнообразными движениями рук изобразить летящую птицу. Но самым поразительным было его умение, как бы наткнуться на несуществующую стену или стекло, упереться в него руками и передать движениями то, что эта стена незыблема и гладка. Меня это позабавило, но не более того.
Как можно сделать некой пантомимой целый спектакль по довольно большой сказке, я совершенно не мог представить. Спектакль без слов, но не балет – как это? К тому же спектакль без слов не по какому-нибудь непонятному «Лебединому озеру» или таинственной «Жизели», а по нормальной, весёлой истории, в которой много юмора и полно долгих разговоров, без которых книга «Шляпа волшебника» просто не книга. Я сразу решил, что ничего хорошего некая студия пантомимы сделать не может. Покривляются, поизгибаются, и всё. Но волнение наполнило меня. Волнение, прежде мне неведомое. Оно скорее было похоже на тревогу, предчувствие чего-то значительного.
Я зашёл в Дом учёных очень робко. В коридорчике при входе, на лестницах и в помещении за ними никого не было. Но там царили звуки. Они доносились из недр дома, из-за дверей. Где-то кто-то наигрывал что-то на пианино. Слышались голоса, смех. Вправо уходил коридор, но там было темно. В помещении, в котором я оказался, тускло светилась одна лампа, стоявшая на столе. Стол стоял в углу. Все двери в помещении были заперты.
Вдруг одна дверь распахнулась, из неё вылился яркий свет и вышла маленького роста дама. Она прошла к столу с лампой, по ходу щёлкнула выключателем на стене, и надо мной зажглась люстра. Стало светло. Дама проследовала за стол, стала выдвигать его ящики и выкладывать какие-то бумажки, брошюры, тетради. Всё это она быстро разложила на столе в каком-то ей понятном порядке, села и только тогда посмотрела на меня.
– Вы к кому, молодой человек? – спросила она.
– Я… жду, – только и ответил я.
– Как угодно, – сказала дама, раскрыла книжку и стала читать.
На стене часы показывали пятнадцать минут седьмого. Звуки из открытой дамой двери полетели более ясные и громкие. Пианино забренчало лихую мелодию, мужской голос запел что-то без слов. Запел гортанно, некрасиво, но забавно. Вместе с голосом послышались хлопки в ладоши. Хлопали несколько человек. Отбивали ритм.
Я стоял совершенно неподвижно и бесшумно. Дама за столом периодически перелистывала страницы. Чего я хотел и ждал тогда – не знаю. Не помню, чтобы хотел на спектакль. Скорее нет. Не думаю, чтобы меня как-то заинтересовали и заинтриговали доносящиеся откуда-то звуки фортепиано и голосов. Я просто стоял и не мог уйти. Я не мог с места сдвинуться, шелохнуться. Непонятное волнение полностью владело мной. Так простоял я минут десять. И стоял бы ещё, но из тёмного коридора появилась высоченная, очень стройная, даже скорее тонкая фигура.
– Ну что, нет пока никого? – сказала фигура, выходя на свет.
Из коридора вышел высокий и весь прямой вытянутый парень, определённо старше меня, но молодой. Одет он был в тёмно-зелёное обтягивающее трико, точнее сказать, комбинезон. То есть трико на всё тело, без отдельного верха и низа. Обут он был в тяжёлые, высокие, давно немытые ботинки, в одной руке нёс пальто, а пальцами другой руки сжимал сигарету.
– Рано ещё, скоро пойдут, – оторвавшись от книги, сказала дама.
– Точно придут? – спросил парень с усмешкой.
– Обязательно! Билетов-то уже нету, – прозвучало из-за стола.
– Странно. Любят люди сказки. На «Шляпу» ходят по нескольку раз, – сказал парень и посмотрел на меня. – Ладно, пойду покурю, пока никого.
Он накинул на худые плечи пальто, ссутулился и пошёл на улицу.
Я точно зашёл в Дом учёных не с целью попасть на спектакль некой студии пантомимы. Само слово «спектакль» меня раздражало. В конце концов, если бы я хотел спектакль, то спокойно на следующий день пошёл бы в театр и имел «На всякого мудреца довольно простоты». А я не хотел никаких спектаклей. На спектаклях был поставлен жирный крест.
Но когда я услышал – «Билетов-то уже нету», у меня сразу отчётливо засосало под ложечкой. Волнение же усилилось многократно. Не могу сказать, что я сразу захотел попасть на спектакль, но, услышав, что это невозможно, ощутил какую-то жажду неутолимую.
Парень вернулся вскоре, скинул пальто с плеч, повесил на руку, а другой стряхнул с головы, с короткой стрижки, тающий снег.
– Ну что, пойду гримироваться, – сказал он, проходя мимо.
– Давай, давай, – сказала дама, не отрываясь от книги.
Он уже почти вошёл в тёмный коридор, как вдруг оглянулся и посмотрел на меня. Помню это ясно. Он что-то захотел сказать. Мне. Но не сказал. Вместо этого улыбнулся и ушёл.
Вскоре стали приходить люди. Они входили шумно, как входят в хорошо знакомые и привычные дома. Топали, стряхивали с обуви снег. Громко говорили. Люди все были с морозца румяные и весёлые. Разных возрастов и, очевидно, разных занятий, вкусов и интересов. Но без исключения симпатичные. В основном взрослые. Кто-то пришёл с детьми. Самыми шумными оказались две старушки. Смешливые и радостные, как две одноклассницы. Они о чём-то поговорили с дамой за столом и вместе посмеялись.
Многие подходили к столу, рассматривали лежащие на нём бумажки, брали какие-то себе, спрашивали даму о чём-то и шли в дверь, из которой до того доносились звуки фортепиано. К даме они обращались как к давней знакомой и все здоровались друг с другом. Я отошёл к дальней стене и безмолвно наблюдал за происходящим. Ни у кого на лице не было хорошо мне известного выражения возвышенной торжественной печали. Никто не говорил вполголоса.
Когда на часах стрелки показали без семи семь, пришедших стало совсем много для небольшого фойе. Все галдели. А потом левая, прежде закрытая, дверь открылась – и из неё повалили люди на выход из Дома учёных. Видимо, лекция закончилась. Случилась пятиминутная весёлая давка. Меня плотно прижали к стене, и я быстро весь вспотел под курткой и шапкой. Без двух минут семь в фойе почти никого не осталось. Я отошёл от стены и продолжал безмолвствовать. Надо было уже идти. Но я не мог. Я не стремился пройти туда, куда все проходили на спектакль, я не переживал, что нет такой возможности, не собирался кого-нибудь просить всё же пропустить меня. Я просто стоял. Никогда не пойму зачем и почему. Без одной минуты семь никого в фойе не осталось. Только дама за столом и я. Она посмотрела на меня и стала убирать свои бумажки в стол.
– Больше ждать некого, – сказала она. – Все с лектория ушли. Сейчас уже начнётся спектакль. Вам тут одному нельзя.
Я кивнул и сделал невыносимо тяжёлый шаг в сторону выхода. Что-то внутри обрывалось и рушилось. Но делать было нечего. Второй шаг дался ещё труднее первого.
Тут я услышал лёгкие шаги сзади. Совсем почти неслышные, но я их уловил и оглянулся. Из тёмного коридора вышел тот самый высокий парень в зелёном трико. Только в этот раз на его ногах были белые тапочки, вроде спортивных гимнастических, а на лице его был белый грим с чёрным ртом.
– Ну что, можем начинать? – спросил он.
– Да. Все пришли, – сказала дама.
– Все, да не все, – грустно скривив чёрный рот, сказал парень. – Моя красотка опять не пришла.
– Ой, и верно, билетик так и лежит, – спохватилась дама. – Не видела её.
Всё время этого разговора я делал третий и четвёртый неподъёмные шаги.
– Слышь, паренёк, – услышал я и не сомневался, что высокий стройный человек в зелёном трико обратился ко мне. – Ты куда?
– Я… пошёл, – ответил я, остановившись и сделав неопределённый жест в сторону входной двери Дома учёных.
– А не хочешь посмотреть наш спектакль? Есть место свободное. Освободилось.
Я пожал плечами. Не смог сказать «хочу». Это было бы ложью. А сказать «я должен его посмотреть» язык не повернулся. Да я ещё и не сформулировал для себя то, что со мной происходило.
– Ты откуда такой серьёзный? – с усмешкой спросил парень. – Из Меда или из ТИАСУРа?
– Я из Кемерова, – просто ответил я.
– Ну… – парень коротко рассмеялся, – у нас спектакль не серьёзный… Игривый… Не для таких строгих людей. Но, если хочешь, проходи. Только решай быстро.
Я очень быстро подошёл к нему. Моментально. Сердце билось бешено.
– Дайте ему мой билетик, – сказал парень даме. – А ты давай быстро, быстро в зал, – это он сказал уже мне. – Всё, я побежал.
И он почти бесшумно исчез в темноте коридора.
– Вот, держи билет, – услышал я и полез рукой в карман. – Не надо денег. Тебе билет подарили. Бегом туда. Куртку на вешалку, – почти прокричала дама мне, вбегающему в Те самые двери.
На бегу я сдирал с себя куртку. Что тогда со мной происходило? Не могу описать. Радости не было точно. Волнение вдруг пропало. Я ни о чём не думал. Я просто делал то, что должен был делать. И я удивительным образом ощущал это долженствование.
За дверьми оказалось небольшое помещеньице с окном и вешалками по стенам. На всех этих вешалках висело полно одежды. Я молниеносно повесил свою куртку поверх чьих-то пальто и шуб. Потом три шага – и я оказался в пространстве, в каком не бывал.
Нет, нет, я не шагнул в дивные чертоги, в которых отовсюду зазвучала бы музыка и засверкало бы ослепительное сияние красоты. Я не очутился в таинственном гроте гномов и не опустился на дно морское…
Из помещения с вешалками я зашёл в другое. Оно было вытянутое. Возможно, когда-то, в аристократическом доме, который впоследствии стал Домом учёных, это была гостиная или столовая. Кто знает, как жили сибирские аристократы? Стена справа была полностью завешена плотной тканью. Там, за тканью, наверняка находились окна. Другая стена была просто светлой, со светильниками. Вдоль стены с дверью, в которую я вошёл, на стульях сидели люди. Всего было два ряда стульев. А ещё на полу, в ногах у сидевших на стульях, были разложены подушки, какие обычно составляют спинки диванов. На них разместились те, кто помоложе. Остальные, в основном дети, сидели на маленьких подушечках или просто на полу. Получалось четыре ряда зрителей. Всего человек сорок пять – пятьдесят, не более.
В дальнем конце помещения я увидел расставленные ширмы, стремянки, какие-то обтянутые тканью большие кубы. К потолку крепилось несколько металлических труб, на которых висел десяток небольших прожекторов.
Больше я не успел ничего разглядеть. Кто-то положил мне руку на плечо и шёпотом сказал: «Давай проходи, садись на пол». Я послушно прошёл к тем, кто сидел на полу. Несколько человек сдвинулись в сторону и освободили мне немного пола. Кто-то снова потрепал меня по плечу и сказал: «Держи». Я не оглянулся, не увидел говорящего, но у меня в руке оказалась маленькая, упругая квадратная подушечка. «Давай, давай», – только и услышал я, быстро сел, предварительно подложив подушку, захотел оглянуться, чтобы увидеть человека, чей голос обратился ко мне так дружески, но тут свет настенных светильников погас, стало темно, и заиграло то самое пианино, следом зазвучал забавный гортанный голос, и невидимые ладоши стали отбивать ритм. Через какие-то мгновения вспыхнул прожектор.
Круг света упал на ширму. Музыка заиграла громче, а из-за ширмы высунулся человек, с торчащими вверх и стороны волосами, белым лицом, обведёнными глазами и большим красным ртом. Зрители зааплодировали, и я тоже стал хлопать.
Именно в этот момент со мной что-то произошло. С чем произошедшее можно сравнить? Разве что с тем, как, когда долго идёшь с тяжёлым рюкзаком за плечами, устал, а потом сбрасываешь его и вдруг чувствуешь в себе лёгкость, множество сил и способность подпрыгнуть высоко-высоко.
Примерно то же случилось со мной тогда. Я вдруг ощутил, что тяжесть ожидания непонятно чего, тревога предвкушения неведомого, груз сомнений и предубеждений – всё исчезло, можно дышать свободно и легко. Я выдохнул всё вышеперечисленное и просто задышал. Мне стало хорошо. Весело. Совсем легко. Без мыслей.
А выглянувший из-за ширмы человек, дождался окончания аплодисментов, строго глядя на зрителей. Мне же казалось, что он смотрел именно на меня. А потом он улыбнулся во весь свой большой рот. Я улыбнулся в ответ. Музыка оборвалась, и человек вышел из-за ширмы на яркий свет.
Он оказался маленького роста и щуплым. На нём были несоразмерно большие мешковатые штаны с лямками и майка с коротким рукавом. На голой его шее забавно болтался галстук-бабочка в горошек. Обувь его напоминала огромные, сшитые из чего-то мягкого домашние тапочки. Он был больше всего похож на клоунов, которых я видел в цирке.
А цирковых клоунов я до поры до времени любил. Можно сказать, я цирк любил преимущественно из-за клоунов. Всякие акробаты, наездники, эквилибристы, жонглёры, женщины с обручами, канатоходцы и особенно дрессировщики были скучны. Они делали на арене трудную и опасную работу, напрягались, подвергали своё здоровье опасности. Ими можно было восхищаться. Но радости от них было мало. Фокусники удивляли. Они творили почти волшебство и были таинственны. А вот клоуны просто веселили. Они выходили на арену, ещё ничего не успевали сделать, а зрители уже смеялись в голос. Обычно клоуны хулиганили или совершали глупости. У них всё валилось из рук, и они часто падали. Хотя сами по себе были, очевидно, взрослыми и здоровыми мужчинами.
У моей бабушки были какие-то знакомые, связанные с цирком. И мне удавалось по нескольку раз сходить на каждую новую программу. А во всякой программе были свои собственные клоуны. Клоунов, как правило, было двое. Редко – один. Я запоминал их номера, репризы наизусть, но каждый раз смеялся и веселился. Клоуны в цирке имели обыкновение выходить с арены к зрителям, шалить и вытаскивать кого-нибудь для всеобщего обозрения поучаствовать в выступлении. Я ужасно хотел, мечтал, чтобы выбрали меня, старался попасть клоунам на глаза, тянул руку, всячески показывая свою готовность к участию. Но увы. Ни разу чуда не случилось, на арену меня не позвали.
Как-то раз один из клоунов ходил по рядам совсем рядом. Я встал, я кричал, я даже прыгал. Клоун не мог не видеть меня. Но он выбрал другого мальчика. Пухлого, неловкого, не нарядного. Мне, конечно, было горько, но я не обиделся. Как можно обижаться на циркача, на клоуна, на человека из иного мира?
Через пару дней я снова оказался в цирке на той же программе и с трепетом, надеждой стал ждать того самого номера, в котором клоуны выбирают в зале помощника. Я маялся во время выступлений всех остальных артистов и животных. И вот клоуны пошли с арены к зрителям с криками: «А кто это тут у нас?! Куда спрятался?!» Один клоун двинулся в мою сторону и стал подниматься по ступеням вверх вдоль рядов. Я ринулся к проходу, выскочил на лестницу прямо ему навстречу. Несколько мгновений, и мы оказались совсем близко друг от друга. Почти вплотную. Клоун кричал: «Где-то он тут! Я его чую!» Зал хохотал. А я был перед клоуном, меня не надо было чуять, и я не прятался. Но клоун довольно грубо отодвинул меня, почти оттолкнул со своего пути, и одними губами сквозь зубы хрипло прошептал: «Не лезь!»
Меня поразило не то, что смешной, весёлый, всеми любимый клоун грубо со мной обошёлся, а то, что от него исходил запах, такой же, как от соседа по подъезду, дяди Серёжи, который часто гонял нас грубыми окриками, когда мы, детвора, шумели в подъезде или пытались забраться на его гараж. От клоуна пахло куревом, луком и выпивкой. Я был страшно удивлён этим, но ещё не разочарован.
Разочарование пришло буквально через несколько мгновений, когда клоун радостно заорал прокуренным голосом: «А-а-а! Вот где он спрятался!» – и поднял с места того самого толстого, неуклюжего мальчика, что и в прошлый раз. Вот тут и пришло разочарование. Даже сосед дядя Серёжа не врал. Он просто на нас орал – и всё. А тут была ложь!
После того случая я стал опасаться клоунов, перестал им, как прежде, радоваться, веселье моё по их поводу улетучилось, а следом и любовь к цирку сошла на нет.
Человек, вышедший из-за ширмы, напоминал циркового клоуна, но был совсем другим. Он двигался застенчиво, деликатно, бесшумно, плавно. В нём было что-то детское, беззащитное.
Он, в сущности, находился совсем недалеко от меня, он не возвышался над залом, поднятый сценой, как в театре, не был окружён бортиком арены, как в цирке. Он не изображал персонажа большой классики и не был размалёванным, громко кричащим клоуном, вышедшим на цирковые опилки из неведомых чертогов, из которых на арену выходят диковинные животные и не менее диковинные люди.
Этот человек стоял двумя ногами на полу, на котором сидел я. На одном со мной уровне. Он вышел из-за ширмы, за которой ничего диковинного спрятать было невозможно. Мы находились с ним в сравнительно небольшом помещении. И в то же время он был недосягаем. В нём было какое-то волшебство. И совершенно не было переодетой в Снегурочку воспитательницы, а также мужа папиной коллеги, который наклеил усы и якобы стал героем «Тихого Дона». На том человеке просто была забавная одежда и немного яркой краски на лице. Но он был жителем другого измерения.
Тогда я ещё не знал слова «образ». Но то, что передо мной именно «образ», а не «изображение», я сразу почувствовал.
Как много раз из разных возрастов, из разных жизненных ситуаций я возвращался в воспоминаниях к тому зимнему вечеру в Томске! Возвращался и возвращаюсь. Эти воспоминания ярки и отчётливы. Они объёмны и живы. Я помню всю череду мелких обстоятельств и случайностей, которые привели меня в маленькое помещение в маленьком здании Дома учёных на спектакль, на который я идти не собирался и даже ничего о нём не знал. Ещё я удивительно ясно помню все свои переживания, оттенки чувств и сомнения, тому спектаклю предшествующие.
Но я совершенно не помню самого спектакля! Не могу вспомнить, долго он шёл или коротко. Со мной случился какой-то провал. Я будто спал, видел сон, а пробудившись, мог только вспомнить, что со мной происходило нечто непостижимое, взбудоражившее сознание, взбередившее душу, что-то чудесное, небывалое…
Какие-то обрывки и картинки этого сна удалось вспомнить, но из этих лоскутков не складывалось то большое и целое, что так потрясло и ошеломило.
Точно помню, что за весь спектакль я ни разу не задал себе вопроса: а что это тут происходит, что всё это значит, зачем всё это? Какой в этом смысл? То есть тех самых вопросов, которые мучили меня в драматическом театре.
Мне ни секунды не было непонятно, кто передо мной в том спектакле. Кто тут Муми-тролль, кто фрёкен Снорк, где Снусмумрик, а когда появится Морра. Про известную и любимую книгу я не вспоминал и не пытался сравнить её с тем, что видел. Невесть откуда пришло счастливое понимание, что я присутствую на ином и воспринимаю совершенно другое, отдельное, произведение искусства. Сравнение одного с другим в этом случае неуместно, вредно и может помешать, убить всякую возможность увидеть новое, другое. С этим неожиданно пришедшим пониманием я живу до сих пор.
Помню ещё одно открытие, сделанное на том спектакле. Меня оно удивило и страшно обрадовало. Я вдруг понял, что люди, которые сделали спектакль в Доме учёных, полностью мне доверяют! Это было так просто и в то же время удивительно!
Мне доверяют!!! Верят, что то, что интересно им – тем, кто на сцене, интересно и мне. То, что понимают они, могу понять и понимаю я. Никто в том спектакле не пытался меня в чём-то убедить, на что-то особо обратить моё внимание, никто не боялся, что я что-то упущу, не пойму. Те, кого я видел перед собой в тот вечер в Томске, верили в моё внимание, чувствительность и ум мой. А ещё я почувствовал, что я им нужен, я им интересен, без меня они жить не могут.
Я видел тогда на сцене счастливых людей, которые играли. Играли во что-то, играли кого-то, играли с чем-то. Но именно играли. Играли радостно, самозабвенно. И были счастливы.
Те же, кого я видел на сцене прежде, ни капельки не доверяли мне и никому вообще. Они громко кричали, бегали, размахивали руками, пускали крокодиловы слёзы из страха, что я ничего не увижу, не оценю их мастерство, не пойму какого-то высшего замысла. Они не доверяли моему вниманию, уму и сердцу. И они были несчастны.
В маленьком зале Дома учёных я отчётливо увидел, что если бы не было меня и ещё пятидесяти внимательных, весёлых и чувствительных людей, сидевших на стульях, подушках и на полу, то никто бы не выглянул из-за ширмы, не улыбнулся бы так искренне и прекрасно, не вышел бы ко мне, не играл бы.
А в театре со сценой и занавесом, с бабушками и буфетом всё было бы выполнено от начала и до конца, будь в зале беснующиеся школьники или восторженные поклонники, да хоть вообще никого.
Мне стало это понятно. Вот только я не знал тогда, что присутствую при творимом передо мной настоящем живом и свободном творчестве. А оное всегда видно и всегда ценно. Просто я видел его впервые в жизни и не знал, что это оно и есть.
Весь спектакль я смеялся и радовался. Это я запомнил. Вот только не помню, чему именно. Полагаю, что те открытия, которые со мной случились, заняли всего меня. Поэтому я запомнил их, а не сам спектакль.
Когда свет настенных ламп зажёгся, все захлопали. Люди, игравшие спектакль, подошли совсем-совсем близко. Улыбались и кланялись. Грим у них на лицах потёк от пота, но глаза светились. Я видел людей, которые не устали, которые любят то, что только что закончилось, и готовы это делать бесконечно.
Зрители все разом поднялись с мест, чтобы продолжить хлопать стоя. Дети, старушки – все. Кто-то громко свистнул. Я поднялся на ноги со всеми, но чуть не упал. Ноги были ватные. Я их отсидел. Я забыл про них. Забыл про кровообращение и сидел не шелохнувшись весь спектакль.
Дольше и сильнее остальных аплодировали щуплому человеку, который первый вышел из-за ширмы, хотя на поклоны выходило больше десяти исполнителей. Из-за ширм кроме тех, кто играл в спектакле ещё, вышли люди без грима на лицах. Они весь спектакль были нам невидимы. Я решил, что это, вернее всего, музыканты, а также те, кто включал и выключал свет. Щуплый всех их благодарил и просил публику аплодировать им, а не ему. Из этого стало понятно, что он там самый главный. Что он А. Постников и есть.
В конце концов мы, зрители, перестали хлопать и потянулись в дверь к вешалкам. Участники спектакля не ушли за ширмы, они стали собирать те вещи и предметы, что во время спектакля как-то использовались и были теперь разбросаны по сцене. Тот самый высокий парень в зелёном трико принялся убирать подушки, оставшиеся на полу от зрителей. Больше всего на свете я не хотел уходить, но медленно-медленно вместе со всеми зрителями вышел в открытую дверь.
Онемевший и заторможенный, нашёл свою куртку, оделся и поплёлся к выходу на улицу, не думая совсем о том, как буду добираться до профессорского дома. Мне, конечно, давали инструкцию, как это сделать, где и на какой трамвай сесть и до которой остановки ехать, но я тогда ничего не соображал, не понимал и не думал о том, где я и куда мне нужно. В сомнамбулическом состоянии я вышел из Дома учёных и куда-то пошёл.
В реальность меня вернуло то, что кто-то позвал меня по имени. Я услышал, что меня зовут, как в глубоком сне слышишь что-то из настоящего мира. Сначала совсем приглушённо и очень далеко, потом всё ближе и громче, пока тебя это не будит.
Меня позвали несколько раз, наконец я очнулся, остановился, оглянулся и увидел своих дорогих профессоров. Это они окликали меня.
Как выяснилось, они обеспокоились, когда я в условленное время после лекции не вернулся к ужину, подождали, подождали и решили прогуляться к Дому учёных, чтобы поинтересоваться и по возможности меня встретить.
Дорогой домой я был молчалив, только честно сознался, что на лекцию опоздал и пошёл на спектакль. Ужин мне накрыли одному, но профессора сели за стол со мной. Ел я вяло. Они даже спросили, не обидел ли меня кто-нибудь. Я ответил, что ничего подобного со мной не произошло. Тогда они встревожились, не заболел ли я. И настояли на градуснике, который показал нормальную температуру.
За чаем мне удалось рассказать-таки кое-что о спектакле. Я сообщил, что мне очень-очень понравилось, а А. Постников на меня произвёл особое впечатление, как, впрочем, и вся его студия пантомимы.
– Ах, как жаль, что ты отказался пойти в театр, – сказала профессор. – Посмотрел бы своего Постникова в нормальном спектакле. Он же актёр нашего драмтеатра и занят в постановке. Хороший актёр, весь, как паучок, подвижный. Он из молодых артистов самый интересный. Может, пойдёшь завтра? А после спектакля – на поезд.
Услышанное меня удивило сильно! Хотя «сильно» – не то слово. Я не смог, а точнее, не захотел представлять себе того человека из спектакля в Доме учёных на сцене нормального театра. Я не захотел верить в то, что один и тот же человек мог делать столь несовместимые вещи. Для себя я моментально решил, что в театре – один Постников, в Доме учёных – другой. Однофамилец, родственник, брат-близнец, двойник, кто угодно, но только не один и тот же человек. В противном случае получалась какая-то история доктора Джекилла и мистера Хайда. Так что я не стал об этом думать, а в театр отказался идти категорически.
Лёг спать я сразу после чая. Долго лежал на диване в гостиной и смотрел на едва видимый в темноте потолок. Во мне ворочались огромные, даже колоссальные невыразимые и небывалые прежде переживания. Я не мог тогда оценить их масштаб и суть. Прежде ничего подобного переживать не доводилось. Одно было ясно – я не знаю, как мне жить дальше.
Конечно, я пытался размышлять тогда, пытался понять, что же со мной произошло, но мысли ускользали, или рвались, или путались.
В первую очередь я удивлялся самому себе… Ну что такого особенного я видел? Какие-то люди делали что-то весёлое в небольшом помещении небольшого дома в небольшом городе. Я же к тому моменту прочитал много книг. Какие-то из них были очень хороши, какие-то прекрасны. Мне также довелось уже прочесть великие книги. Роман «Мастер и Маргарита» Булгакова был прочитан почти тайком, в силу полузапрета на это произведение в то время. Он просто ошеломил и восхитил. Диккенс, Эдгар По, Гоголь… Да мало ли? Я к моменту поездки в Томск на каникулы уже видел фильмы Тарковского, Феллини, Куросавы и пережил сильнейшие потрясения. В конце концов я слушал много рок-музыки. Я буквально начал слушать её ни много ни мало с Пинк Флойда… А тут «Шляпа волшебника». Пантомима и танцы. Что такого в этом было? Я не мог понять. К тому же спектакль как таковой я не запомнил. Я запомнил только небывалого качества счастье, которое испытал, да несколько удивительных открытий, которые удалось сделать за время сидения на полу на маленькой подушечке.
Хотел ли я так же научиться двигаться и играть, как это делали люди, исполнявшие «Шляпу волшебника»? Да, наверное, хотел бы… Но это не главное. Хотел бы познакомиться с исполнителями и стать одним из них, стать членом коллектива под названием «Студия пантомимы томского Дома учёных»? Без сомнения, хотел бы. Очень хотел бы!.. Но и это не было причиной тех душевных тектонических процессов, что со мной происходили.
И вдруг я осознал, чего я хочу… Точнее, не хочу, а что мне необходимо! Жизненно необходимо!!! Нужно! Совсем-совсем нужно!..
Я понял, что хочу так жить! Жить так, как со мной было там, в Доме учёных. Но только хочу жить с другой стороны. Мне надо туда, за ширму, и чтобы из-за неё выходить. Мне нужна такая жизнь! Другая не нужна! Другая – не жизнь!
Я осознал это с восторгом и ужасом, потому что мне стало ясно, что это со мной навсегда.
Как только я это осознал, слёзы полились из глаз. Я заплакал. Ни от горя, ни от радости, а оттого, что уже больше не могу, сил нет переживать, думать и осознавать.
Плакал я долго, в слезах и уснул.
Тогда я не знал, что именно так люди влюбляются на всю жизнь.
День отъезда из Томска помню смутно. Была суббота, это точно. Мы с дочерью профессоров съездили по магазинам. Что-то купил я, что-то было куплено для передачи в качестве гостинцев в Кемерово. Налим был приобретён большой, красивый, замороженный и твёрдый. Его плотно завернули в шелестящую бумагу и обвязали бичевой.
К началу вечера, а потом во время прощального ужина я уже очень хотел скорее в поезд и домой. Чудесна юность! Я тогда не старался ничего особенным образом запомнить, не ценил, не вникал в каждое мгновение общения с прекрасными людьми, у которых в доме прожил важные дни своих последних каникул. Жизнь казалась если не бесконечно, то очень, очень, очень длинной. Необозримой.
Профессора, их дочь, внучка, которую я видел всего ничего, их дом, наше знакомство – всё казалось непроходящим. Я не знал тогда, что больше никогда в этом доме не побываю и не увижу больше этих людей. Профессора жизнь знали лучше. Они старались за ужином и за чаем сказать мне как можно больше чего-то важного, умного, хорошего, по возможности, полезного. Я же слушал вполуха, а забыл практически всё и сразу.
Я твёрдо заявил, что на вокзал поеду один. Мне вызвали такси и уже в свою очередь сказали, что я должен взять у них на него деньги. Прощались тепло, улыбчиво и по-хорошему грустно. Меня просили писать, звонить, приезжать учиться или просто приезжать. Я обещал и верил, что исполню обещанное. Когда я садился в такси, мне все махали на прощание, стоя у окна кухни. Из тёмного двора видны были только силуэты этих людей.
На вокзал я ехал в такси впервые один. Мой чемодан и налима таксист взял у меня и положил в багажник. Это было совсем по-взрослому и серьёзно.
Я прощался с Томском, мелькали огни. Людей на улицах было мало, а снега много. Мимо Дома учёных проехали стороной. Но я его увидел и узнал. Над входом горел фонарь. Возле самого Дома не было ни души, светилось одно окно. Ехал я спокойно.
Сама острота сильнейших переживаний вылилась ночными слезами и была потушена сном. Но осознание, что мне не жить без того, что со мной произошло накануне во время спектакля никуда не пропало, оно просто укрепилось во мне. И непонимание, как дальше жить, если у меня этого больше не будет, тоже во мне укрепилось. Просто мне уже не было страшно. О юность!!! О чудесная её жизненная сила!
А ещё я понял, что мне нет нужды, я не вижу необходимости непременно вернуться именно в то самое помещение, именно в томский Дом учёных, познакомиться с А. Постниковым и оказаться за его ширмой, чтобы выйти из-за неё в его спектакле. Мне нужно было моё! Всё только моё. Ещё не существующее.
Я хотел скорее домой! В свою комнату, к моим книгам, музыке. Хотел не для того, чтобы там, в привычной обстановке, на своей территории, успокоиться, втянуться в прежнюю жизнь и чтобы всё пошло, как было. Нет! Мне надо было домой, чтобы спокойно начать что-то делать с тем, что со мной произошло.
Тогда я больше всего верил в книги. Наивный! Я всерьёз был уверен, что книги есть про всё, всё, всё без исключений. Они обязательно есть, если не в детско-юношеской библиотеке, то в центральной областной уж точно.
«Начну с книг, – думал я. – Нужно для начала найти и прочитать всё, что есть про пантомиму. Необходимо выяснить, где и как пантомиме учат. А дальше?.. Дальше – поглядим».
В этих моих мыслях было уже нечто вроде плана. В плане грезилась надежда. А в надежде – радость. На вокзал я приехал почти весёлым.
Возле вагона Пашу и Лену провожали приятные люди. Они смеялись. Паша открыто, по-взрослому курил на перроне. Лена на морозе среди железнодорожных фонарей была не просто очаровательна, а хороша.
– Ты что это тащишь? – спросил Паша, показав на большой бумажный свёрток у меня в руках.
– Налима, – ответил я.
Все захохотали.
– Мы тоже везём налимов, – сквозь смех сказал Паша. – Типичный местный сувенир. Из Томска с любовью.
Я смеялся со всеми.
Потом мы ехали, под стук колёс весело пили чай, говорили. Уснули легко и крепко. Наполненные впечатлениями. Уставшие от каникул. Разбудила нас проводница.
В Кемерово я вернулся совсем не тем, кем уезжал в Томск. Моя жизнь была предопределена.
ГЛАВА 2
ВНАЧАЛЕ СЛОВА НЕ БЫЛО
Когда я вернулся из Томска, мама сразу заметила, что со мной что-то случилось, произошло, стряслось. Дня через три после моего возвращения она спросила, не влюбился ли я.
Как я был возмущён! Самым решительным и детским образом отверг я подобные подозрения. Фыркал, обижался… Сегодня-то я понимаю, насколько мама была права. Однако объект моей влюблённости был настолько неопределённым и таинственным, что если бы я даже согласился с мамиными предположениями, то не смог бы объяснить, что стало предметом моей любви… Если не какая-то конкретная девочка, то кто?.. Что?
Я возмущался мамиными предположениями, но видел по её улыбке, что именно моя бурная реакция убеждает маму в правоте.
Я не буду рассказывать, как трудно мне дались первые две недели по возвращении из Томска. Через день после приезда снова началась школа. Там у меня и без того было не блестяще, а тут я вообще ни на чём не мог хоть как-то сосредоточиться. Всё, как говорится, валилось из рук.
Хуже всего было то, что я ни с кем не мог поделиться своими впечатлениями и переживаниями. Мало того, что они были крайне неоформленными для самого себя, но главное, они были никому не понятны. Я догадывался, что никто меня не поймёт, и поэтому после пары попыток оставил идею хоть с кем-то ими поделиться.
Необходимо напомнить, что интернета и подобных источников информации тогда не существовало даже в самых смелых фантазиях самых фантастических людей. Единственным способом получить искомые нужные знания был поход в библиотеку. И, на худой конец, обращение к знающим людям.
Знающих хоть что-то про пантомиму людей в моём окружении и в самом ближнем круге общения моих родителей не нашлось. Библиотеки же меня поразили!
В детско-юношеской, куда я много лет ходил в читальный зал по выходным, где все меня знали, ценили и давали самые интересные и редкие книги часто без очереди, в предметном указателе не нашлось даже самого слова «пантомима». А когда я задал вопрос самой главной и величественной даме, которая заведовала читальным залом и могла дать полистать даже иностранные журналы, есть ли в наличии книги о пантомиме… Она удивлённо и запнувшись спросила: «О чём? О пантомиме?» Тогда я понял, что с этим вопросом и темой не всё так просто.
В библиотеке института и университета, где работали мои родители, произошло приблизительно то же самое. Я удивился, но успокаивал себя тем, что это были скорее научные библиотеки. А детско-юношеская – она и есть детско-юношеская.
Я, конечно, был удивлён, но ещё не обескуражен. Оставалась областная библиотека, где находились, по моему мнению, все-все книги. Такая она была большая и серая. А если в библиотеке есть все-все книги, рассуждал я, то найдутся таковые и про пантомиму. В этом я был уверен. Я в том моём возрасте был убеждён, что книги существуют обо всём на свете и всегда можно найти книгу с ответом на любой вопрос.
В областную библиотеку я вошёл с трепетом. Размеры, цвет и форма этого здания говорили о предельной серьёзности самого его предназначения и о безусловной серьёзности причин и намерений тех людей, которые в него заходили. Я прежде никогда в жизни по собственной надобности не входил в столь серьёзные здания. Университет и институт, в которых работали родители, были полны шумных, весёлых студентов, и к тому же это были здания, в которых работали папа и мама. Я никогда не входил в них с трепетом, привыкший к ним с детства. Их библиотеки не были для меня чем-то значительным. Разве что в них приходилось говорить шёпотом.
Здание больниц и поликлиник скорее вызывали скуку и страх. Ещё были музеи в Москве и в Ленинграде. Это были солидные здания, но туда я самостоятельно не заходил. Музеи являлись делом серьёзным, утомительным и в основном скучным, за исключением картин со сражениями и страданиями людей. Страдания поражали и впечатляли особенно сильно. Хоть на полотне «Девятый вал», хоть на «Гибели Помпеи».
В правительственные здания или партийно-профсоюзные мне к тому моменту моей жизни заходить не доводилось. Так что областная библиотека была самым значительным зданием, в которое я вознамерился войти по своим собственным мотивам и причинам… Не по чьей-то просьбе, указанию или заданию, не по рабочей необходимости, а потому что мне это было нужно лично.
А в библиотеку заходили и выходили из неё очень серьёзные, все слегка или сильно сутулые люди. Молчаливые. Знающие, зачем заходят и почему выходят.
На минуту я задержался у входа, задал себе вопрос, знаю ли я, зачем и что мне нужно в этом здании, решительно сам себе ответил, что точно знаю, и без сомнений потянул на себя тяжёлую, высокую дверь.
Не буду рассказывать подробно, как я записался в областную библиотеку. Скажу лишь, что с первого раза сделать мне это не удалось. Дело в том, что для записи нужен был паспорт, который я тогда не взял. Паспорт у меня уже был, я получил его, как положено, в шестнадцать лет. Но, когда я впервые вошёл в областную библиотеку, я ещё не был человеком, который привык при себе иметь паспорт или другое удостоверение личности. Такие были времена. Времена, когда паспорт требовался не часто. Поездом можно было ездить без паспорта. Покупка билетов на поезд и проезд не требовали предоставления документов. Областная библиотека оказалась серьёзнее поездки поездом.
Со второго раза в итоге и короче говоря я в библиотеку записался. И тут же поставил её сотрудников своей просьбой в тупик. Хранители бескрайних и бездонных книжных недр озадачились вопросом юного человека, что у них есть о пантомиме. Они были удивлены моим вопросом, а я был удивлён их удивлением.
В конце концов после продолжительного ожидания мне вынесли одну-единственную книгу…
Когда я её увидел, моё лицо приобрело выражение такого крайнего разочарования и растерянности, что вынесшая книгу дама, только и могла сказать: «Больше нету ничего… Даже в зале периодики».
В руках она держала тонюсенькую книжицу. Даже не книжицу, а скорее брошюрку. Бледненькую, похожую на школьную тетрадку. Только меньшего формата, чем школьная.
Как страшно мне было осознать в этот момент, что в этом царстве, в чертоге, где бессчётными этажами громоздятся многотомные собрания сочинений, словари, энциклопедии, атласы, научные трактаты, история, философия, могучие фолианты, подшивки газет и журналов… Все что хочешь и даже больше… Вся человеческая деятельность в виде бумаги и текстов… Текстов обо всём на свете… И вот среди всего этого нашлась только одна тонюсенькая книжка о пантомиме!..
Это сообщило мне тогда, что пантомима занимает ничтожнейшее место в бесконечной череде человеческих интересов и занятий. К тому же очевидным было и то, что в Кемеровской областной библиотеке я первый, кто попросил книгу о пантомиме, первый, кто эту книгу получил, и для сотрудников библиотеки явилось сюрпризом, что такая книжка у них есть.
Книга была маленькая и тоненькая, но она была. Это всё равно явилось хоть чем-то. Чем-то бльшим, чем ничего. Я взял её и оформил на максимальный десятидневный срок. «Пантомима: Первые опыты» – так она называлась. Автором значился некий Илья Рутберг. Я положил её в портфель. В школьный, который перед походом в библиотеку освободил от тетрадей, учебников и прочих предметов, полагая, что он весь будет заполнен полученными книгами. По дороге домой из центра до моей окраины в автобусе книжку ту я из портфеля не достал, хотя очень хотел немедленно её пролистать. Однако этого не сделал. Чтобы открыть единственный найденный мною источник знаний на самую важную в тот момент для меня тему дома. В одиночестве. За столом. Спокойно. С чувством, с толком и расстановкой.
Я не знал тогда, что Илья Рутберг сыграет в моей жизни существенную роль, не только и даже не столько как автор той самой книжки, а лично. Я не знал, что сама книжка, тонюсенькая и невесомая, окажется ещё одним звеном в цепочке случайностей, как тот самый билет на «Шляпу волшебника» в томском Доме учёных. Я не знал того, что найду, а главное, того, чего не найду в книжице, которая лежала в темноте моего потёртого и избитого школьной жизнью портфеля. Той самой школьной жизнью, которая по причине неожиданно случившегося со мной всепоглощающего интереса к некой пантомиме стала мне окончательно безразлична.
Я смутно помню, поэтому не могу, да и не должен рассказывать о последних моих месяцах школы. Цель этой книги другая. Цель эта ставит передо мной задачи вспомнить определённые подробности и детали. Скажу лишь снова, что учёба моя после последних каникул пошла совсем худо. Особенно по точным предметам. С физикой, алгеброй и геометрией творилась у меня настоящая беда. Точнее, я попросту ничего не делал на этих уроках. Учебники не открывал. Тетради мои по физике и геометрии испещрил я рисунками каких-то фантастических существ или чем-то вроде комиксов. Делал это не из вызова, а просто так, чтобы чем-то занять себя на тех уроках.
Учителя били тревогу. Впереди совсем не за горами уже маячили, буквально нависали выпускные экзамены. Родители тоже беспокоились, и весьма. В том, что мне надо поступать в какое-то высшее учебное заведение, никто да и я сам не сомневался. Однако мои успехи по точным дисциплинам были таковы, что если бы учителя и дирекция школы захотели быть принципиальны, справедливы, честны и не боялись испортить свои рабочие показатели, а также если бы они не были в конечном счёте сердобольными и участливыми людьми, то никакого окончания школы и аттестата зрелости мне не светило. По совести, светили мне неудовлетворительные оценки по всем точным предметам и неведомые мрачные перспективы… Остальные дисциплины, типа географии, истории, литературы, обществоведения и английского как-то катились у меня по инерции, сами собой.
Со мной серьёзно пытались беседовать учителя, со мной говорили родители, несколько раз говорили учителя и родители вместе… Мама раздражалась, отец гневался, с ним случались припадки педагогики, он придумывал и применял санкции или, наоборот, прибегал к дипломатии, действовал мягко и ласково. Ничего не помогало. Меня, как ныне любят говорить, никто и никак не мог мотивировать на последний рывок в учёбе.
Мой взгляд на уроках был расфокусирован, а слух заглушён невнятными, но громкими мыслями, что звучали в голове.
Я помню, что пытался сосредоточиться. Старался себя заставить вникнуть в школьный процесс. Страх надвигающихся экзаменов и неизбежность выхода из школы в открытый космос неведомой и неизбежной дальнейшей жизни страшили. Периодически страх доходил до ужаса. Но сосредоточиться я не мог.
Родители допытывались, что со мной. Я конечно же поведал им о том, что меня страшно интересует пантомима, что я о ней всё время думаю, что мне это очень важно. Но ничего более тонкого и точного о своих переживаниях я сообщить не мог. Я пытался пересказать мною увиденное в Томске, силился найти какие-то слова, но не мог их отыскать. У меня этих самых слов не было даже для самого себя.
Сначала моё невнятное, но всепоглощающее увлечение сердило родителей. Особенно маму. Мама преподавала студентам теплотехнику и термодинамику, а сын её не имел и не желал иметь представление о том, как и с какой стороны открывается учебник физики, и был худшим по этому предмету в классе. Хуже всех. Хуже тех, кто были признанными идиотами и учителями, и одноклассниками.
Отец отнёсся к моему увлечению как к блажи, которая должна вот-вот пройти. Он считал меня неглупым, пытливым, но ленивым. Папа считал, что моя лень быстро одолеет интерес к пантомиме. Он преподавал в университете неведомую мне экономику, страстно любил математику и воспринимал большинство моих увлечений как проявление лени. Только когда я выказывал упорство и постоянство, он начинал это более или менее уважать. Например, будучи человеком напрочь немузыкальным, отец, увидев мою долгую страсть к рок-музыке, сам купил мне магнитофон и очень хорошую акустическую систему. Он где-то раздобыл отличные наушники, каких не было ни у кого. Он даже иногда пытался интересоваться тем, что я слушаю, задавал вопросы. Не из любопытства, а из уважения к моему непроходящему интересу. Он полагал, что мне будет приятно, если отец проявит внимание к увлечению сына. Я понимал отцовскую игру. Но мне действительно было приятно. Я становился счастливейшим человеком, когда отец спрашивал меня о дорогом мне и важном.
Точно так же, разглядев моё увлечение фотографией, а я пребывал в этом увлечении довольно долго, папа в конце концов купил мне хороший фотоаппарат и всё необходимое фотооборудование. Вскоре, правда, получив всё что нужно, я к фотографии охладел и забросил это дело. Он тогда меня жестоко высмеял, объяснил всё моей ленью и долгие годы при любм удобном случае больно напоминал и упрекал меня той самой фотоблажью.
Пантомима же у меня быстро не прошла. И отец увидел, разглядел моё состояние. Признал его. Мы несколько раз говорили. Один раз «по-мужски». Он пытался понять, что же меня так сильно разобрало. Но не понял. Да и не мог. Я же ничего толком сформулировать был не способен. Папа убеждал меня, что увлечение моё несерьёзное, что надо думать о высшем образовании и профессии, о взрослой жизни, в конце концов. Говорил он, что такой профессии, такой работы, такого серьёзного дела, как пантомима, нет и быть не может… Во всяком случае в Кемерово. Говорил, что артистов в нашей фамилии сроду не было… Говорил, что если всё же мне эта пантомима так важна, то на здоровье – сначала поступи в медицинский или в университет, а потом, уже будучи студентом, хоть на голове ходи, хоть марки собирай, хоть пантомимой занимайся в качестве хобби и гимнастики. Говорил папа и о том, что студенческая жизнь так чудесна, что, попав в неё, я забуду свою блажь…
Однако я понял тогда, что папа увидел признаки сильной страсти во мне, увидел и, несмотря на свой гнев по поводу полнейшего краха моей школьной учёбы, всё же мою блажь зауважал… Зауважал не явно. Скрыто. И, скорее всего, зауважал моё упорство, а не предмет моего интереса.
Впоследствии я узнал, что родители даже наводили справки. Они опросили самый широкий круг своих знакомых и коллег, знает ли кто-нибудь хоть что-нибудь о пантомиме. Никто из кемеровских знакомых ничего не мог им сообщить. Тогда они звонили приятелям в Москву и Питер, интересовались книгами, а ещё тем, где и как эту пантомиму можно посмотреть и где ей обучают. Никто ничего толком не знал, и никого, кроме Марселя Марсо и Енгибарова, вспомнить в связи с пантомимой не могли. Какие-то люди что-то видели, что-то слышали, говорили, что пантомима – это интересно, необычно и по большому счёту даже модно и элитарно, но не более того. Ещё родители узнали, что пантомиму чуть-чуть, самую малость, скорее факультативно, преподают в театральных училищах, да и то не во всех. Они выяснили также, что пантомиме учат в цирковом училище… Мама и папа мне об этом не сказали. Наоборот они объявили, что пантомиме не учат нигде.
Имена Енгибарова и Марселя Марсо мне каким-то образом были известны. Леонида Енгибарова любили все интеллигентные люди, даже в провинции, даже те, кто его никогда не видел. Я его видел в кино. Однажды. В котором он играл грустного клоуна. Енгибаров в этом фильме показывал чудеса гибкости, делал сложнейшие акробатические номера и какие-то пластические этюды. Это было удивительно. Даже поразительно. И сам он был какой-то чудесный, с потаённым смыслом. Он на руках стоял как какая-то таинственная метафора, как неразгаданное стихотворение, как строгий иероглиф, который хочется понять и расшифровать. Он был содержательно печален.
Но Енгибаров не ассоциировался у меня с пантомимой. Он умер давно и рано. Остался для всех загадкой, некой порванной струной, которая толком не успела ничего сыграть. К тому же он по основной своей деятельности был цирковой клоун. Ковёрный. Особенный, необыкновенный, но всё же цирковой артист.
Имя Марселя Марсо я услышал впервые и запомнил в песне Владимира Высоцкого: «…Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил». Вот, собственно, и всё. Просто Марсель Марсо звучало красиво и в высшей степени недосягаемо. Да ещё великий Высоцкий говорил про него: «САМ Марсель Марсо…» То есть его имя Высоцкий употреблял в значении символа предельно высших сфер.
Оказалось, об этом я узнал существенно позже, что в середине 60-х и в 70-е годы Марсель Марсо был страшно популярен и любим у нас. Он приезжал в Москву, выступал, давал концерты. На них невозможно было попасть. Видели его на сцене немногие счастливцы. Но те, кто видел, были в восторге. Остальные же довольствовались восторгами и рассказами счастливцев. Но именно Марсель Марсо привёз с собой моду на пантомиму.
А в то время исключительно рассказами, слухами и отголосками впечатлений о чём-то визуальном только и можно было довольствоваться. Спектакли, фильмы, даже живописные полотна уходили в пересказы. Если бы Енгибаров и Марсель Марсо что-то писали, говорили или пели, то это так или иначе можно было бы раздобыть, почитать или послушать. Но они молчали. Они делали пантомиму. Поэтому про них говорили. Показать ничего не могли. Чтобы показать, нужно было бы учиться пантомиме…
Видеомагнитофонов же и компьютеров ещё не было. Даже кинопроекторы и кинокамеры были редкостью. У нашей семьи не было ни родственников, ни знакомых с кинокамерами. Так что своё не статичное, не фото-, а движущееся изображение на экране я впервые увидел в возрасте шестнадцати лет. Меня снял на киноплёнку приятель, который был на год старше и поступил в институт учиться на кинооператора. Трудно передать моё удивление и потрясение. Тогда мало кто мог увидеть себя заснятым на киноплёнку… Но это к слову. И это я всё рассказал для того, чтобы стало яснее, что моя жажда познания пантомимы долгое время оставалась неутолённой. Утоление придёт потом.
Это потом я узнаю, что пантомима была весьма популярна в интеллектуально-творческих кругах в 60-е годы. Что по всей стране в 70-е жили и работали энтузиасты, которые одному богу известными способами учились пантомиме или себе её изобретали, а потом сами начинали обучать желающих. Что при разных университетах, Домах культуры, даже при заводах, в каких-то подвалах и где только это было возможно возникали ансамбли, студии, кружки пантомимы. В Прибалтике, Ленинграде, Челябинске и где-то в Иркутске сложились и работали театры пантомимы.
Молчаливое, таинственное, иносказательное, слегка заграничное, всегда многозначительное искусство как нельзя лучше подходило для того времени.
Но, когда я ехал из областной библиотеки с книжкой в портфеле, я всего этого ещё не знал…
Я прекрасно помню своё состояние. Оно в основном состояло из волнительного ожидания. Но было много и других разнообразных чувств, с которыми я вёз домой единственную найденную книжку о пантомиме. Отчётливо помню все эти чувства и их оттенки, но не берусь их описывать и анализировать.
Читал литературу дома я обычно лёжа, хоть и привык к чтению в читальном зале за столом. Лёжа читать было приятнее, это было удовольствие. Укладывался обычно на левый бок, ставил руку на локоть и клал голову на кулак. Рука вскоре затекала, давала о себе знать, тогда я разжимал кулак и клал голову на открытую ладонь. Это давало время ещё на пару страниц, после чего уже терпеть было невозможно, и я поворачивался на правый бок. Правая рука у меня затекала и затекает быстрее левой. И я снова возвращался на левый бок. Когда руки уставали окончательно и надоедало крутиться, я либо клал книгу на пол и читал, свесившись с кровати, либо садился спиной к стене, поджимал к себе ноги и клал книгу на колени. Но так мне не очень нравилось. Вот я и ёрзал в процессе чтения.
Учебники и всё, что следовало изучать по школьной программе, я читал только за столом. К этому приучили меня родители. Они утверждали, что лёжа ничего не усваивается, плохо понимается и не запоминается. Думаю, они правы.
Книгу, а точнее книжечку, Ильи Рутберга «Пантомима: Первые опыты» я открыл, усевшись за стол. Предварительно навёл на нём идеальный порядок, задёрнул шторы, включил настольную лампу, выключил верхний свет и только тогда положил перед собой книжку. Посидел, ровно, спокойно подышал и открыл её.
Прочёл и просмотрел я эту книгу до самого конца довольно быстро. Просмотрел и прочитал, потому что текста в ней было не очень много, а рисунков, наоборот, в избытке. Я прочёл книгу всю. От короткого вступления до оглавления. Я просмотрел все рисунки… Я видел в ней все буквы и знаки препинания. Мне в тексте не попалось ни одного непонятного слова. Но я не понял ничего. Совсем! Закончив чтение, я принялся читать сначала. Но родители распорядились погасить свет и спать. Как уснул тогда – не помню.
Следующим вечером я продолжил чтение. Книга Ильи Рутберга оказалась скорее учебным пособием, чем книгой. А к тому моменту я не имел опыта работы с учебными пособиями. И значит, книга была адресована не мне, а людям, которые уже имели представление о том, что такое пантомима, но не знали, как её исполнять и что для исполнения пантомимы нужно сделать.
До знакомства с книгой «Пантомима: Первые опыты» я имел дело только с учебниками и художественной литературой. Литературу я в основном читал сам по собственной инициативе и к собственной радости, а учебники – по требованию учителей и с их комментариями. По своей воле я никакой учебник в руки не брал.
Работа Ильи Рутберга была сродни учебнику. В его книжке описывалось, например, как нужно исполнить волнообразное движение рукой и какие упражнения нужно было делать, чтобы это движение получилось наиболее убедительным. Также описывалась техника шага на месте, который создавал иллюзию настоящего шага… И разные другие премудрости техническо-физического исполнения основных пантомимических приёмов.
В книжке представлены были вполне понятные, наглядные рисунки и схемы того, как надо разные движения делать, каким образом надо себя тренировать, растягивать, разминать и как держать осанку.
Книгу я через десять дней сносил в библиотеку, и продлили ещё на десять дней. За это время я её выучил практически наизусть и срисовал все рисунки из неё.
В то время привычной доступной копировальной техники не существовало. Поэтому необходимые тексты из книг обычно переписывались, перепечатывались на пишущей машинке, заучивались наизусть или перефотографировались. Я всё, что мог и хотел, запомнил, рисунки срисовал.
В процессе заучивания той книжки и копирования рисунков я пробовал делать то, что рекомендовал автор. Всё вроде было несложно, но ничего не получалось. Тело не слушалось указаний. Я впервые столкнулся с тем, что не знаю, как отдать точный приказ пальцам, кистям рук, ступням, шее… Мои собственные конечности не слышали меня или слышали и не понимали, а то слышали, понимали, но не слушались. Я был этим сильно удивлён. Но именно в этом нашёл азарт преодоления.
Часами проделывал я разные упражнения перед зеркалом. Спешил после школы домой и, пока родители были на работе, упражнялся упорно и неутомимо. Родители не одобрили бы мои старания в этих упражнениях, а настояли бы на занятиях по школьной программе. Когда кто-то из них, чаще мама, раньше отца приходила домой, я брал учебник и читал его стоя у стены в рекомендованном Ильёй Рутбергом для улучшения осанки и физической дисциплины положении. Это было непросто. Нужно было стоять, касаясь стены затылком, лопатками, серединой спины, крестцом и пятками. Необходимо было так стоять, всё время контролируя названные выше точки на предмет их соприкосновения со стеной. При этом я читал учебник и пытался вникнуть в суть и смысл того, что читал.
Так я делал день за днём, упорно и даже не пытаясь соблазнить самого себя каким-нибудь другим приятным и весёлым занятием. Или попросту поддаться лени, с которой я всегда был дружен. Я исполнял то, что рекомендовал Илья Рутберг, как приказ. Без вопросов. Исполнял рьяно. Такого со мной прежде не случалось.
Все мои попытки заниматься спортом, а такие в моей школьной жизни были, наталкивались на мою лень, отсутствие азарта и нежелание преодоления. Я пробовал заниматься вольной борьбой, плаванием и хоккеем. Но мне быстро становилось скучно, а соревновательность и желание кому-то и себе самому что-то доказать никак не просыпались. Довольно долго мне казалось, что я хочу заниматься фехтованием. Мне нравилась форма фехтовальщиков и оружие. Папа хотел, чтобы я занялся всерьёз хоть каким-то спортом… И когда наконец в городе открылась хорошая школа фехтования, я пошёл туда записываться. Я правда хотел. Но придя в назначенное место и ожидая своей очереди на собеседование, я увидел обычный спортзал, увидел мальчиков и девочек, юношей и девушек, которые бегали, прыгали, приседали, гнулись во все стороны, то есть делали то же самое, что и в секциях других видов спорта. Никто шпагами и рапирами не размахивал. Мне тут же стало заранее скучно, и я ушёл, не дождавшись своей очереди.
А тут вдруг я такой ленивый в своё вольное время, в свои шестнадцать лет, дома, без всякой практической необходимости, без указания учителей и родителей, наоборот, вопреки всяким указаниям и рекомендациям, в ущерб школьным занятиям и с риском погубить свою будущность занимался, в сущности, физическими упражнениями по книжке. Занимался не по причине пользы этих упражнений для здоровья… Я делал это потому только, что Илья Рутберг их описал и назвал свою книжку «Пантомима: Первые опыты». Слово «пантомима» было ключевым и решающим.
А вот тут я хотел бы вспомнить традицию английских старинных романов эпохи Просвещения и сентиментализма. Я хочу, как те романисты, обратиться к «пытливому читателю».
Обычно обращение выглядело приблизительно так: «В этом месте пытливый читатель непременно заметил бы…» Или: «Тут пытливый читатель вправе задать вопрос…». А я же скажу: если пытливый читатель успел подумать, не казалось ли мне самому странным моё тотальное увлечение и мои упорные занятия теми самыми упражнениями? То я отвечу: конечно, казалось!!! Я сам себе удивлялся. Я понимал, что то, чему я посвящаю так много времени вместо того, чтобы наслаждаться юностью или, наоборот, ответственно отнестись к завершению школьной учёбы и готовиться к поступлению в высшее учебное заведение… Я понимал, и весьма остро, что занимаюсь непонятно чем, непонятно для чего. Но в то же время я ясно осозновал, что это выше моего понимания и выше меня. Так-то!
Самым угнетающим и тяжёлым в моём том непонимании было то, что в книжке Ильи Рутберга имелось всё, что нужно для того, чтобы подготовить своё тело, сделать его гибким и послушным, сделать его особенным… Вот только в ней не было главного. В ней не было сказано – ДЛЯ ЧЕГО! Для какой цели?
Как научиться волнообразно двигать руками и всем туловищем, как создать иллюзию бега или шага, но при этом остаться на месте, как изображать ладонями несуществующую стену, тянуть несуществующий канат, поднимать несуществующую тяжесть – всё это в книжке было. Но что с этими удивительными навыками было делать, зачем всё это было нужно, какова цель?.. Вот чего я в книжке не нашёл. В книжке не было ни слова о том, как совершить чудо, которое я видел в томском Доме учёных.
Исполняя сложные упражнения, растягивая мышцы, тренируя пальцы, следуя указаниям и рисункам, я осознал, что делаю нечто подобное заучиванию слов неизвестного мне языка, не зная их значения, не имея представления о грамматике, а значит, и не имея никаких шансов на этом языке заговорить.
Мне было очень нелегко тогда. Паша, с которым мы ездили в Томск, занимался карате и с удовольствием демонстрировал набитые кулаки, высокий мах ногой и совершал разные стремительные движения. Карате было тогда модным делом, а главное, понятным. Особенно в городе Кемерово. А чем занимался я? Что мог я показать? У меня более-менее получалась несуществующая стена и кое-как волна руками. Разве этим можно было гордиться? Нет! Это нужно было держать при себе. Трудная для меня тогда выдалась затянувшаяся зима и начало весны.
Постепенно острота моих переживаний притупилась. Это свойство юности. Да и весна наконец наступила. Упражнения делать я продолжал, но скорее по привычке и без сложных душевных самокопаний. Зато читать стал ещё больше. И читать иначе, чем прежде. Гораздо пытливее.
Книги вдруг стали не просто доставлять удовольствие и упоительное наслаждение… Книги стали производить глубокое впечатление. Они стали будоражить и задевать самые сильные, прежде не затронутые чувства и переживания. Я впервые захотел перечитать какие-то книги из школьной программы, которые были прочитаны поверхностно, не по собственной воле. «Герой нашего времени» был первым перечитанным сознательно произведением. Роман засиял и заискрился. Я был в восторге. Следом я тут же перечитал «Капитанскую дочку». Проглотил просто. И нашёл эту повесть слишком простенькой и скорее забавной, а прежде она мне нравилась очень. «Преступление и наказание» читал по новой так, как в тринадцать лет не читал Стивенсона и Джека Лондона. Не мог оторваться, забывал про еду. А потом случайно, исключительно по причине нежелания отрываться от Достоевского, решил прочитать что-то из его собрания сочинений не очень объёмное и выбрал повесть «Неточка Незванова»… В процессе чтения со мной случилось почти то же, что в томском Доме учёных. Закончив чтение, я был готов идти куда угодно, как тогда после спектакля «Шляпа волшебника». Я был потрясён повестью. Но был к потрясению готов. Я даже ждал его. И вот оно снова случилось. Тогда был апрель. Я это помню. И было воскресенье.
Я читал повесть всю ночь с субботы на воскресенье. Закончил под утро. Уснуть не смог. Совсем. Когда родители проснулись, я им сказал, что хочу поехать в библиотеку. Оделся, вышел из дома и побрёл куда-то пешком. Ботинки были мокрыми вдрызг… Голода и жажды я не испытывал. Вернувшись домой, я хотел только одного: срочно взять повесть «Неточка Незванова» и начать её читать сначала, но с особой целью. Прежде я таких целей не знал и перед собой не ставил. Я хотел перечитать повесть, чтобы узнать, как она сделана. Каково её устройство. И как, каким образом, чем конкретно буквы, слова, предложения, абзацы текста производят такое во мне.
Помню отчётливо, что был рад тому, что осознал в себе этот интерес и сформулировал цель. А главное, я радовался, что у меня есть возможность эту цель достичь. Книга же была. Её можно было взять и во всём разобраться. Её можно было читать, перечитывать, останавливаться, думать. Со спектаклем этого сделать было нельзя. Его можно было только снова посмотреть. Но остановить было невозможно… Да и посмотреть снова у меня возможности не было. Для этого надо было как минимум ехать в Томск.
Теперь я понимаю, что именно тогда меня впервые сознательно заинтересовал феномен искусства. Пусть и весьма наивно. Мне стало необходимо разобраться в том, каким образом искусство воздействует на человека. Понять, как оно работает. Понять конкретно и определённо… Как ребёнку, который хочет разобрать куклу или машинку, чтобы выяснить, как кукла моргает, а машинка ездит.
Я, когда пишу эти строки, изо всех сил вгрызаюсь памятью в те свои переживания, что случились со мной более тридцати лет назад. Вгрызаюсь и не чувствую этих десятилетий. Переживания свежи и так же не разгаданы мною сегодняшним, как и тогда, мною шестнадцатилетним. Я никогда не пойму, почему, по каким конкретным причинам переживания те мне выпали и устремили мою жизнь в направлении, в котором я двигался, двигаюсь и намерен это движение продолжать. Я не смогу разобраться, даже если детально вспомню всё, что тогда со мной происходило. Почему искусство стало главной составляющей и сутью моей жизни.
Повесть «Неточка Незванова» я перечитал не лёжа, как прочёл изначально, а сидя за столом. Я занялся этим перечтением как работой. Читал внимательно. Подчёркивал в книжке особенно необычные обороты и диковинные слова, выделял целые куски, которые показались сложными или непонятными, намереваясь над ними подумать. Перечитал не отрываясь и не понял ничего про устройство прочитанной повести.
Я не понял, где и как в этом тексте спрятано то, что произвело на меня самое грандиозное впечатление. Я видел, что Достоевский употребляет слова не как другие авторы. Слышал и понимал, что тот язык, которым он пишет, устроен особенным образом, что его герои говорят так, как люди не разговаривают не только теперь, но и вряд ли говорили в бытность Фёдора Михайловича. Всё в его тексте было особенное. Но впечатление моё случилось не из-за этой особенности. Точнее, не только из-за неё… Сейчас я понимаю, что тогда я силился понять, как устроено чудо, полагая, что имею дело с каким-то фокусом, которому есть буквальное, конкретное объяснение, то есть существует разгадка. Когда тебе шестнадцать, всё должно иметь конкретное объяснение, причины и смысл. Смысл, по возможности, простой.
Однако ничего конкретного я тогда не понял, не увидел, не разглядел. И ничего успокаивающего придумать не смог.