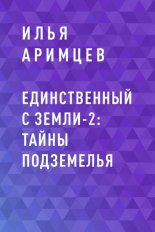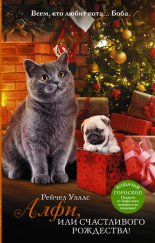Театр отчаяния. Отчаянный театр Гришковец Евгений
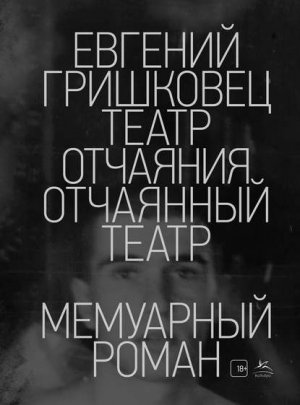
Комиссия довольно закачала головами, зашепталась, зацокала языками.
А потом Татьяна приказала девочкам сесть в стороне на пол, а мне показать сначала тот самый шаг на месте, потянуть несуществующий канат, перенести несуществующий тяжёлый чемодан, а потом сесть на стул и съесть несуществующий обед.
Над этим обедом я думал накануне весь вечер и подготовился. Я изобразил, что ем горячий суп, который сначала был недосолен, а потом я его пересолил и стал отплёвываться. На этом одна дама хохотнула. Потом я изобразил, что очень долго не могу разрезать кусок мяса, а потом не могу его прожевать. Тут хохотнули все. Когда я тряс несуществующей вилкой, не в силах стряхнуть с неё прилипший гарнир, кто-то захохотал. А в несуществующем чае или компоте у меня кто-то или что-то плавало, и я брезгливо старался это выловить из несуществующего стакана несуществующей ложечкой. В это время хохотала вся комиссия.
Закончив, я встал. Все захлопали. Даже девчонки. Я не знал, что делать, и, совершенно не готовый к аплодисментам, поклонился. Те аплодисменты были моими первыми в жизни профессиональными аплодисментами. Вторых таких у меня не было. Голова моя закружилась.
– Молодец какой, – сказал второй мужик явно про меня. – У нас же Институт пищевой промышленности, так? Пусть на новогоднем концерте выступит… Ты с какого факультета?
– Филологического, – честно ответил я.
– С какого? – спросило несколько голосов хором.
– Он студент университета, – спокойно и твёрдо сказала Татьяна, – но у него мама работает тут, и он, конечно, может выступить на концерте.
– Что мама преподаёт? – строго спросил всё тот же мужик.
– Теплотехнику и термодинамику, – без запинки отрапортовал я.
– Софья Николаевна? – уточнил он.
– Да, – кивнул я.
– Скажу ей, что сын у неё артист… Настоящий… – Он усмехнулся и вышел, а за ним все остальные.
Когда шаги комиссии стихли, Татьяна подошла ко мне.
– Ну куда ты тут со своим филологическим, а? – с упрёком сказала она, но осеклась. – Хотя что ещё ты мог сказать? Не врать же… Так что извини. Переволновалась… А ты молодец! Хорошо всё придумал… Перекривлялся, конечно. Но можно поработать, и получится неплохой номер. Вот только запомни раз и навсегда: когда ты на репетиции и когда ты не выступаешь, а учишься – никогда не кланяйся. Артист, тоже мне…
– Но они же захлопали, – обескураженно сказал я, пожав плечами.
– Справедливо! – усмехнулась Татьяна. – Аргумент принимается, но всё равно запомни… Хотя молодец! Все молодцы! А Саша сегодня просто самый лучший! Всем спасибо! Форму пока оставьте себе. В ней на вас хоть смотреть можно… А если соберётесь отвалить, то будьте любезны, сдайте. – Она сделала паузу, задумалась, а потом мотнула маленькой головой: – Спасибо, ребята, большое спасибо!
В тот декабрьский день, к сожалению, числа не помню, состоялось моё первое настоящее выступление.
До этого малюсенького выступления перед той вполне нелепой комиссией во мне не было никаких желаний, кроме жажды освоения техники и языка пантомимы. Я, казалось, готов был бесконечно заниматься растяжками и упражнениями на гибкость, совершенствовать пластику и точность движений. Я не сомневался, что, когда добьюсь в этом определённого, понятного только Татьяне результата, она предложит другой уровень познания и развития. Я был уверен, что за той ступенью, на которой я находился, последует следующая. Во мне не было никакой инициативы и собственной потребности.
Но после исполнения скромного и наивного этюда я обнаружил в себе желание двигаться в направлении выступлений. Мне страстно захотелось начать использовать полученные, пусть совсем ничтожные, знания и навыки в сценическом воплощении. Проще говоря, мне захотелось придумывать пантомимические сценки и номера. А также исполнять их для зрителей. Я захотел выступать.
Через пару недель после прихода комиссии я выступил-таки в сборном концерте студенческой самодеятельности на сцене актового зала Института пищевой промышленности. После этого я заболел сценой окончательно.
Татьяна помогла мне подготовить это выступление. Точнее, она сделала, выстроила и отрепетировала со мной полноценную пантомимическую миниатюру.
Она оставалась со мной после того, как остальные студийцы уходили, и мы репетировали. Это были первые в моей жизни настоящие репетиции.
Татьяна считала, а я ей верил, что выступление моё будет преждевременным, что мне рано на большую сцену, да ещё с большим номером. Но руководство приютившего нашу студию института в лице комиссии пожелало видеть в новогоднем концерте мой номер, и это желание необходимо было выполнить.
В процессе репетиций я что-то предлагал, что-то предлагала Татьяна. Она выстраивала композицию номера, закрепляла и фиксировала движения и мимику. Какие-то жесты и позы отвергала, какие-то требовала сделать крупнее и ярче, какие-то, наоборот, мельче. Это была удивительная работа. Мне было всепоглощающе интересно. А нам было весело.
В итоге у нас получился номер, в котором персонаж – студент, мы решили, что я играю студента, приходит в институтскую столовую пообедать. Всё, что он ест в этой столовой, оказывается невкусным, холодным, несвежим и либо слишком жидким, либо слишком твёрдым. Всё, что я ел, пил, а также держал в руках, я изображал языком пантомимы. В том числе стул и стол, на котором и за которым я сидел, и даже мух, которые летали и падали в мою пантомимическую еду. То есть я должен был выступать на голой сцене. Прям как хотел Этьен Декру.
Впоследствии я видел много вариаций на тему посещения столовой. Я тогда не знал, что знаменитый артист театра и кино уже показывал пантомиму ровно про это. Показывал в популярной телепередаче. Но я ту передачу не видел. И Татьяну в плагиате обвинить не могу. Наш номер сильно отличался от всего мною увиденного впоследствии. В процессе работы над ним я чувствовал себя первопроходцем.
За день до концерта после пятничного тренинга Татьяна сказала нам, что мы должны придумать название нашей студии. Это требование режиссёра концерта.
– Дело в том, что наша студия значится в документах как творческий коллектив. То есть как какой-нибудь вокально-инструментальный ансамбль. – При этом Татьяна брезгливо скривилась. – А творческий коллектив должен иметь название… Давайте придумаем… Я лично против этого. Нам до творчества ещё далеко… Но мы вынуждены подчиниться… Какие есть предложения? Только, пожалуйста, не надо никаких заумных и сложных слов. Не надо Пилигримов, Аэлит или Корпускул. Дружба или Доверие – это не про нас. Нам такое название не нужно. Мы тут не дружить собрались. Вот в университете есть театр «Встреча». Дали такое название театру, вот и встречаются. – Татьяна язвительно усмехнулась. – Давайте что-то ясное и лучше в одно слово. «Тень» было бы хорошим названием, но такой театр пантомимы уже есть… Ну? Давайте! Название мне нужно передать сегодня.
Девочки не предложили ничего. Саша предложил название «Волна», на что Татьяна сказала, что в этом случае от нас будут ждать матросский танец «Яблочко». Тогда он засыпал нас предложениями типа «Крылья», «Радуга», «Тишина», «Марсель» (в честь Марселя Марсо, пояснил он), «Весна» и ещё много. Я тоже что-то предлагал.
В итоге Татьяна хлопнула в ладоши и остановила этот процесс:
– Жили без названия и дальше проживём, – решительно сказала она. – Нам пока не нужно названий.
На концерт всей студии принесли билеты. Девчонки были очень довольны, на такие концерты невозможно было попасть простым смертным студентам. Родителям я про концерт не сказал. Так мне посоветовала Татьяна, и правильно сделала. Зачем было вносить дополнительные волнения, когда меня и без того трясло.
Перед концертом и во всё его продолжение за сценой было очень тесно. Ни о какой отдельной гримёрной и речи не было. А я и не знал, что такое гримёрная. В кулисах и во всех коридорах, комнатах, уголках толпились люди с гитарами, балалайками, девушки в красивых платьях, хористы в чёрных костюмах, бабочках и с перхотью на плечах… И ещё непонятно кто.
Татьяна, предвидя такое, предложила мне одеться в трико в нашем балетном зале, а потом накинуть сверху пальто и пройти потайными ходами за сцену. Я так и сделал. Внутри меня стоял абсолютный холод волнения. Мне казалось, что единственный мой оставшийся в живых орган – только сердце и его стук слышен даже на улице.
Когда я оделся для выступления, набросил на плечи пальто и собрался выходить из нашей студии, Татьяна остановила меня.
– Погоди! Сейчас я тебя слегка загримирую, – сказала она удивительные слова. – Присядь.
Я сел, а Татьяна достала из сумки чёрную широкую и плоскую пластмассовую коробочку, на которой было написано: «Грим». Она открыла её, и я увидел все цвета радуги, как в новой коробке пластилина, но только ярче и разнообразнее.
Татьяна пальцами брала белую краску из коробки и наносила мне на лицо. Быстро и уверенно. Потом попросила закрыть глаза и чем-то поводила по закрытым векам, ниже глаз и под бровями.
Она ещё что-то делала. От грима пахло бабушкиной пудрой и кремом для рук.
– Запомни этот момент, – закончив работу с моим лицом, торжественно и тихо сказала Татьяна. – Взгляни-ка сюда.
Я повернулся к зеркалу и увидел артиста. Настоящего артиста мима. Настоящего. Мне совершенно незнакомого. Этот артист был в классическом гриме. В гриме, без которого исполнять пантомиму невозможно. В гриме, который моментально вспоминается при слове «пантомима». Но у этого артиста были мои глаза.
Я выполнил просьбу моего учителя. Я запомнил тот момент.
Мой номер был в середине концерта. Со сцены доносилась музыка и стук каблуков танцоров, аплодисменты, объявления, стихи, аплодисменты, песни, аплодисменты. Татьяна стояла рядом. Я был собран и сжат, как семечко, как горошина, готовая дать росток, как крошечный птенец в скорлупе ещё целого яйца.
И вдруг чей-то голос рядом произнёс:
– Ваш выход следующий.
Потом была музыка, которая играла бесконечно долго, а потом я услышал весёлый и громкий мужской голос, долетавший со сцены:
– Много удивительных чудес скрывается в глубинах нашего института. Каких только талантов нет среди тех, кто учится в нём и работает. Эти таланты не перестают удивлять. В уходящем году мы видели массу сюрпризов на этой сцене. Но год ещё не закончился, и у нас в запасе есть ещё один сюрприз.
– Впервые на этой славной сцене, – продолжил бодрый женский голос, – вы сейчас увидите… Именно увидите, а не услышите… Уникальное искусство пантомимы. С начала учебного года в нашем институте открыта и работает студия пантомимы. – Тут зазвучали аплодисменты. – И пусть медицинский, политехнический, Институт культуры и даже университет кусают локти и завидуют нам. У них таких артистов нет, а у нас есть. – Снова загремели аплодисменты.
– Итак, – снова зазвучал мужской голос, – на сцене выступление студии пантомимы Технологического института пищевой промышленности. Миниатюра «В студенческой столовой». Вас ждёт юмор, сатира, критика и самокритика…
– Вот идиоты!.. – металлическим шёпотом сказала Татьяна.
– А также удивительное искусство пантомимы, – всё громче и быстрее говорил ведущий, – в исполнении студента первого курса…
И тут он произнёс мои имя и фамилию.
– Иди, – спокойно сказала Татьяна, и я пошёл.
Нам не дали порепетировать на сцене. Так что я вышел на такую большую сцену впервые в жизни. Зал аплодировал и даже смеялся в предвкушении юмора и сатиры.
Я в жизни слышал и читал много воспоминаний о первом выходе на сцену и непременном провале. С детства любил и люблю один из Денискиных рассказов Драгунского про то, как Дениска на концерте пел частушки «Папа у Васи силён в математике». И какой у него случился провал. Я обожаю гениальный монолог Ираклия Андроникова «Первый раз на эстраде» – этот удивительно смешной провал великого рассказчика.
Со мной ничего подобного не произошло. Всё моё волнение исчезло, как только я вышел на сцену. Я не ожидал, что она будет такая огромная и что свет будет таким ярким. Я также не был готов к тому, что из-за мощных прожекторов, бьющих в глаза, мне совершенно не будут видны зрители. Но это не помешало мне точно определить то место, на которое надо прийти, чтобы начать выступление.
Я, не торопясь, вышел на самую середину, туда, где свет был самым ярким, и остановился. Зал моментально затих. Воцарилась волшебная тишина, которую можно услышать только там, где в ожидании молчат сотни людей.
Секунд через двадцать после начала моего выступления кто-то стал хихикать, потом ещё кто-то, через минуту зрители хохотали.
Я отработал номер так, как мы репетировали, – ни лучше ни хуже. Всё сделал в точности от и до. В какие-то моменты мне хотелось добавить смешного, и я знал, что хочу добавить, но не стал.
Мне аплодировали очень горячо. Я же и тут выполнил наказ Татьяны, то есть быстро подошёл к краю сцены, поклонился одной головой и очень быстро убежал под гул аплодисментов и выкрики «ещё, ещё…».
Кроме радости и облегчения, я ничего тогда не чувствовал. Да. Совсем не чувствовал того, что сладкий волшебный яд проник в меня. Я вдохнул его на сцене.
– Молодец, – вполне спокойно сказала мне Татьяна, сразу после выступления уведя меня в тихое место. – Но над точностью надо поработать. Память рук надо развивать. На сцене все недочёты сразу становятся видны. Сцена вскрывает все недостатки. Но молодец. Всё сделал, как мы отрабатывали. Не суетился. Иди переодевайся. И грим смой, а это непросто.
Вскоре год закончился. На последнее занятие уходящего года Татьяна принесла малюсенькую пластмассовую ёлочку с несколькими фонариками. Это всё, что было праздничного в тот день в работе нашей студии.
А потом была первая сессия, и я в первый и в последний раз стал отличником. А ещё потом были первые студенческие каникулы. Это были первые каникулы, которым я был не рад. Они показались мне бесконечно долгими. Я истомился, ожидая их окончания. Вот как сильно мне не хватало пантомимы.
Татьяна закрыла студию на две недели. Я предложил продолжить работу. Но все, кроме меня, были иногородними, им надо было ехать домой, они рвались в свои районные центры и городки. Девчонки хотели каникул, домашней еды и мечтали хоть ненадолго покинуть общежитие, а также Институт пищевой промышленности в целом.
Я этого тогда понять не мог. Я жил дома с родителями. И у меня была своя комната. Мне тогда ещё было неведомо, какая это великая ценность, какое это счастье и благо.
Мне очень хотелось попросить Татьяну поработать со мной индивидуально, и я не понял, почему она отказала. Я тогда не знал, что можно желать просто побездельничать, даже если у тебя есть любимое дело и возможность от него не отрываться.
О юность! Ты щедра. Ты расточительно щедра на время. Ты даришь его так легко, что его просто не удаётся оценить. Ты, юность, даришь бесценного времени так много, что его совершенно не жалко тратить. С чего ценить то, что неисчерпаемо? В юности можно даже гневаться на то, что времени слишком много. Можно пытаться его ускорять, прожигать, убивать разными способами, например бесконечной болтовнёй по телефону, потугами писать стихи, стараясь возбудить в себе то, что принято называть вдохновением, а ещё можно маяться в ожидании чего-то, слоняться по городу без цели и с тоской видеть, что стрелки часов практически неподвижны.
В свои первые студенческие каникулы я в полной мере ощутил неподвижность юношеского времени, когда нечего делать. Татьяна отказалась вести студию для меня одного, заниматься со мной индивидуально, а также решительно не позволила мне приходить самому в балетный зал и заниматься в гордом одиночестве.
Дома в те каникулы мне совсем не сиделось. Никакой поездки я себе не придумал, интересной компании после расставания с местными битниками у меня не появилось. С девочками я к тому моменту ещё не научился общаться как с девочками, а стало быть, ни в кого влюблён не был и даже не был увлечён. То есть времени у меня было страшно много.
Именно поэтому тогда, той самой зимой, на грани своего совершеннолетия я взял – и от корки до корки прочитал «Илиаду». Уж если убивать время, так уж убивать.
Как я рад, что мне тогда каким-то чудом пришло в голову потратить свои первые студенческие каникулы таким странным и мучительным образом. Сейчас я понимаю, что если бы тогда я этого не сделал, то не сделал бы никогда. Я впоследствии не нашёл бы в себе сил и возможности прочесть этот невозможный для живого восприятия текст, а главное, не смог бы его полюбить.
Дома я не смог «Илиаду» читать. Дома я находил всякие лазейки и причины от этой книги оторваться, прекратить эту муку и тоску. Но цель была поставлена, и, чтобы её добиться, я стал читать в читальном зале библиотеки университета. Уезжал из дома утром, брал с собой бутерброды и читал.
Читал каждую строчку, боролся с желанием пропускать особо бессмысленные страницы. Даже Список кораблей2 я мужественно осилил полностью. Когда я терял понимание и просто бежал глазами по строчкам, читая буквы, которые не складывались в слова, когда моё сознание бунтовало и переключалось на живые и посторонние мысли, я останавливался, отрывался от книги, выходил из тихого и торжественно-пустого в дни каникул читального зала, шёл мыть лицо холодной водой, а потом возвращался к Гомеру, находил то место, с которого терял нить текста, сбегая в собственные неуловимые размышления, и продолжал мучительный труд. Только в юности можно заключать с собой такие пари, пытаясь себе что-то доказать.
«Илиада» за первую неделю поработила меня. Она подчинила меня себе, и мука превратилась в счастье. Когда к концу второй недели я завершил труд чтения этой великой книги, когда прочёл я «Так погребали они конеборного Гектора тело», когда «Илиада», казавшаяся бесконечной, вдруг закончилась и на странице ниже последней строки распахнулась пустота белой бумаги, я заплакал. Не сильно. Несколькими слезами.
«Илиада» вошла в меня и легла на своё место в моей жизни. Легла куда-то в основание, в фундамент. Тогда я не знал, что это основание и есть то, что называется словом «образование».
До сих пор горжусь тем, что могу ни капельки не лукавя говорить, что прочёл «Илиаду» от и до. С «Одиссеей» так не получилось. Я попытался её читать сразу после «Илиады», но уровень текста был не такой высокий, не такой великий. Да и каникулы кончились.
Жаль, что каникул, которые бы совпали с «Дон Кихотом», у меня не случилось. А то мог бы говорить, что я прочёл оба тома. Увы! Я и одного не осилил.
Не могу не отвлечься от повествования для важного комментария.
Я старательно избегаю отклонений от главной темы романа. Этой темой является таинственный путь к театру и поиск собственного театра. Поэтому пропускаю и должен пропускать значительные временные отрезки и важные события жизни, которые не являлись движущими или препятствующими на том пути.
Это очень непросто. Как только углубляешься в воспоминания, как только запускаешь этот процесс на полную мощь, так сразу прошлое возникает и обрушивает на тебя массу больших и совсем незначительных событий, кучи мелочей и целые вереницы лиц и имён. Что-то вспоминается точно и детально, что-то совсем смутно и без подробностей. И всё кажется дорогим, бесценным, необходимым. Хочется вспомнить и запечатлеть всё без исключения. Каждую вспомнившуюся деталь, каждое когда-то произнесённое слово, каждое услышанное в ответ, каждое лицо, имя, место… И даже одежду и обувь. То есть всё, что сохранила и позволила воспроизвести память.
Однако нужно выбирать. Приходится отказываться от дорогих и важных воспоминаний в пользу тех, которые могут стать частью этого романа. Остальное необходимо мужественно оставить на месте, понимая даже, что, вполне возможно, мне не удастся к ним вновь вернуться, а стало быть, они канут, исчезнут, растворятся без следа.
Когда «Илиада» и каникулы подходили к концу, после очередного дня, проведённого в читальном зале, я спустился из библиотеки к гардеробу и увидел двух парней, которые вешали на доску объявлений небольшую афишу. Парни были яркие, что называется «творческие личности». Они громко говорили, смеялись и вели себя очень свободно.
Когда парни сделали своё дело и удалились, я подошёл к афише. Она была аккуратно исполнена цветной гуашью на толстой бумаге. Кто-то во весь лист нарисовал стену красного кирпича, а на стене написал: Театр «Встреча», А. Казанцев, спектакль «Старый дом» тогда-то и тогда-то.
С тех пор как Татьяна спросила меня про некий театр «Встреча», я конечно же думал о нём. Я разузнал об этом театре всё что мог, но ни разу в нём не бывал. Мне было не любопытно. Театр он и есть театр, хоть областной, хоть университетский. Мне он был не интересен и не нужен.
Однако каникулы затянулись, и после десятка дней чтения «Илиады» мне не был страшен никакой театр. Так что я решил посмотреть спектакль «Старый дом».
Про театр «Встреча» я знал, что это сугубо студенческий театр, что каждый год в его студию набирают новых студийцев. Попасть в их число очень трудно, а стать одним из тех, кто допущен до сцены, почти невозможно. Точнее, возможно, но так же, как возможно чудо. Спектакли во «Встрече» давали не часто, билеты раздобыть было нереально.
Все те люди, что входили в число актёров «Встречи», все студийцы, а также некие приближённые к театру, все подруги, приятели или приятели подруг были особенными. Они ходили по университету по-хозяйски. Они были высшим обществом в университетских стенах. А университет определённо любил свой театр.
Спектакль «Старый дом» был назначен на вечер первого после каникул учебного дня. В студию в тот вечер идти было ненужно, и я после занятий посидел в читальном зале, всласть углубился в древнерусскую литературу и пошёл на спектакль.
Я знал, что во «Встречу» попасть трудно, что мест в этом театре мало, но шёл спокойно с мыслью: попаду – хорошо, не попаду – так ещё лучше.
Вечером университет был ещё полон жизни. Везде в переходах и коридорах горел яркий свет, всюду были люди.
В узком коридоре между двумя корпусами университета стояла небольшая толпа. Это были ожидающие спектакля зрители. Те, кто шли по своим делам из корпуса в корпус, вынуждены был протискиваться сквозь толпу. Я к толпе присоединился.
Мне не раз приходилось ходить по этому коридору. Коридор был как коридор. Двери с обеих сторон. Но на одной висела табличка «Театр “Встреча”», а рядом с дверью на стене находилась доска, пестрившая разной информацией о жизни театра. Где же был сам театр и какой он, я не знал.
Зрители, пришедшие в театр «Встреча» не были нарядными, но зато от них исходило благоговение. Они были тихи, как в читальном зале библиотеки, взволнованны и все в предвкушении. В основном в подавляющем большинстве это были молодые барышни и дамы. Скорее всего, студентки и преподаватели. Мужчин не было. И только несколько парней немногим старше меня решили посмотреть спектакль «Старый дом».
Минут за пять до назначенного времени начала спектакля за дверью с табличкой послышалась возня, зрители затаили дыхание и только кто-то ворча протискивался сквозь жаждущих театра, спеша по своим мирским делам.
Дверь приоткрылась, из неё выглянула девушка с причёской, строго оглядела окружающих и так же строго, как представитель высших сил, сказала: «Пожалуйста, приготовьте билеты».
Зрители, потянувшись в дверь, протягивали билеты. Там, за дверью, было темно. Я стоял и ждал, когда все пройдут.
Ждать пришлось недолго.
– Ваш билет, – выглянув в коридор и убедившись, что никого больше нет, спросила девушка с причёской.
– Простите, но у меня нет билета, – ответил я спокойно и улыбнулся.
– И что?
Я пожал плечами.
– С какого факультета? – быстро оглядев меня сверху вниз и обратно, спросила она.
– Филологический.
– Понятно, – предварительно тяжело вздохнув, сказала она. – Постой тут.
А я успел подумать о том, что, если бы я сказал, что я с исторического или математического? Она бы тоже так вздохнула?
– Всё. Пойдём двери перекроем, – позвала девушка кого-то.
На её зов пришла другая девушка, с другой причёской, и они пошли в разные стороны к дверям, которыми начинался и заканчивался коридор. Двери с грохотом быстро были закрыты, и девушки поспешили обратно.
Мне же было ясно, что на спектакль я конечно же попал, иначе меня бы не оставили в заблокированном с обеих сторон пространстве. Тогда я вспомнил то, как попал в томский Дом актёра на «Шляпу волшебника» и понял на всю жизнь, что в театр можно попасть всегда, если ты один и вежлив.
– Заходи, – сказала мне первая девушка, – проходи, садись там.
И я вошёл в театр «Встреча». Под ногами что-то захрустело. Я глянул и увидел рассыпанные по полу сухие осенние листья. Многие уже раскрошились под ногами.
Попал я в небольшое невысокое вытянутое помещение с чёрными потолком, стенами и без окон. Оно было даже меньше, чем то, где я смотрел «Шляпу волшебника». Но если там я не ощутил нелюбимого мною театра, там со мной случилось чудо, когда начался спектакль, то тут театр чувствовался сразу.
Больше всего меня поразило вот что: только что я стоял в ярко освещённом коридоре, по которому много раз ходил и по которому ходят и ходят люди по своим исключительно университетским делам, а потом сделал буквально один шаг за порог двери с табличкой «Театр “Встреча”» – и оказался в театре. Причём не просто в театре, а сразу на сцене.
Да, войдя в дверь и наступив на сухие листья, я увидел перед собой зрителей. Помещение было вытянутым вдоль коридора, и вдоль всей длинной стены напротив двери сидели в несколько рядов те самые люди, с которыми я толпился в коридоре. А вдоль той стены, в которой была дверь, стояла какая-то мебель.
В помещении было довольно темно. Тусклый свет шёл непонятно откуда и освещал зрителей. Остальное пространство уходило в полумрак и черноту стен.
Я увидел один-единственный свободный стул строго посередине первого ряда, прошёл к нему несколько шагов и уселся. Как только я это сделал, дверь в коридор закрылась, тусклый свет погас и всё погрузилось в темноту. Вслед за этим зазвучала музыка.
Зал, пятьдесят с небольшим зрителей, вдохнул и выдохнул. Кто-то прошёл мимо в полной темноте, едва меня не задев. Я почувствовал сильный сладкий запах духов. Следом прошёл ещё кто-то и пахнул потом. Темнота с музыкой длилась секунд двадцать.
И вдруг в дальний от меня правый угол ударил яркий свет нескольких театральных ламп. Музыка пошла на убыль, и стал слышен громкий, слегка треснутый девичий смех. Смеялась девушка, которая в освещённом углу стояла вдвоём с парнем на фоне убогой декорации, изображавшей стену заброшенного дома. Ещё там была какая-то лестница, на полу – сухие листья.
Парень и девушка заговорили… Они находились совсем близко и на одном уровне со мной. Мои ноги стояли на том же полу, что и их ноги. Несколько секунд назад они чуть не задели меня, проходя мимо, я уловил их запахи. Но стоило им заговорить, как они тут же стали недосягаемы и далеки, как в обычном театре. И говорили они так же неестественно и громко, как те актёры, что я видел на сцене областной драмы.
Спектакль я помню смутно. Он мне не нравился. Это был вполне обычный театр, только засунутый в маленькое помещение. Актёры были молодые, даже юные, но старались играть по-взрослому. Они наивно изображали зрелых людей, в отличие от профессиональных артистов областного театра, которые изображали молодых. Декорации были неряшливы, костюмы на всех выглядели одеждой с чужого плеча. К тому же всё – и декорации, и актёры – находилось совсем близко. Иногда на расстоянии вытянутой руки.
Пьесу тоже не помню. Какие-то разговоры, семейные сцены. Какой-то современный быт. Язык, которым говорили персонажи, был вроде похожим на живую речь, но в то же время он был каким-то слишком простым. Не таким, каким говорили известные мне люди. А после долгого чтения «Илиады» он казался мне просто примитивным. И трудно было после компании Агамемнона, Гектора, Приама и Ахиллеса переключиться на быт в исполнении юных людей.
Зрители же были в восторге. Они плакали, смеялись, взрывались аплодисментами. Их близость к исполнителям заводила последних, и они играли всё громче и громче.
Мне не нравилось то, что я видел. Но скучно и неловко за людей на сцене мне не было. Спектакль и сам театр были фальшивыми, но того отвращения, какое я испытывал на «Горе от ума» в драмтеатре, со мной в маленьком помещении «Встречи» не случилось.
Я не сразу понял почему. И только когда рядом со мной, метрах в двух, не более, появился здоровенный, мощный молодой парень и стал играть роль пьяного мужика, я осмыслил разницу двух театров, большого областного и маленького студенческого…
И тот и другой театры делали одно и то же, способы изображения и там, и там были одинаковые… Вот только в театре «Встреча» люди в свете прожекторов, в плохих костюмах и убогих декорациях беззаветно любили то, что они делали. По ним было видно, что сама возможность играть в театре, исполнять роль – это для них огромное счастье, дар и лучшее, что только могло с ними случиться.
Парень, игравший пьяного, говорил таким мощным голосом, что был бы слышен в огромном зале. Жилы на его шее надулись, глаза налились кровью. Такое было слишком, это было чересчур в маленьком театре для полусотни зрителей. Но было видно, что он работает на пределе, так его распирала страсть. Так он любил театр! Пот с него потёк почти сразу же. Но если бы было нужно, то он и кровь пустил бы из жил.
Когда он со страшным грохотом и хрустом опустил кулак на стол, за которым сидел, барышни по обе стороны от меня подпрыгнули. Я посмотрел сначала на одну, потом на другую. С ними происходило гораздо большее, чем просто театр. Если бы я был тогда старше, то смог бы догадаться, что с ними происходило.
Когда спектакль закончился, я был этому рад. Но радовался окончанию спектакля я один. Актёры бы ещё играли и играли. Барышни бы ещё смотрели и смотрели. Зато какую они устроили овацию! Настоящую, со взвизгиванием. Я не мог себе представить, что пятьдесят человек могут наделать столько шума.
Мы аплодировали стоя, актёры кланялись, вплотную подходя к нам. После двух волн аплодисментов на сцену вышел человек, при виде которого гром восторга усилился вдвое. Он в спектакле не играл, а, значит, был тем, кто спектакль делал.
Я вспомнил, как аплодировали в Томске столь поразившему меня спектаклю и его лидеру. Там восторг выражали куда скромнее, хотя спектакль был волшебный. Это я тогда объяснил себе тем, что в суровом промышленном Кемерово страсти кипят куда сильнее, чем в утончённом, культурном северном Томске.
Человек, который вышел на сцену, вёл себя совершенно свободно. Он подал актёрам знак подойти ближе к зрителям и откланяться как следует, а сам, даже не улыбаясь, а скорее усмехаясь, едва кивнул нам пару раз.
Он был с бородой, невысокого роста, с пузцом, в джинсах, заправленных в короткие сапожки на молнии, в свитере, на шее у него был повязан шарф. Так в кино показывали художников, учёных, путешественников. Всё на нём было мятое, и ничто не мешало его свободе. Он был в этом театре среди своих актёров свободнее, чем у себя дома, если, конечно, у него был дом. Жесты его были расслаблены и властны. Если бы римские императоры жили в Сибири, то они были бы одеты и выглядели бы именно так.
Когда овация иссякла, актёры не ушли за кулисы. Не растворились в недоступных недрах театра. Кулис и недр не было. Были какие-то лазейки за чёрной тканью, висевшей по стенам, и тот самый коридор, дверь в который распахнулась, и оттуда в театр ввалился свет обычного скучного коридора.
Зрительницы потянулись в эту дверь, обгладывая глазами актёров, которые, скинув с себя облик персонажей, принимали благодарность и поздравления от тех зрительниц, которые решились к ним подойти. Особенно жадно уходящие смотрели на парня, который играл пьяного мужика. Какие-то барышни окружили его и щебетали.
– А что? Оставайтесь! Сейчас чай будем пить, – говорил он щебетуньям своим могучим голосом на зависть уходящим. – Одежда у вас где? В гардеробе? Давайте бегом туда и обратно… Да нормально! Чаю попьём…
Помню, что ехал домой по холодному городу в ледяном троллейбусе, что называется, в смешанных чувствах. Я был рад тому, что спектакль и сам театр «Встреча» мне не понравились. Мне было спокойно и приятно осознавать, что всё я делаю правильно, что искусство пантомимы гораздо более высокое и прекрасное, чем то, что я видел в маленьком зале университетского театра. Но тот бешеный восторг зрительниц меня огорчил и обескуражил. Когда я наблюдал, что в областном драмтеатре людям нравилось ровно то, что мне не нравилось категорически, это вызывало у меня просто недоумение. А тут я чувствовал сильное беспокойство, раздражение и даже гнев.
Я не знал тогда, что испытывал первую в жизни ревность к чужим зрителям и чужому, как мне казалось, незаслуженному успеху. Я не понимал тогда, что впервые пришёл на спектакль не просто зрителем, а уже артистом другого коллектива, носителем другой художественной идеи. Не знал я и того, что уже больше не смогу быть в театре просто зрителем, а эта ревность будет только углубляться во мне и крепнуть.
Когда я смотрю на фотографии времён первого курса, а их осталось совсем немного, с десяток, то вижу очень странного человека. Таким я был всего один год. В школе я был весёлым, язвительным, увлекающимся всем подряд троечником, почти разгильдяем. Был человеком, которого невозможно было заставить делать то, что ему было неинтересно или казалось ненужным. Я, как мог, старался необычно одеваться и из кожи лез вон, чтобы блеснуть редкими для своего возраста знаниями, которые никак не могли помочь в учёбе.
На первом курсе всё изменилось. Короткая встреча с битниками кемеровского образца случилась вовремя и послужила прививкой от высокомерия и снобизма.
Я вдруг стал дисциплинированным и целеустремлённым. Первую сессию сдал на отлично без сучка и задоринки. Мне вдруг понравилось быть отличником. Я сразу и навсегда понял, что учиться в университете хорошо – это намного проще, чем учиться плохо. То есть с хвостами, пересдачами и прочими радостями.
Ну а занятия пантомимой делали мою жизнь полностью осмысленной и счастливой.
Одеваться я стал в университет очень аккуратно и скорее скучно, чем элегантно… Хотя какая могла быть элегантность в то время в семнадцать лет. В тот год я пристрастился тщательно чистить обувь. Регулярно и до блеска.
Стригся я коротко, без фокусов. Отрастил усы…
На самом деле усы полезли ещё в школе и довольно рано. Я этим гордился. Я был единственным усачом в классе. Но в школе за усами я не следил. А вот в университете стал их подстригать, ровнять, чуть ли не расчёсывать.
Мне всегда, точнее, лет с пятнадцати, ужасно не нравилась моя внешность. Я завидовал тем ребятам, у которых были густые и толстые волосы. Мне смертельно хотелось носить волосы на прямой пробор с волнами в обе стороны. Такое называлось «финский домик». Но мои тонкие и редкие волосы не позволяли с собой это сделать… Я завидовал длинноногим и высоким.
В школьные годы я не стеснялся своей картавости, спокойно пропускал мимо ушей смех класса на уроках истории после того, как произносил во время ответа «крейсер “Аврора”», или «Порт-Артур». Я не обижался, когда меня передразнивали…
А в университете я впервые ощутил картавость свою как что-то нехорошее, ущербное, неаккуратное. Студент-отличник не мог, не должен был так говорить. Стесняясь этого речевого дефекта, я научился довольно ловко подбирать слова с минимальным количеством неудобного мне звука, а также натренировался произносить его наиболее мягко, округло, не раскатисто.
Возможно, поэтому по всем этим причинам в свой первый студенческий год я совсем совершенно не интересовался барышнями. Ну совсем! Хотя их было вокруг столько… В сущности, на филологическом факультете только барышни и были. Да к тому же мы учились в одном корпусе с факультетом романо-германской филологии, проще говоря, с факультетом иностранных языков. А на нём учились самые красивые, нарядные и лихие барышни…
Но у аккуратного студента с короткой стрижкой, усами, во всегда свежей рубашке и блестящих ботинках, который смотрит на меня с фотографий первого курса, на уме была только пантомима, «Илиада», языкознание, латынь и восторг от начала изучения теории литературы.
Таким, как в тот год, счастливым, уверенным в себе, гордым и довольным своими успехами, таким целеустремлённым и эффективным я не был до и не буду уже после никогда. Но почему я был именно таким, в то время как все мои одноклассники наслаждались первым студенческим годом как абсолютной свободой накануне неизбежной армии, мне до сих пор непонятно. Видимо, пантомима требовала такого, и только такого, подхода к жизни.
В студии, на первом после каникул тренинге, я испытал прямо-таки физическое наслаждение от движений и нагрузки. Я пытался дома делать упражнения, тянуться, совершенствовать пластику, но сразу убедился, что это бессмысленно. Мне необходимо было свободное от всего домашнего, житейского, мирского пространство. Мне нужен был даже этот продуваемый путь от дома в студию и обратно, чтобы оставить всё постороннее за пределами зала с зеркалами и дощатым полом. Но главное, мне нужно было руководство! Я понял, что любые занятия без поставленной задачи, без замечаний и наблюдающего за твоей работой со стороны становятся просто физкультурой, просто утренней зарядкой. А у тренинга в студии каждый раз была задача, которую ставила Татьяна. Она же оценивала качество исполнения этих задач. Из совокупности выполненных задач вырисовывалась цель… А целью была пантомима!
После каникул девчонки вернулись весёлые, шумные. Некоторые принесли Татьяне домашние гостинцы. Наивные и милые барышни! Татьяна резко и коротко всё отвергла, приказала быстро переодеться, прекратить болтовню и построиться. Оглядев их, она язвительно отчитала бедных девчонок за набранный на домашних харчах вес. Татьяна как рентгеном прошлась по каждой.
– Пироги, картошка, блины, сметана, – чётко проговаривала она тонкими улыбающимися губами, – как же! Доченька приехала домой, доченька в городе исхудала!.. И что мне теперь с вами делать?.. Хотя я знаю, что делать!.. Будем ваш свежий жирок оставлять на этом полу… Повернулись направо и побежали… Быстрее, быстрее… По хлопку поворачиваемся и бежим в обратном направлении… Бегом!..
Мы побежали быстрее и быстрее. Бедолага Александр каждый раз по хлопку запаздывал, натыкался на кого-то, ронял очки, останавливался, чтобы их поднять, тогда натыкались на него…
– Запомните раз и навсегда, – громко говорила Татьяна нам, бегущим, – каждый пирог, каждая картофелина, каждая конфета и бутерброд повисают у вас на талии и увеличивают пятую точку. А куда её ещё больше растить? А?! Быстрее, быстрее! Спину держать! Красиво бежим!.. Когда в столовой борщ берёте, котлеты с картошкой, сметану, булки и компот, смотрите на тех, кто вам это приготовил. Хотите быть такими?.. Пожалуйста! На здоровье!.. Да! И ещё мороженое! Запомните: мороженое – это прекрасный и уникальный продукт. Стопроцентное усвоение. Сколько съел, столько прибавил в весе. Замечательно! Картошка и пельмени ни к чему, если есть мороженое. Александр! Что с вами? Ну-ка подойдите ко мне.
Саша подбежал к Татьяне, остановился перед ней, тяжело дыша. Он хотел что-то сказать, но не мог справиться с дыханием.
Ему так и не удалось ничего произнести, потому что язвительно-насмешливое выражение лица Татьяны вдруг страшно изменилось. Губы её побелели, лицо всё заострилось, а глаза за большими очками сощурились до тонких чёрточек.
– Вы пьяны! – громким шёпотом сказала она. – Немедленно уходите отсюда… Немедленно! И не вздумайте больше приходить сюда в таком виде… Вы разочаровали меня. Уходите!..
Александр поплёлся одеваться, весь сгорбленный и уничтоженный.
– Так… А теперь по хлопку разбежались и упали на спину! – не глядя на Александра, крикнула продолжавшим бежать по кругу нам Татьяна.
Тренинг в тот раз длился все два часа и был очень суровым. По его окончании Татьяна сразу ушла, не назначив дежурных. Мы все вместе навели порядок и разошлись восвояси. Между собой после тренинга не разговаривали. Все, и я в том числе, чувствовали какую-то таинственную вину. Вину за то, что Татьяна осталась недовольна, что она огорчилась и что мы не такие, как надо. Она конечно же была замечательным педагогом!
Про посещение театра «Встреча» я ей не рассказал. Даже не заикнулся.
В следующий раз Татьяна пришла весёлая, добрая и разговорчивая. Вместо того чтобы сразу начать тренинг, она нам рассказала о том, что мы начнём изучать новую технику, об истории пантомимы и вообще была интересна и нежна.
Увидев, что Александр не пришёл, Татьяна попросила барышень разыскать его в преподавательском общежитии или на кафедре, узнать, всё ли с ним в порядке, и сказать ему, чтобы он непременно приходил уже в следующий раз.
Она сделала нас счастливыми, и, когда начала тренинг, мы растягивались, прогибались, садились на шпагаты гораздо лучше, чем до каникул. А Татьяна хвалила нас, каждому уделила внимание и время, каждого окрылила. Что ещё было нужно?..
Так всё и продолжалось бы по понедельникам, средам и пятницам…
Но в один из последних дней января в нашем балетном зале появился Валера Бальм.
Я, как обычно, пришёл к семи вечера в студию, как обычно, зашёл в родное уже помещение и остановился в дверях, не решаясь войти.
В нашем зале у зеркальной стены, закинув ногу на станок, стоял высокий, идеально стройный мужчина и совершал какие-то красивые движения. Он одет был в чёрное трико, обтягивающее длинные прямые ноги, прямое гибкое тело и грудь. Руки же и плечи его были голые. Рукава тонкого своего комбинезона он завязал на плече, запустив один за спину. От этого он был похож на какого-то античного героя.
Пришедшие раньше меня девчонки и Александр сидели у двери на скамейке, не зная, что им делать, и заворожённо наблюдали за безмолвным человеком у балетного станка.
– Ну что притихли? – вдруг, продолжая телодвижения, сказал незнакомец. – Давайте переодевайтесь. Не обращайте на меня внимания. Татьяна… Татьяна Александровна скоро подойдёт.
Это было сказано бесцеремонно, но не грубо и не нагло. Он не поздоровался, но в этом не было хамства или высокомерия. Голос его звучал спокойно, но в интонации слышалась странная манерность.
То, как он к нам обратился, не предполагало диалога или хотя бы вопроса с нашей стороны. Вопроса типа: «Простите, а кто вы такой?»
Мы переоделись, не проронив ни слова, и уселись на скамейку. Незнакомец продолжал движения у станка. Весь он был гибок и грациозен, явно из некой высшей лиги, по сравнению с нами.
– Почему расселись? – неожиданно, опустив ногу со станка на пол и сделав пару шагов в нашу сторону, сказал незнакомец. – Вы что, сюда сидеть пришли? Ну-ка давайте стройтесь, как вас учили… Давайте, давайте…
Мы беспрекословно выполнили указание.
– А теперь начнём тренинг. Нельзя терять драгоценное время… О! Хороший комбинезон, – указав рукой на меня, сказал он, весело подмигнув мне. – Ну! Начали. Делай как я.
Он стал прыгать на месте, крепко сжав ноги и вытянув руки вдоль тела, весь напряжённый, как стальная пружина. Запрыгал он очень быстро, упруго отталкиваясь от пола, казалось, одними пальцами ног. Мы регулярно делали такое на тренингах, но его мастерство исполнения этого упражнения казалось недосягаемым.
Татьяна, давая нам задания, объясняя нам новые движения и упражнения, никогда не занималась тренингом с нами. Она всё очень точно и доходчиво объясняла словами. Иногда, заметив, что кто-то из нас начинал работать на тренинге формально, будучи уверен, что достиг совершенства исполнения того или иного движения, она демонстрировала, как действительно нужно двигаться. Она это делала только один или два раза так, что становилось ясно, что перед нами мастер и нужны тренинги и тренинги, чтобы хоть как-то приблизиться к её уровню.
А тут впервые незнакомый нам человек, взявшийся невесть откуда, но явно из недоступных нам пантомимических сфер, занимался с нами тренингом, исполняя сам своё же задание. Да ещё как исполняя!
– Бюстгальтер на тренинг нужно надевать покрепче и поменьше, – сказал он одной из девчонок, продолжая прыгать, совершенно ровным голосом, дыхание его не сбилось.
И тут в двери появилась Татьяна. Мы все, незнакомец в том числе, как один перестали прыгать и замерли. Только Александр ещё пару раз подпрыгнул по инерции, громко стуча пятками.
– Здравствуйте, простите за опоздание, – сказала Татьяна всем. – Прекрасно, что вы уже познакомились и начали тренинг. Продолжайте, пожалуйста.
– Нет, сказал незнакомец, – мы не познакомились… Татьяна Александровна, они у вас такие хорошие. Послушные. Прыгают и думают: «А кто это тут нами командует? Откуда он нам на голову свалился?»
Говорил он всё это весело, совершенно дружелюбно. Голос у него был приятный, взрослый, но с трещинкой. И фразы он растягивал в конце немного, как поэт или кокетливая дама.
– Ах, вот как? – улыбнулась Татьяна и подошла к незнакомцу. – Тогда хочу с удовольствием вам представить моего доброго знакомого и нашего коллегу из Новосибирска. Валерия…
– Бальм, – вставил многозначительно теперь уже не незнакомец, а Валерий. – Прошу не путать с Бальмонтом или балом.
– Валерий Бальм, – торжественно и иронично провозгласила Татьяна. Валерий церемонно нам поклонился. – Валерий, – продолжила Татьяна, – изъявил желание поработать с нами. Он уже не первый год серьёзно занимается пантомимой в Новосибирске, но теперь судьба забросила его в Кемерово. Так что по мере возможности он будет одним из нас. Валера… Валерий очень хороший… специалист. Иногда он сможет с вами заниматься без меня. Безусловно, он украсит и усилит нашу студию… Короче, он всем будет полезен. Я рада, что он к нам присоединился.
Валерий Бальм снова нам поклонился.
– А теперь продолжайте, – сказала Татьяна, – я посмотрю. Со всеми познакомишься по ходу…
– Нет, нет, – ответил Валерий, – я так не могу. Я сам хочу позаниматься. Давно не надевал трико. Давно не стоял у станка. И я обожаю твои… Простите, ваши тренинги.
– Хорошо, становись ко всем… Поехали!
Валера оказался очень хорошим человеком. Сложным, непонятным, закрытым и даже таинственным. Он присутствовал в моей жизни недолго, но неоценимо значимо.
Я мало о нём знал и знаю. Татьяна также знала о нём совсем немного.
Ему было тогда лет… Года двадцать три – двадцать четыре. Из какой он вышел социальной среды, осталось загадкой. Как-то он проговорился, что круглый сирота, но с какого возраста и кто его воспитывал, я не спросил. Он был для меня очень взрослым человеком, вот я и не решился спросить.
То, как он говорил и о чём, как себя держал, какие читал книги, и то, как себя вёл, скорее указывало на хорошее воспитание и образование. Хотя высшего образования у него не было, потому что в Кемерово он приехал поступать на заочное отделение Института культуры. Там он и познакомился с Татьяной как с преподавателем.
Пантомимой он занимался до встречи с нами уже несколько лет. У него был очевидный опыт и мастерство. Но у кого он занимался, с кем и в каком коллективе, он так и не сообщил.
Валера Бальм много курил. Его зубы были жёлтыми от курева, и от него пахло табачищем. Думаю, он и выпивал, потому что периодически исчезал на неделю, а потом появлялся больной и бледный. Он вообще выглядел болезненным человеком.
Скорее всего Валера жил очень бедно и неприкаянно. Где он работал, где находил кров, никто не знал. Похоже, служил он где-то ночным сторожем или вахтёром. Это тогда был многих славный путь. Никакого адреса или номера телефона, по которому в случае очередного исчезновения его можно было бы найти, он не дал.