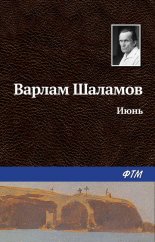Терра инкогнита. Книга 1-я Ковалев Валерий

Дело в том, что торпедный, наряду с третьим и седьмым отсеками дизельной подводной лодки, является отсеком живучести. То – есть, в аварийных ситуациях, например при потоплении корабля, он может принять весь личный состав из других отсеков, для возможной последующей их эвакуации на поверхность через торпедные аппараты или входной люк.
Кроме того, при гибели команды центрального поста, из первого отсека можно обеспечить аварийное всплытие лодки на поверхность. Из него же, с использованием объемной системы пожаротушения, возможно тушение пожаров, возникающих в других местах лодки.
А еще первый отсек является жилым. В нем, на парусиновых койках, натянутых на металлические каркасы, расположенные над торпедами, отдыхают после вахт порядка двадцати подводников. Сейчас эти койки были пусты, и их серый брезент вызывал тоскливое чувство безнадеги. Скоро, ох скоро, придется нам хлебнуть лиха.
В угнетенном состоянии мы проследовали в другие отсеки, и везде одна и та же картина: множество механизмов, устройств, станций, пультов, маховиков, рычагов, кабельных трасс и кнопок.
Между ними, как очажки цивилизации, крохотные каюты офицеров. И везде тяжелый, источающий ледяной холод металл.
Мы уже слышали, что на субмаринах не могли жить никакие живые организмы, кроме человека. После выхода в море, на них дохли даже крысы с тараканами, устойчивые к радиации.
Словно подслушав наши мысли, об этом с юмором рассказали вахтенные нескольких отсеков. Затем, для полноты ощущений, нас распределили по кораблю и заставили драить палубные настилы с трюмами, различные вентили и клапаны.
Местные аборигены радостно сообщили, что это будут наши основные обязанности в первый год службы.
Наверх поднялись около полуночи.
Погода наладилась. В небе мерцали звезды, и серебрился диск луны. На пирсе – хрусткий снег. После непривычного воздуха отсеков дышалось легко и вкусно. Но все это не радовало. Субмарина подавила нас своей недосягаемой сложностью и холодностью саркофага.
Остаток ночи, в кубрике, мы долго ворочались на своих жестких койках и не могли уснуть. В дальнем углу слышался чей-то тихий плач. На душе скребли кошки.
Утро принесло облегчение. Поразмыслив, мы пришли к общему мнению, что деваться нам некуда. Если другие служат, послужим и мы.
– Бог не выдаст, свинья не съест,– оптимистически заявил Саня Николаев.
Потом мы побывали на лодке еще пару раз, знакомясь с кораблем поближе.
Между тем Финский залив замерз, и по ледовой тропинке нас начали регулярно водить на Чумный форт, мрачно торчащий из залива примерно в двух километрах от Кронштадта. Раньше, по рассказам старожилов, в нем проводили опыты по созданию противочумной сыворотки, затем использовали под тюрьму.
Теперь, в подземных казематах форта, расположенных ниже уровня моря, находились базовые минные склады, В них, при постоянной зимой и летом температуре и влажности, хранились огромные запасы мин и торпед.
Начиная от устаревших – парогазовых и кончая современными – электрическими, с акустическими системами наведения.
Под присмотром пожилых мичманов-минеров с форта, мы на специальных тележках на резиновом ходу, перевозили эти смертоносные сигары из хранилищ в мастерские форта для ремонта и профилактики.
Сначала мандражили. В каждой торпеде имелось 600 килограммов тротил-гексоген-алюминия или еще более мощной «морской смеси», способных при детонирующем взрыве поднять на воздух этот чертов форт, а может быть и весь Кронштадт. От нас, соответственно, остались бы только атомы или души, если такие имеются.
Однако, через несколько дней, чувство страха притупилось, и курсанты лихо катали опасных красавиц по мрачным лабиринтам форта.
А во время перерывов на отдых, служившие на складах ветераны иногда угощали нас минным сахаром. Хрупали его курсанты с удовольствием.
В один из таких дней мы стали свидетелями весьма занимательного действа.
У форта высились несколько сторожевых вышек, на которых дежурили девушки – стрелки военизированной охраны. Их называли «вохрушками».
Нас инструктировали, что приближаться к вышкам нельзя, могут запросто шлепнуть. По внешнему же периметру форта иногда следовали патрули береговой базы, водившие со стрелками знакомство. Развитие одного такого мы и наблюдали.
Неподалеку от вышки, у гранитного валуна, какой-то матрос, разложив на тулупе девицу трахался с ней не обращая внимания на изрядный морозец. Вохрушке это по видимому нравилось, и она громко смеялась. Воровато косясь на бесстыдную парочку, мы прошли метрах в двадцати от них. Искренне завидуя.
– Да, везет некоторым, я бы от такой службы не отказался, – мечтательно заявил шагавший со мной рядом Женька.
Кроме нашей ротной сверхсрочницы, да пожилых крикливых буфетчиц, женщин с момента призыва курсанты практически не встречали, так как в увольнения не пускали. В Кронштадте был объявлен карантин. По каким причинам, мы не знали.
В конце февраля роту вывели на стрельбище.
Оно находилось в нескольких километрах от школы, на пустынном берегу залива. Дальний конец заканчивался насыпным валом, на заснеженном пространстве, тут и там, дрожала на ветру сухая полынь.
Роту выстроили лицом к валу, после чего впереди, метрах в двухстах, установили ростовые мишени, а перед строем расстелили брезент.
На линию огня выходили по пять человек, стреляли из положения лежа, по команде, тремя патронами.
Затем предъявляли оружие к осмотру, вставали и снова по команде бежали осматривать мишени.
Увы, у большинства все пули ушли в белый свет, как в копейку. Я попал в свою мишень всего один раз, да и то в шестерку.
Потом стреляли офицеры с мичманами и старшинами. У них результат был получше.
Настроение после стрельб повысилось, назад шагали, под строевую песню.
В марте резко потеплело, с залива подули влажные ветры, и неожиданно приехал батя.
У нас шли занятия по защите от оружия массового поражения, когда меня через дневального вызвали на КПП.
Понятия не имея, кому понадобился я в одной робе выскочил на улицу, махнул через плац и, войдя в помещение, доложил о прибытии.
Дежурный мичман кивнул на дверь смежной комнаты.
– Зайди, к тебе родитель приехал.
Я ожидал чего угодно, только не этого. О возможном посещении отца, в письмах из дома не было и намека.
Они с Захаровым сидели на скамейке у окна и о чем-то беседовали.
– Ваш сын, Николай Леонтьевич,– прокомментировал мое появление старшина.
Вид у меня был, наверное, настолько огорошенный, что инструктор и отец переглянувшись, весело захохотали.
– Вот,– решил тебя навестить, – хитро прищурился родитель.
На нем было распахнутое пальто, из-под которого виднелся костюм с галстуком и орденскими планками (батя явился при параде), каракулевая, сдвинутая на затылок шапка.
– Значит, как договорились, – встал со скамейки старшина, протягивая отцу руку.
– После обеда зайдешь (это уже мне). И ушел, поводя тяжелыми плечами и что-то насвистывая.
– Крепкий парень,– одобрительно констатировал родитель. – Ну, присаживайся сын, поговорим.
Я расположился рядом.
Со слов отца, дома было все в порядке, с его здоровьем тоже. От Сани Йолтуховского он привез мне привет и адрес полевой почты. Тот служил в морской авиации на Балтике.
Наш разговор длился минут пятнадцать, после чего батя назвал мне адрес гостиницы, где н остановился, передал объемистый пакет с гостинцами из дому и собрался уходить.
– Завтра встретимся. С твоим старшиной я договорился. Отпустит в город до отбоя, – сказал на прощание родитель.
Оттащил бумажный пакет в роту. В нем было не меньше пяти килограммов. Открыл, вывалил содержимое на койку. Она расцветилась веселыми тонами «Кара-Кума», краснобоких яблок и грецких орехов. Взял один в руку, сдавил. Тонкая скорлупа хрупнула – в пальцах оказалось маслянистое ядро. Понюхал.
Орехи из нашего сада, горьковато пахли солнцем, степью и полынью.
Я сунул часть гостинцев в тумбочку, угостил подошедшего Женю Вдовина (он стоял дневальным по роте) и попросил его остальное разложить ребятам смены по койкам.
После обеда, как было приказано, зашел в старшинскую.
Там Захаров с Бахтиным играли в шахматы. Первый был угрюм и сосредоточен, второй наоборот, весел и расслаблен.
Эта игра являлась «притчей во языцах» всей роты.
Они сражались между собой почти год, и Захаров, фанат шахмат, не мог выиграть у Бахтина. Как, впрочем, и никто из школы. Включая командира и других офицеров.
По нашему мнению Бахтин был вундеркинд.
Он играючи разбирался в любых, самых замысловатых схемах мин и торпед, виртуозно играл во все культивируемые на флоте игры, требующие логического мышления, писал уморительные стихи и эпиграммы.
При всем этом, как я уже упоминал, не особо тяготел к дисциплине и строевой подготовке и, по слухам, однажды помещался командиром роты на гарнизонную гауптвахту.
Откуда его вернули не без труда. На «губе» Бахтин великолепно рисовал стенды, с браво выполняющими строевые приемы матросами и плакаты, где приводились выдержки из строевого устава.
Естественно, тамошнее начальство старалось попридержать умельца у себя, тем паче, что возможности для этого у него имелись.
Больше узнали мы и о других инструкторах роты.
Старослужащие (по флотскому «годки») Захаров с Сомряковым, были главными старшинами, но полгода назад их разжаловали за драку в увольнении с моряками подплава; Лойконен заочно учился в одном из Ленинградских ВУЗов, а Костылев собирался остаться на сверхсрочную.
– Мат, Володя, и нечего тут думать, – видно уже не в первый раз повторил Бахтин, обращаясь к Захарову.
Тот задумчиво почесал затылок и мрачно заявил, – ничего, до дембеля еще два месяца, я тебя все равно сделаю.
Потом встал из-за стола, заложил руки за спину и, раскачиваясь в своей классической стойке с пятки на носок, обратился ко мне.
– Старик у тебя мировой, самого черта уговорит, завтра пойдешь после обеда в увольнение.
– В гарнизоне карантин, кто ж его пустит, Вова? – удивился старший матрос.
– Кто – кто, дед пихто! – пробасил Захаров. – У меня в штабе деваха знакомая, решим. У него батька шахтер, а мы друг другу всегда помогаем. Ясно?
– Чего яснее,– согласился Бахтин.
От радости у меня стало тесно в груди.
– Не пыжься, лопнешь, – покосился на меня инструктор. – А это отцу от меня. Достал из ящика стола и протянул мне новый матросский тельник.
На следующий день, ровно в четырнадцать часов, я впервые вышел из КПП школы вне строя. В кармане шинели лежала увольнительная до двадцати трех часов. Все во мне пело и ликовало, день к тому же выдался погожий.