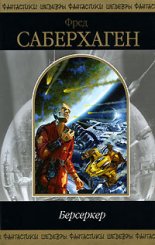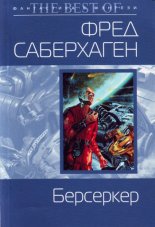Андеграунд, или Герой нашего времени Маканин Владимир

После выпитого ему (в этот раз) казалось, что мой гений сродни летучей пыли на листьях, на летней дороге. И он не знал, как иначе выразить. Он был нежен в разговоре. Он был беззащитен. Он был по-настоящему талантлив, с психикой, лишь чуть покореженной от андеграундной жизни.
Явно поддатый и счастливый общением, Михаил кричал мне теперь в телефонную трубку, что он беспрерывно думает о Тетелине. Да, согласен, может, и придурок, но в этом маленьком придурке билась мысль, и какая мысль! Мысль и урок. Ведь пойми: укорачивал не брюки – он укорачивал свою жизнь!
– Пойми! – кричал Михаил. – Тетелин пояснил нам так наглядно! Ведь я тоже укорачиваю свою жизнь. (Вероятно, пьянством.) Ты тоже – укорачиваешь свою. (Чем?) Каждый человек сидит с ножницами и стрижет, стрижет, стрижет брюки. А знаешь почему? А потому что на фиг человеку некая бесконечная жизнь? В этом и мысль: жизнь человеку нужна по его собственному размеру!
Мысль как мысль: сообщение о духовных ценностях.
Михаил возликовал:
– Ага! Ты согласился, согласился! В этом маленьком плебее и подражателе билась великая и несамоочевидная мысль!.. Когда он с инфарктом сполз с постели и взялся за ножницы – он знал, что делал! Его навязчивая подспудная идея в том и состояла, что один человек умирает обидно рано, а другой, напротив, явно зажился и коптит небо. Разве нет?.. Пойми: у человека есть свой размер жизни, как свой размер пиджака и ботинок.
– И брюк.
– Именно!..
У Михаила относительно меня тоже имелась навязчивая подспудная идея: женщины (а именно женщины-хозяйки, с бытовым приглядом) должны оставить мой гений в покое. Их место там, вдалеке, говорил он, как бы отсылая их жестом в заволжскую ссылку.
Я смеялся, не мог его слов взять в толк, пока не сошелся со словно бы им напророченной Зинаидой Агаповной, чуть что заставлявшей меня красить гаражи и заборы. Но главная из бед, считал Михаил, в том, что я у нее поселился. Это – преступление. Он устраивал Зинаиде сцены. «Вы высасываете из него соки. Да, да. Не имеете права…» – говорил Михаил, сидел за столом, нога на ногу, и помешивал ложечкой кофе, который она ему (как моему другу) сварила. Зинаида смеялась: «Да мне он нравится!» – «А мне нравится луна», – возразил Михаил. И угрожающе добавил, что напишет Зинаидиным сыновьям соответствующее ее поведению письмо (оба служили в армии).
Михаил позволял нам (мне с ней) общаться даже и в постели, пожалуйста! – но… но если, мол, будете жить врозь. Зинаида Агаповна пусть приходит. Пусть уберет, ублажит, накормит. Как приходящая она хороша, кто спорит.
– …Седой он уже! Пожалей же ты его, старая блядь, – говорил ей Михаил в сердцах. (Настаивал – а мы с ней хохотали.)
– Ты тоже сив, а небось хочешь! – смеялась Зинаида.
– Тебя?!
– Меня!..
Было смешно, и тем смешнее, что Зинаида (себе на уме) тоже была с идеей. Мне удалось ей внушить, что Михаил в нее влюблен (по-тихому) и что все его разнузданные словеса от его затаенной мужской ревности. «Да ну?» – удивлялась она, краснея. «Знаю наверняка. Убежден в этом», – серьезничал я, Зинаида не верила. Не верила, однако с охотой поила его вкусным кофе, чего при ее некотором жлобстве никогда прежде не случалось.
Зинаида Агаповна к ночи ближе становилась косноязычна: то денег не надо, то вдруг повторяла все настойчивее, вот, мол, сколько другие люди берут «с жильца за харч»! Жилец или сожитель? – казалось, мы оба с ней пытались и не могли этой разницы понять. (Этику этой общажной разницы.) Зинаида краснела, смущалась при слове «сожитель», один раз от смущения зашлась кашлем, с хрипом крикнув мне:
– Да ударь же!
То есть по спине. Чтоб прокашлялась. Работала в швейной мастерской, надышалась, пыльное дело.
Тетелин начался, помнится, с того, что я кликнул его, подголадывающего, как раз к Зинаиде – просто позвал поесть.
Тетелин тогда только-только появился в общаге, одинокий, неработающий и плюс изгнанный за какую-то глупость из техникума. (Преподавал. Что он там мог преподавать, разве что фирменную жалкость!) Ну да, да, жалкий, ничтожный, и глаза, как у кролика. Но он, появившийся на наших этажах, не был тогда противным. И его дурацкая мечта – твидовые брюки (они каждое утро висели на продажу в растворе палатки) – не казалась тогда дурацкой.
– У меня никогда не было таких брюк, – сказал. (Мы шли мимо. Брюки покачивал ветер.)
– Ну и что?
Он призадумался. Он, оказывается, мог глянуть со стороны.
– У меня не было таких брюк. А у вас никогда не было изданной книги.
Я засмеялся: смотри-ка, и куснуть можешь! молодец!
Первое время я его сколько-то пас, подкармливал и приводил с собой как гостя к людям в застолье – так сказать, ввел. А когда замаячила на восьмом этаже очередная квартира под присмотр, предложил его в сторожа. Так у Тетелина появились первые денежки и род занятий, не якорь, но уже якорек. Вместо благодарности (люди все-таки странны!) Тетелин стал шустрить: у меня же за спиной он пытался перехватить сторожимые мною квартиры. А для этого пришлось, разумеется, наговаривать шепотком на меня лишнее – так началось.
К концу года господин Тетелин окончательно эволюционировал в мелочного сторожа-крохобора, это бы ладно, мало ли где шелухи, но плюс ко всему – оформился в мое эхо. Он наговаривал на меня моими словами и с моей же, уже уцененной, интонацией – и даже не понимал, что он меня передразнивает! Подражал в голосе и в походке. И руки в карманы, сука, держал, как я. Я уже не мог его видеть шагающим в коридоре. (И не желал больше думать о нем как о новейшем Акакии Акакиевиче.) Как тип Акакий для нас лишь предтип, и классики в XIX веке рановато поставили на человечке точку, не угадав динамики его подражательного развития – не увидев (за петербургским туманом) столь скороспелый тщеславный изгибец. Мелкость желаний обернулась на историческом выходе мелкостью души. Недосмотрели маленького.
Когда маленький человек Тетелин отправился на небеса, вцепившись руками в свои плохо укороченные брюки, я, конечно, пожалел его. Как не пожалеть, кого сам опекал. Но лишь на миг. Помню порыв ветра (вдруг, со стороны высоких домов) – с ним, с ветром, и налетела жалость к Тетелину, жалость уже поздняя, и почему так остро?.. Не сороковой ли день? – вот так странно подумалось мне. Подумалось спешно, как думается спохватившемуся пассажиру, хотя отправляющимся пассажиром как раз была (если была) его маленькая, увы, душа. То есть ей (его душе) уже прикрикнули с неба в положенный час. Мол, срок и время, пора! От винта-ааа!.. На взле-оот! И, повинуясь, жалкая и маленькая, она тотчас взлетела, случайно или, кто знает, не случайно колыхнув на меня плотный воздух.
Может, совестилась теперь на прощанье. Повиниться хотела?
Реакция (моя) была мгновенной и, кажется, не самой гуманной: еще и не сосчитав последние дни, вслед и вдогонку ей (ему) я крикнул – я как бы присвистнул: давай, давай! Мол, теперь уж чего, не задерживайся.
Когда я впервые привел Тетелина к Зинаиде, он был так голоден, что, поев, отключился: уснул сидя. Уронил голову на сытный стол. Спал. Правда, и еда в тот вечер была мощная.