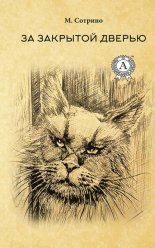Властелин Колец Толкин Джон
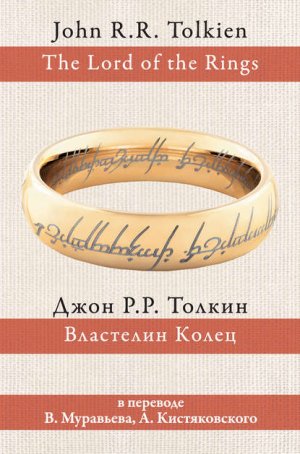
Фродо взял прежний кинжал Сэма, который в Кирит-Унголе сочли его оружием.
— А Терн — тебе, Сэм, — сказал он.
— Нет, хозяин! Вы его получили от господина Бильбо вместе с этой серебристой кольчугой; он бы сильно удивился, если б вы меч кому-нибудь отдали.
Фродо уступил, и Гэндальф, словно оруженосец, преклонил колена, опоясал его и Сэма мечами и надел им на головы серебряные венцы.
Так облаченные, явились они на великое пиршество — к главному столу возле Гэндальфа, конунга Эомера Ристанийского, князя Имраиля и других военачальников Западного ополченья; и тут же были Гимли и Леголас.
Постояли в молчании, обратившись лицом к западу; затем явились два отрока-виночерпия, должно быть оруженосцы: один в черно-серебряном облачении стража цитадели Минас-Тирита, другой в бело-зеленом. Сэм подивился, как это такие мальцы затесались среди могучих витязей, но, когда они подошли ближе, протер глаза и воскликнул:
— Смотрите-ка, сударь! Ну и дела! Да это же Пин, то бишь, прошу прощенья, господин Перегрин Крол, и господин Мерри! Ну и выросли же они! Батюшки! Видно, не нам одним есть чего порассказать!
— Нет, Сэм, не вам одним, — сказал Пин, радостно ему улыбаясь. — И уж как мы станем рассказывать, так вы только держитесь — погодите, вот кончится пир. А пока что возьмите в оборот Гэндальфа, он теперь вовсе не такой скрытный, хотя больше смеется, чем говорит. Нам с Мерри недосуг — как вы, может, заметили, мы при деле, мы — витязи Гондора и Ристании.
Долго длился веселый пир; когда же солнце закатилось и поплыла луна над андуинскими туманами, проливая сиянье сквозь трепетную листву, Фродо и Сэм сидели под шелестящими деревьями благоуханной Италии и далеко за полночь не могли наговориться с Мерри, Пином и Гэндальфом, с Леголасом и Гимли. Им рассказывали и рассказывали обо всем, что случилось без них с остальными Хранителями после злополучного дня на Парт-Галене близ водопадов Рэроса; и не было конца их расспросам и повести друзей.
Орки, говорящие деревья, зеленая нескончаемая равнина, блистающие пещеры, белые замки и златоверхие чертоги, жестокие сраженья и огромные корабли под парусами — словом, у Сэма голова пошла кругом. И все же, внимая рассказам о чудесах, он нет-нет да и оглядывал Пина и Мерри, наконец не выдержал, поднял Фродо и стал с ними мериться спина к спине. Потом почесал в затылке.
— Да вроде не положено вам расти в ваши-то годы! — сказал он. — А вы дюйма на три вымахали, гном буду!
— До гнома тебе далеко, — отозвался Гимли. — Чего тут удивляться — их же поили из онтских источников, а это тебе не пиво лакать!
— Из онтских источников? — переспросил Сэм. — Все у вас онты да онты, а что за онты — в толк не возьму. Ну ладно, недельку-другую еще поговорим, глядишь, все и само разъяснится.
— Вот-вот, недельку-другую, — поддержал Пин. — Дойдем до Минас-Тирита и запрем Фродо в башне — пусть записывает, не отлынивает. А то забудет потом половину, и старина Бильбо ужас как огорчится.
Наконец Гэндальф поднялся.
— В руках Государя целебная сила, оно так, дорогие друзья, — сказал он. — Но вы побывали в когтях у смерти, оттуда он и вызволил вас, напрягши все силы, прежде чем вы погрузились в тихий сон забвенья. И хотя спали вы долго и, похоже, отоспались, пора опять вам укладываться.
— Сэму-то и Фродо само собой, — заметил Гимли, — но и тебе, Пин, тоже. Ты мне милей брата родного — еще бы, так уж я по твоей милости набегался, век не забуду. И не забуду, как отыскал тебя на холме после битвы. Кабы не гном Гимли, быть бы тебе в земле. Зато я теперь ни с чем не спутаю хоббитскую подошву — только она и виднелась в груде тел. Отвалил я здоровенную тушу, которая тебя придавила, смотрю — а ты как есть мертвый. Я чуть себе бороду не вырвал от досады. А теперь ты всего-то день как на ногах — давай, пошел спать. Я тоже пойду.
— А я, — сказал Леголас, — пойду бродить по здешнему прекрасному лесу, то-то отдохну. Если позволит царь Трандуил, я приведу сюда лесных эльфов — тех, кому захочется пойти со мной, — и край ваш станет еще краше. Надолго ли? Ненадолго: на месяц, на целую жизнь, на человеческий век. Но здесь течет Андуин и катит свои волны к Морю. В Море!
- В Море, в морской простор! Чайки кричат и реют,
- И белопенный прибой набегает быстрей и быстрее.
- На западе, в ясной дали, закатное солнце алеет.
- Корабль, серокрылый корабль! Слышишь ли дальние зовы,
- Уплывших прежде меня призывные голоса?
- Прощайте, прощайте, густые мои леса,
- Иссякли дни на земле, и века начинаются снова.
- А я уплыву за моря и брега достигну иного.
- Там длинные волны лижут Последние Берега,
- На Забытом острове слышен солнечный птичий гам —
- В Эрессее, предвечно эльфийской, куда нет доступа людям,
- Где листопада нет и где мы навеки пребудем.
И с этой песней Леголас спустился под гору.
Все разошлись, а Фродо и Сэм отправились спать. Проснулись — и в глаза им глянуло тихое, ласковое утро, и потянулся душистый итилийский апрель. Кормалленское поле, где расположилось войско, было неподалеку от Хеннет-Аннуна, и по ночам доносился до них гул водопадов и клокотанье потока в скалистой теснине, откуда он разливался по цветущим лугам и впадал в Андуин возле острова Каир-Андрос. Хоббиты уходили далеко, прогуливались по знакомым местам, и Сэм все мечтал, что где-нибудь на лесной поляне или в укромной ложбине вдруг да увидит снова хоть одним глазком громадного олифанта. А когда ему сказали, что под стенами Минас-Тирита их было хоть отбавляй, но всех перебили и сожгли, Сэм не на шутку огорчился.
— Да оно понятно, сразу там и здесь не будешь, — сказал он. — Но похоже, мне здорово не повезло.
Между тем войско готовилось двинуться назад, к Минас-Тириту. Проходила усталость, залечивались раны. Ведь еще пришлось добивать и рассеивать заблудшие остатки южан и вастаков. Вернулись наконец и те, кого послали в Мордор — разрушать северные крепости.
Но вот приблизился месяц май, и вожди Западного ополчения взошли на корабли вслед за своими воинами, а корабли поплыли от Каир-Андроса вниз по Андуину к Осгилиату; там они задержались и днем позже появились у зеленых полей Пеленнора, у белых башен близ подножия высокого Миндоллуина, возле гондорской столицы, последнего оплота Запада, оплота, выстоявшего в огне и мраке на заре новых дней.
И среди поля раскинули они шатры свои и разбили палатки в ожидании первомайского утра: с восходом солнца Государь войдет в свою столицу.
ГЛАВА V. НАМЕСТНИК И ГОСУДАРЬ
Столица Гондора жила в смятении и страхе. Чистое небо и ясное солнце будто смеялись над людьми, которым уповать было не на что, которые каждое утро ожидали роковых вестей. Градоправитель их сгинул в огне, прах ристанийского конунга лежал неупокоенный в цитадели, новый же Государь, явившийся ночью, наутро исчез — говорят, уехал воевать со всевластными силами тьмы и ужаса, а разве их одолеет чья бы то ни было мощь и доблесть? Тщетно ждали они вестей. Знали только, что войска свернули от Моргульской долины на север, скрылись в черной тени омертвелых гор — и больше не прислали ни одного гонца с угрюмого востока, ни слуху ни духу от них не было.
Всего через два дня после ухода войска царевна Эовин велела сиделкам принести ее облачение и уговоров слушать не пожелала; ей помогли одеться, возложили больную руку на холщовую перевязь и проводили к Смотрителю Палат Врачеванья.
— Сударь, — сказала она, — на сердце у меня неспокойно, и не могу я больше изнывать от праздности.
— Царевна, — возразил Смотритель, — ты еще далеко не излечилась, а мне строго-настрого велено довести дело до конца с особым тщанием. Еще семь дней — так мне сказали — ты не должна была вставать с постели. Прошу тебя, иди обратно в свой покой.
— Я излечилась, — сказала она, — от телесного недуга, левая рука только плоха, а это пустяки. Но недуг одолеет меня снова, если мне будет нечего делать. Неужели нет вестей с войны? Я спрашивала у сиделок — они не знают.
— Вестей нет, — отвечал Смотритель, — известно лишь, что войско наше очистило Моргульскую долину и двинулось дальше. Во главе его, говорят, наш новый полководец с севера. Это великий воин, а вдобавок целитель; никогда бы не подумал, что рука целителя может владеть мечом. У нас в Гондоре все иначе; правда, если верить древним сказаньям, бывало и так. Однако же многие века мы, целители, лишь врачевали раны, нанесенные мечом. Хотя и без этих ран дела бы нам хватило: сколько в мире болезней и немощей, а тут еще войны и всякие сражения.
— Да нет, господин Смотритель, во всякой войне один — зачинщик, другой же воюет поневоле, — возразила Эовин. — Но кто за меч не берется, от меча и погибнет. Ты что, хотел бы, чтобы народ Гондора собирал травы, пока Черный Властелин собирает войска? А бывает, что исцеленье вовсе не нужно. Иной раз лучше умереть в битве, принять жестокую смерть. Я бы ее и выбрала, будь мой выбор.
Смотритель поглядел на нее. Высокая и стройная, со сверкающими глазами на бледном лице, она сжала в кулак здоровую руку и повернулась к окну, выходившему на восток. Он вздохнул и покачал головой. Наконец она снова обратилась к нему.
— Что толку бездельничать! — сказала она. — Кто у вас в городе главный?
— Право, не знаю, царевна, — замялся он. — Не по моей это части. Над мустангримцами, которые остались, начальствует их Сенешаль, городом ведает наш Хранитель ключей Турин. А вообще-то правитель, новый наместник, у нас, само собой, Фарамир.
— Где его искать?
— Искать его не надо, царевна, он здесь, в Палатах. Он был тяжело ранен, теперь поправляется. Только я вот не знаю…
— Может, ты меня к нему отведешь? Тогда и узнаешь.
Фарамир одиноко прогуливался по саду возле Палат Врачеванья; под теплыми лучами солнца его тело понемногу оживало, но на душе было тяжко, и он то и дело подходил к восточной стене. Обернувшись на зов Смотрителя, он увидел Эовин и вздрогнул от жалости — так печально было ее измученное лицо.
— Государь, — сказал Смотритель, — это ристанийская царевна Эовин. Она сражалась вместе с конунгом, была жестоко ранена и оставлена на моем попечении. Но моим попечением она недовольна и хочет говорить с Градоправителем.
— Не ошибись, государь, — сказала Эовин. — Я не жаловаться пришла. В Палатах все как нельзя лучше — для тех, кто хочет излечиться. Мне же тягостны праздность, безделье, заточение. Я искала смерти в бою и не нашла ее, но ведь война не кончилась…
По знаку Фарамира Смотритель с поклоном удалился.
— Чем я могу помочь тебе, царевна? — спросил Фарамир. — Как видишь, я тоже узник наших врачевателей.
Он снова взглянул на нее: его всегда глубоко трогала чужая скорбь, а она была прекрасна в своем горе, и прелесть ее пронзала сердце. Она подняла глаза и встретила тихий, нежный взгляд; однако же Эовин, взращенная среди воинов, увидела и поняла, что перед нею стоит витязь, равного которому не сыщешь во всей Ристании.
— Чего же ты хочешь, царевна? — повторил он. — Говори; что в моей власти, я все сделаю.
— Я бы хотела, чтоб ты велел Смотрителю отпустить меня, — сказала она, и хотя слова ее по-прежнему звучали горделиво, но голос дрогнул, и она усомнилась в себе — впервые в жизни. Она подумала, что этот высокий воин, ласковый и суровый, принимает ее за несчастного, заблудшего ребенка, и неужели же ей не хватит твердости довести безнадежное дело до конца?
— Не пристало мне указывать Смотрителю, я и сам ему повинуюсь, — отвечал Фарамир. — И в городе я пока что не хозяин. Но будь я даже полновластным наместником, по части лечения последнее слово остается за лекарем, а как же иначе?
— Но я не хочу лечиться, — сказала она. — Я хочу воевать вместе с братом, с Эомером, и погибнуть, как конунг Теоден. Он ведь погиб — и обрел вечный почет и покой.
— Если тебе это уже по силам, царевна, все равно поздно догонять наше войско, — сказал Фарамир. — Гибель в бою, наверно, ждет нас всех, волей-неволей. И ты встретишь смерть достойнее и доблестнее, до поры до времени покорившись врачеванию. Нам выпало на долю ожидать, и надо ожидать терпеливо.
Она ничего не ответила, но лицо ее немного смягчилось, будто жестокий мороз отступил перед первым слабым дуновением весны. Слеза набухла и скатилась по щеке, блеснув дождинкою. И гордая голова поникла. Потом она вполголоса промолвила, как бы и не к нему обращаясь:
— Мне велено еще целых семь дней оставаться в постели. А окно мое выходит не на восток.
Говорила она, словно обиженная девочка, и, как ни жаль ее было, Фарамир все же улыбнулся.
— Окно твое — не на восток? — повторил он. — Ну, это поправимо. Что другое, а это в моей власти: я скажу Смотрителю, он распорядится. Лечись послушно, царевна, и не оставайся в постели, а гуляй, сколько хочешь, по солнечному саду, отсюда и гляди на восток, не забрезжит ли там надежда. Да и мне будет легче, если ты иной раз поговоришь со мною или хотя бы пройдешься рядом.
Она подняла голову, снова взглянула ему в глаза, и ее бледные щеки порозовели.
— Отчего будет легче тебе, государь? — спросила она. — И разговаривать я ни с кем не хочу.
— Сказать тебе напрямик?
— Скажи.
— Так вот, Эовин, ристанийская царевна, знай, что ты прекрасна. Много дивных и ярких цветов у нас в долинах, а красавиц еще больше, но доныне не видел я в Гондоре ни цветка, ни красавицы прекрасней тебя — прекрасней и печальней. Быть может, через несколько дней нашу землю поглотит мрак, и останется лишь погибнуть как должно; но пока не угаснет солнце, мне будет отрадно видеть тебя. Ведь и ты, и я побывали в запредельной тьме, и одна и та же рука спасла нас от злой смерти.
— Увы, государь, это все не обо мне! — поспешно возразила она. — Тьма еще висит надо мной. И в целители я не гожусь. Мои загрубелые руки привычны лишь к щиту и мечу. Однако спасибо тебе и на том, что для меня открылись двери палаты. Буду с позволения наместника Гондора гулять по саду.
Она откланялась, а Фарамир долго еще бродил по саду и чаще глядел на Палаты, чем на восточную стену.
Возвратившись к себе, он призвал Смотрителя, и тот рассказал ему все, что знал о ристанийской царевне.
— Впрочем, государь, — закончил он, — ты гораздо больше узнаешь от невысоклика из соседней палаты: он был в охране конунга и, говорят, защищал царевну на поле боя.
Мерри вызвали к Фарамиру, и весь день провели они в беседе; многое узнал Фарамир, еще больше разгадал за словами, и куда понятней прежнего стали ему горечь и тоска племянницы конунга Ристании. Ясным вечером Фарамир и Мерри гуляли в саду; но Эовин из Палат не выходила.
Зато поутру Фарамир увидел ее на стене, в белоснежном одеянии. Он окликнул ее, она спустилась, и они гуляли по траве или сидели под раскидистыми деревьями — то молча, то тихо беседуя. Так было и на другой, и на третий день; и Смотритель глядел на них из окна и радовался, ибо все надежнее было их исцеленье. Время, конечно, смутное, зловещее время, но хотя бы эти двое его подопечных явно выздоравливали.
На пятый день царевна Эовин снова стояла с Фарамиром на городской стене, и оба глядели вдаль. Вестей по-прежнему не было, в городе царило уныние. Да и погода изменилась: резко похолодало, поднявшийся в ночи ветер дул с севера, метался и завывал над серыми, тусклыми просторами.
Они были тепло одеты, в плащах с подбоем; у Эовин поверх плаща — темно-синяя мантия с серебряными звездами у подола и на груди. Мантию велел принести Фарамир; он сам накинул ее на плечи Эовин и украдкой любовался прекрасной и величавой царевной. Мантию эту носила его мать, Финдуиль Амротская, которая умерла безвременно, и память младшего сына хранила ее полузабытое очарованье и свое первое жестокое горе. Он решил, что мантия под стать печальной красоте Эовин.
Но ей было холодно в звездчатой мантии, и она неотрывно глядела на север, туда, где бушевал ветер и где далеко-далеко приоткрылось бледное, чистое небо.
— Что хочешь ты разглядеть, Эовин? — спросил Фарамир.
— Черные Ворота там ведь, правда? — отозвалась она. — Наверно, он к ним подошел. Семь уже дней, как он уехал.
— Да, семь дней, — подтвердил Фарамир. — И прости меня, но я скажу тебе, что эти семь дней нежданно одарили меня радостью и болью, каких я еще не знал. Радостью — оттого что я увидел и вижу тебя, болью — потому что стократ потемнел для меня нависший сумрак. Эовин, меня стала страшить грядущая гибель, я боюсь утратить то, что обрел.
— Утратить то, что ты обрел, государь? — переспросила она, строго и жалостливо взглянув на него. — Не знаю, что в наши дни удалось тебе обрести и что ты боишься потерять. Нет уж, друг мой, ни слова об этом! Давай-ка помолчим! Я стою у края пропасти, черная бездна у меня под ногами, а вспыхнет ли свет позади — не знаю, и не могу оглянуться. Я жду приговора судьбы.
— Да, мы все ждем приговора судьбы, — сказал Фарамир.
И больше не было сказано ни слова, а ветер стих, и померкло солнце, город онемел, и долина смолкла: не слышно было ни птиц, ни шелеста листьев, ни даже дыханья. Сердца их, казалось, замерли, и время застыло.
А их руки нечаянно встретились и сплелись, и они об этом не ведали. Они стояли и ждали, сами не зная чего. И вскоре почудилось им, будто за дальними гребнями вскинулся до небес в полыхании молний вал темноты, готовый поглотить весь мир, задрожала земля и содрогнулись стены Минас-Тирита. Потом весь край точно вздохнул, и обмершие их сердца снова забились.
— Совсем как в Нуменоре, — сказал Фарамир и удивился своим словам.
— В Нуменоре? — переспросила Эовин.
— Да, — отвечал Фарамир, — в Нуменоре, когда сгинула Западная империя: черная волна поднялась выше гор, захлестнула цветущие долины, смыла все на свете, и настала великая неизбывная темнота. Мне это часто снится.
— Ты, значит, думаешь, что настает великая темнота? — спросила Эовин. — Темнота неизбывная?
И она вдруг прильнула к нему.
— Нет, — сказал Фарамир, заглянув ей в лицо. — Это мне просто привиделось. А что произошло — пока не знаю. Рассудок подсказывает, что на мир обрушилось необоримое зло, что настали последние времена. Но сердце с ним не согласно: и дышится легче, и надежда вместе с радостью пробудилась вопреки рассудку. Эовин, Эовин, Белая Дева Ристании, в этот час да отступит от нас всякая тьма!
Он наклонился и поцеловал ее в лоб.
Так стояли они на стене Минас-Тирита, и порывистый ветер развевал и смешивал черные и золотые пряди. Тень уползла, открылось солнце, и брызнул свет; воды Андуина засверкали серебром, и во всех домах столицы запели от радости, сами не зная почему.
Но не успело еще полуденное солнце склониться к западу, как прилетел огромный Орел с вестями от Ополченья. А вести его были превыше всех надежд, и он возглашал:
- Пойте, ликуйте, о люди Закатной Твердыни!
- Ибо Царству Саурона положен конец
- И низвергнута Вражья Крепость.
- Пойте и веселитесь, защитники стольного града!
- Ибо вы сберегли отчизну,
- А в пролом на месте Черных Ворот
- Вошел с победою ваш Государь,
- И меч его ярче молний.
- Пойте же все вы, сыны и дочери Запада!
- Ибо ваш Государь возвратился
- И пребудет впредь во владеньях своих
- На древнем своем престоле.
- И увядшее Древо вновь расцветет,
- И начнется времени новый отсчет
- Возле солнечной Белой Башни.
- Пойте же, радуйтесь, люди!
И на всех улицах и площадях люди пели и радовались.
И потянулись золотистые дни: весна и лето слились воедино, и зацвели по-летнему гондорские луга и поля. Прискакали вестники с Каир-Андроса, и столица украшалась, готовясь встречать Государя. Мерри вызвали к войску, и он уехал с обозом в Осгилиат, где ждал его корабль на Каир-Андрос. Фарамир не поехал: исцелившись, он взял в свои руки бразды правленья, пусть и не надолго, но дела не ждали, недаром же он был пока что наместник.
И Эовин осталась в Минас-Тирите, хотя брат просил ее явиться к торжествам на Кормалленском поле. Фарамир был этим слегка удивлен; впрочем, они почти не виделись, он был занят с утра до вечера, а она не покидала Палат Врачеванья, только бродила по саду, — и снова стала бледная и печальная, одна во всем городе. Смотритель Палат встревожился и доложил об этом Фарамиру.
Тогда Фарамир явился к Палатам, нашел ее — и снова стояли они рядом на городской стене. И Фарамир сказал:
— Эовин, почему ты осталась в городе, почему не поехала на Кормаллен за Каир-Андросом, на торжества, где тебя ждут?
Она ответила:
— А ты сам не догадываешься, почему? Он сказал:
— Могут быть две причины, только не знаю, какая из них истинная.
— Ты попроще говори, — сказала она. — Не люблю загадок!
— Ну что ж, царевна, объясню попроще, коли хочешь, — сказал он. — Либо ты не поехала потому, что всего лишь брат твой позвал тебя и тебе не хотелось видеть Арагорна, потомка и наследника Элендила, чье торжество для тебя не в радость. Либо же потому, что я туда не поехал, а ты успела привыкнуть ко мне. Может статься, от того и от этого, и сама ты не знаешь отчего. Скажи, Эовин, ты любишь меня или этой любви тебе не надо?
— Пусть бы меня лучше любил другой, — отозвалась она. — А жалости мне и вовсе ничьей не надо.
— Это я знаю, — сказал он. — Ты искала любви Государя нашего Арагорна. Да, он могуч и велик, и ты мечтала разделить его славу, вознестись вместе с ним над земным уделом. Точно юный воин, влюбилась ты в полководца. Да, высоко вознесла его судьба, и он достоин этого, как никто другой. Но когда он взамен любви предложил тебе пониманье и жалость, ты отвергла то и другое и предпочла умереть в бою. Погляди на меня, Эовин!
Долгим взглядом посмотрела Эовин на Фарамира, а тот промолвил:
— Эовин, не гнушайся жалостью, это дар благородного сердца! А мой тебе дар — иной, хоть он и сродни жалости. Ты — царевна-воительница, и слава твоя не померкнет вовеки; но ты, дорогая, прекраснее всех на свете, и даже эльфийская речь бессильна описать твою красоту. И я тебя люблю. Прежде меня тронуло твое горе, нынче же знаю: будь ты как угодно весела и беспечна, будь ты даже беспечальной княжной гондорской, все равно я любил бы тебя. Ты не любишь меня, Эовин?
Сердце ее дрогнуло, и увиделось все по-иному, будто вдруг минула зима и разлился солнечный свет.
— Да не может быть! — сказала она. — Я стою на стене Минас-Анора, Крепости Заходящего Солнца, и нет больше душной тьмы! Я, кажется, очнулась: я не хочу состязаться с нашими конниками и петь наши песни о радости убийственной брани. Лучше я стану целительницей, буду беречь живое, лелеять все, что растет, и растет не на погибель. — Она снова взглянула на Фарамира. — И я не хочу быть княгиней, — сказала она.
И Фарамир весело рассмеялся.
— Это хорошо, что не хочешь, — сказал он, — потому что и я не князь. Однако же я возьму замуж Белую Деву Ристании, ежели будет на то ее воля. Настанут иные, счастливые дни, и мы будем жить за рекою, в Италии, в цветущем саду. Еще бы: каким она станет садом, на радость моей царевне!
— Так что же, витязь Гондора, из-за тебя мне разлучаться с Ристанией? — спросила она. — А твои чванные гондорцы будут говорить: "Хорош у нас правитель, нечего сказать: взял себе в жены ристанийскую наездницу! Неужели не мог подыскать получше, из нуменорского рода?"
— Пусть говорят, что хотят, — сказал Фарамир. Он обнял ее и поцеловал у всех на виду — но какое им было дело до того, кто их видит? А видели многие и смотрели, как они, осиянные солнцем, спустились со стен и пошли рука об руку к Палатам Врачеванья.
И Фарамир сказал Смотрителю Палат:
— Эовин, царевна ристанийская, вполне излечилась.
— Хорошо, — сказал Смотритель, — я отпускаю царевну из Палат с напутствием: да не постигнет ее никакая иная хворь! И препоручаю наместнику Гондора, доколе не вернется брат ее, конунг.
Но Эовин сказала:
— А теперь я не хочу уходить, я останусь. Мне хорошо в этих Палатах, и я найду себе дело.
И она оставалась в Палатах до возвращения конунга Эомера.
Приготавливались к торжественной встрече, со всех концов Гондора стекался народ в Минас-Тирит, ибо весть о возвращенье Государя разнеслась от Мин-Риммона до Пиннат-Гелина, достигнув самых отдаленных морских побережий, и все, кто мог, поспешили в столицу. Снова стало здесь много женщин и милых детей, вернувшихся домой с охапками цветов, а из Дол-Амрота явились арфисты, лучшие арфисты в стране, пришли и те, кто играл на виолах, на флейтах, на серебряных рогах, не заставили себя ждать и звонкоголосые певцы из лебеннинских долин.
Наконец наступил вечер, когда со стен стали видны войсковые шатры на равнине, и всю ночь в городе повсюду горели огни. Никто не ложился спать, ждали рассвета. Ясным утром взошло солнце над восточными вершинами, теперь уже не омраченными, и зазвонили все колокола, взвились все флаги, трепеща на ветру. А над Белой Башней заплескалось знамя Наместников, ярко-серебряное, как снег, озаренный солнцем; не было на нем ни герба, ни девиза, и последний раз реяло оно над Гондором.
Ополчение Запада подходило к столице, и люди смотрели со стен, как движутся строй за строем, сверкая в рассветных лучах и переливаясь серебряным блеском. Войско вышло на Воротный Тракт и остановилось за семьсот футов до стен. Ворот не было, однако вход в город преграждала цепь, и ее стерегли черно-серебряные стражники с обнаженными мечами. Перед цепью стояли наместник Государя Фарамир, Турин, Хранитель ключей, и прочие воеводы, а также ристанийская царевна Эовин со своим сенешалем Эльфхельмом и другими витязями Мустангрима; а по обе стороны разбитых Ворот толпились горожане в разноцветных одеяниях, с охапками цветов.
Образовалась широкая площадь перед стенами Минас-Тирита, ограждали ее витязи и солдаты Гондора и Мустангрима, горожане Минас-Тирита и жители ближних стран. Все стихли, когда от войска отделился строй серо-серебряных дунаданцев, во главе которых шествовал Государь Арагорн. Он был в черной кольчуге, препоясан серебряным поясом, и ниспадала с плеч его белая мантия, у горла застегнутая зеленым самоцветом, отблескивавшим издали; голова его была не покрыта, и сияла во лбу звезда в серебряном венце. С ним были Эомер Ристанийский, князь Имраиль, Гэндальф, весь белоснежный, и еще какие-то четыре малыша.
— Нет, дорогая кузина! Не мальчики это! — сказала Иорета своей родственнице из Имлот-Мелуи, которая стояла рядом с нею. — Это перианы из дальней страны невысокликов, они там, говорят, князья не хуже наших. Уж я-то знаю, я одного периана лечила в Палатах. Даром что они ростом не вышли, зато доблестью с кем хочешь померятся. Ты представляешь, кузина, такой коротыш со своим оруженосцем, вдвоем они пробрались в Сумрачный Край, напали на Черного Властелина, а потом взяли да и подожгли его чародейский замок, хочешь верь, хочешь не верь. Врать не стану, сама не видела, в городе говорят. Вот это, наверно, тот самый, что рядом с Государем нашим Элессаром, Эльфийским Бериллом. Говорят, они друзья неразлучные. А наш Государь Элессар — этот вообще чудо из чудес; ну строговат, конечно, зато уж сердце золотое, и главное — врачует наложением рук, ты подумай! Это из-за меня и открылось; я говорю: "В руках, — говорю, — Государя целебная сила", ну и догадались его позвать. Митрандир мне прямо так и сказал: "Золотые, — говорит, — слова твои, Иорета, долго их будут помнить!" — а потом…
Но Иорета не успела досказать своей деревенской родственнице, что было потом: грянула труба и вся площадь смолкла. Из Ворот выступил Фарамир с Хранителем ключей Турином, а за ними — четверо стражников цитадели в высоких шлемах и полном доспехе; они несли окованный серебром ларец черного дерева, именуемого лебетрон.
Сошлись посредине площади, Фарамир преклонил колена и молвил:
— Итак, последний наместник Гондора слагает с себя полномочия! — И он протянул Арагорну белый жезл; тот принял его и немедля возвратил со словами:
— Не кончено твое служение, оно вновь возлагается на тебя и на потомков твоих, доколе продлится моя династия. Исполняй свои обязанности!
Тогда Фарамир поднялся с колен и звонко возгласил:
— Народ и войско, внимайте слову наместника гондорского! Перед вами — законный наследник великокняжеского престола, пустовавшего почти тысячу лет. Он Арагорн, сын Араторна, вождь дунаданцев Арнора, предводитель Западного Ополчения, северный венценосец, владетель Перекованного Меча, побеждавший в битвах, исцелявший неизлечимых; он Эльфийский Берилл, государь Элессар из рода великого князя Арнора Валандила, сына Исилдура, сына Элендила Нуменорского. Как скажете, должно ли ему войти в наш Град и властвовать нашей страною?
И далеко раскатилось громогласное "да!". А Иорета объяснила родственнице:
— Видишь ли, кузина, это просто такая у нас торжественная церемония, без нее нельзя, а вообще-то он уже входил в город, я же тебе рассказываю: явился в Палаты и говорит мне… — Но тут ей пришлось замолчать, потому что заговорил Фарамир:
— О народ Гондора, согласно преданиям, издревле заведено, чтобы на Государя нашего возлагал корону его отец перед своей кончиной; если же этого не случилось, то наследник должен один отправиться в Усыпальни и принять корону из рук покойного. Нынче мы принуждены отступить от обычая, и я, по праву наместника, повелел доставить сюда из Рат-Динена корону последнего из великих князей Эарнура, который правил нашими далекими предками.
Стражи приблизились, Фарамир открыл ларец и вознес в обеих руках древнюю корону. Она была похожа на шлемы стражей цитадели, только выше и не черная, а ярко-белая, с жемчужно-серебряными подобьями крыльев чаек: ведь нуменорцы приплыли из-за Моря. Венец сверкал семью алмазами, а сверху пламенел еще один, самый крупный.
Арагорн принял корону, поднял ее над головой и вымолвил:
— Эт Эарелло Эндоренна утулиен. Синоме маруван ар Хильдиньяр тенн Амбар-метта!
Таковы были слова Элендила, когда он примчался по морю на крыльях ветров: "Великое Море вернуло наш род в Средиземье. И здесь пребудут мои потомки до скончанья веков".
Однако, на удивленье народу, Арагорн корону не надел, а вернул ее Фарамиру, сказав:
— Дабы почтить тех, чьими трудами и доблестью возвращено мне мое исконное наследие, да поднесет мне корону Хранитель Кольца и да коронует меня Митрандир, если он на то согласен, ибо все свершилось при свете его замыслов, и это — его победа.
И Фродо выступил вперед, принял корону от Фарамира и отдал ее Гэндальфу; Арагорн преклонил колена, а Гэндальф надел корону ему на голову и молвил:
— Наступают времена Государевы, и да будет держава его благословенна, доколе властвуют над миром Валары!
Когда же Арагорн поднялся с колен, все замерли, словно впервые узрели его. Он возвышался как древний нуменорский властитель из тех, что приплыли по Морю; казалось, за плечами его несчетные годы, и все же он был в цвете лет; мудростью сияло его чело, могучи были его целительные длани, и свет снизошел на него свыше.
И Фарамир воскликнул:
— Вот он, наш Государь!
Вмиг загремели все трубы, и Великий Князь Элессар подошел к цепи, а Турин, Хранитель ключей, откинул ее; под звуки арф, виол и флейт, под звонкое многоголосое пение Государь шествовал по улицам, устланным цветами, дошел до цитадели и вступил в нее; и расплеснулось в вышине знамя с Древом и звездами, и настало царствование Государя Элессара, о котором сложено столько песен.
И город сделался краше, чем был, по преданиям, изначально: повсюду выросли деревья и заструились фонтаны, воздвиглись заново Врата из мифрила и узорочной стали, улицы вымостили беломраморными плитами; подземные гномы украшали город, и полюбили его лесные эльфы; обветшалые дома отстроили лучше прежнего, и не стало ни слепых окон, ни пустых дворов, везде жили мужчины и женщины и звенели детские голоса; завершилась Третья Эпоха, и новое время сохранило память и свет минувшего.
Первые дни после коронования Государь восседал на троне в великокняжеском чертоге и вершил неотложные дела. Явились к нему посольства разных стран и народов с юга и с востока, от границ Лихолесья и с Дунланда, что к западу от Мглистых гор. Государь даровал прошенье вастакам, которые сдались на милость победителя: их всех отпустили; заключен был мир с хородримцами, а освобожденным рабам Мордора отдали приозерье Нурнена. Многие ратники удостоились похвалы и награды, и наконец пред Великим Князем предстал Берегонд в сопровождении начальника цитадельной стражи.
И сказано было ответчику на суде государевом:
— Берегонд, ты обагрил кровью ступени Усыпальни, а это, как ведомо тебе, тягчайшее преступление. К тому же ты покинул свой пост без позволения государя или начальника. Такие провинности издревле караются смертью. Слушай же мой приговор.
Вина твоя отпускается за доблесть в бою, но более всего за то, что ты преступил закон и устав из-за любви к государю своему Фарамиру. Однако стражам цитадели впредь тебе не быть, и должно изгнать тебя из Минас-Тирита.
Смертельно побледнел Берегонд, сердце его сжалось, и он понурил голову. И молвил Великий Князь:
— Да будет так! И ставлю тебя начальником над Белой Дружиной, охраною Фарамира, Владетеля итилийского. Живи же в почете и с миром на Эмин-Арнене, служи и дальше тому, для кого ты пожертвовал больше чем жизнью, чтобы спасти его от злой гибели.
И тогда Берегонд понял, сколь справедлив и милосерд Государь; опустившись на колени, он поцеловал ему руку и удалился, радостный и спокойный. Арагорн же, как было сказано, отдал Фарамиру в вечное владение Итилию и в придачу к ней нагорье Эмин-Арнен, невдалеке от столицы.
— Ибо Минас-Итил в Моргульской долине, — сказал Арагорн, — будет снесен до основанья, и когда-нибудь долина очистится, но пока что многие годы жить там нельзя.
Когда же явился к Государю Эомер Ристанийский, они обнялись, и Арагорн сказал:
— Не оскорблю тебя ни восхваленьем, ни воздаяньем: мы ведь с тобою братья. В добрый час примчался с севера Эорл, и благословен был наш союз, как никакой другой; ни единожды не отступились от него ни вы, ни мы и не отступимся вовеки. Нынче, как сами знаете, славный конунг Теоден покоится у нас в Усыпальне, и коли вы захотите, там и пребудет, среди властителей Гондора. Или же, по желанию вашему, мы перевезем тело его в Мустангрим, где он возляжет рядом с предками.
И ответствовал Эомер:
— С того дня, как возник ты предо мною в зеленой степной траве, я полюбил тебя, и полюбил навсегда. Но сейчас должно мне отвести войско в Ристанию и устроить мирную жизнь на первых порах. А за конунгом, павшим в бою, мы в свое время вернемся; пусть он дотоле покоится в гондорской Усыпальне.
И сказала Эовин Фарамиру:
— Мне надо вернуться в свою страну, еще раз взглянуть на нее и помочь брату в его трудах; когда же тот, кого я столь долго почитала отцом, обретет вечный покой близ Эдораса, я приеду к тебе.
Так и прошли дни ликования; восьмого мая конники Ристании изготовились и отъехали Северным Трактом, а с ними отбыли и сыновья Элронда. От городских ворот до стен Пеленнора по обе стороны тракта толпились люди, пришедшие проводить союзников с прощальной благодарностью. Затем жители дальних окраин Гондора отправились домой праздновать победу, а в городе всем хватало работы — возводить заново или перестраивать то, что разрушила война и запятнала Темь.
Хоббиты, а с ними Леголас и Гимли остались в Минас-Тирите: Арагорн просил Хранителей пока что держаться вместе.
— Все на свете кончается, — сказал он, — однако же немного погодите: не все еще кончилось из того, в чем мы с вами были соучастниками. Близится день, для меня давным-давно долгожданный, и, когда он настанет, я хочу, чтобы любимые друзья были рядом.
Но о том, что это за день, он не обмолвился.
Бывшие Хранители Кольца жили вместе в роскошном доме, и Гэндальф никуда не девался; а уж гуляли они, где им вздумается. И Фродо как-то сказал Гэндальфу:
— Ты-то хоть знаешь, какой такой день, о котором говорит Арагорн? А то, конечно, хорошо нам здесь и торопиться вроде бы некуда; только дни-то уходят, а Бильбо ждет, да и в Хоббитанию пора бы все-таки вернуться.
— Ну, насчет Бильбо, — сказал Гэндальф, — так он ждет того самого дня и отлично знает, отчего тебя нет. А что дни уходят, это верно, однако на дворе май, лето все еще не слишком близко; и, хотя многое на свете, кажется, изменилось с началом нового века, все же деревья и травы живут по своему счету, у них и года не прошло, как вы расстались.
— Видал, Пин, — сказал Фродо, — вот ты говорил, будто Гэндальф, мол, стал словоохотлив, не то что раньше! Да это он, я так понимаю, было дело, слегка подустал. Теперь он снова Гэндальф как Гэндальф.
А Гэндальф сказал:
— Все-то всегда хотят знать заранее, что поставят на стол; но те, кто готовят трапезу, болтать не любят: чем неожиданней, тем радостней. Арагорн, кстати сказать, и сам ждет знака.
В один прекрасный день Гэндальф как в воду канул, и хоббиты с Леголасом и Гимли только руками разводили. А Гэндальф еще ночью увел Арагорна далеко за стены, к южному подножию Миндоллуина; там отыскалась давным-давно забытая тропа, по которой некогда восходили на гору лишь Великие Князья, уединяясь для размышления и созерцания. По кручам поднялись они к возвышенному плато у самой кромки вечных снегов, стали над пропастью за Минас-Тиритом и огляделись, благо уже рассвело. Далеко внизу видны были городские башни, точно белоснежные стебли, озаренные утренним солнцем; и как сад простиралась долина Великой Реки, а Изгарные горы подернула золотистая дымка. На севере смутно серело Приречное Взгорье, и дальней звездою мерцал вспененный Рэрос; широкая серебряная лента Андуина тянулась на юг, к Пеларгиру, туда, где край небес сиял отсветом Моря.
И Гэндальф сказал:
— Вот оно, твое нынешнее царство, а станет оно несравненно больше. Третья Эпоха кончилась, наступают иные времена, и тебе суждено определить их начало, сохранив все, что можно сохранить. Многое удалось спасти — и многое уйдет безвозвратно: более не властны в Средиземье Три Эльфийских Кольца. Все земли, какие ты видишь, и те, что лежат за ними, заселят люди, ибо настал черед их владычеству, а Первенцы Времен рассеются, сгинут или уплывут.
— Это я знаю, дорогой мой друг, — сказал Арагорн, — но ты-то останешься моим советником?
— Ненадолго, — отозвался Гэндальф. — Я — из Третьей, ушедшей Эпохи. Я был главным противником Саурона, и мое дело сделано. Пора мне уходить. Теперь в ответе за Средиземье ты и твои сородичи.
— Но ведь я скоро умру, — сказал Арагорн. — Я всего лишь смертный, и хотя нам, прямым потомкам нуменорцев, обычно сужден долгий век, но и он скоротечен: когда состарятся те, кто сейчас в материнском чреве, я тоже буду стариком. Что тогда случится с Гондором и со всеми теми, для кого станет столицей Минас-Тирит? Древо в Фонтанном Дворе по-прежнему иссохшее, ни почки нет на нем. Увижу ли я верный залог обновления?
— Отведи глаза от цветущего края и взгляни на голые холодные скалы! — велел Гэндальф.
Арагорн повернулся, окинул взором кремнистый склон под снеговой шапкой и, всмотревшись, увидел посреди пустоши одинокое деревце. Он взобрался к нему: да, деревце, едва ли трехфутовое, возле оснеженной наледи. Уже распустились листочки, продолговатые, тонко выточенные, темно-зеленые с серебристым исподом; у верхушки искрилось, словно снег под солнцем, маленькое белое соцветие.
И Арагорн воскликнул:
— Йе! утувьенес! Я нашел его! Это же отпрыск Древнейшего Древа! Но как он здесь оказался? Он не старше семи лет!
Гэндальф подошел, взглянул и молвил:
— Воистину так: это сеянец прекрасного Нимлота, порожденного Галатилионом, отпрыском многоименного Телпериона, Древнейшего из Дерев. А как он оказался здесь в урочный час — этого нам знать не дано. Однако же именно здесь было древнее святилище, и, должно быть, семя Нимлота зарыли в землю еще до того, как прервался род Великих Князей и иссохло Белое Древо. Преданья говорят, что плодоносит оно редко, но семя его сохраняет животворную силу многие века и никому не ведомо, когда оно прорастет. Запомни мои слова: если вызреет его плод, все до единого семена должны быть посажены, чтобы Древо не вымерло. Да, тысячу лет пролежало оно, сокрытое в земле, подобно тому как потомки Элендила таились в северных краях. Но род Нимлота куда древнее твоего, Государь Элессар.
Арагорн бережно потрогал деревце, а оно на диво легко отделилось от земли, и все корни его остались в целости, и Арагорн отнес его во двор цитадели. Иссохшее древо выкопали с великим почетом и не предали огню, но отнесли покоиться на Рат-Динен. А на месте его, у фонтана, Арагорн посадил юное деревце, и оно принялось как нельзя лучше; к началу июня оно было все в цвету.
— Залог верный, — молвил Арагорн, — и, стало быть, недалек лучший день моей жизни. И он выставил на стены дозорных.
За день до солнцеворота примчались в столицу гонцы с гор Амон-Дин и возвестили о том, что в Гондор явилась с севера конная дружина эльфов, что они уже возле стен Пеленнора. И сказал Арагорн:
— Наконец-то! Пусть город готовится к великому празднеству!
В канун солнцеворота, под вечер, когда в сапфирном небе на востоке зажигались светлые звезды, а запад еще золотил закат и веяло душистой прохладой, северные гости приблизились к воротам Минас-Тирита. Впереди ехали Элроир и Элладан с серебряным стягом, затем — Всеславур, Эрестор и все домочадцы Элронда, и следом — владыки Кветлориэна, Галадриэль и Келеборн на белых конях, во главе эльфийской свиты, облаченной в серые плащи, с самоцветами в волосах; шествие замыкал властительный Элронд, равно прославленный между людей и эльфов, и в руке у него был скипетр Ануминаса, древней столицы Арнора. А рядом с ним на сером иноходце ехала дочь его Арвен, эльфийская Вечерняя Звезда.
Алмазным блеском лучился ее венец; казалось, вечер заново озарило нежное сияние ее благоуханной прелести, и, задыхаясь от восторга, Фродо обратился к Гэндальфу:
— Наконец-то я понимаю, чего мы дожидались. И дождались. Теперь мы не только дню будем радоваться, ночь тоже станет прекрасной и благодатной. Кончились наши страхи!
Государь приветствовал своих гостей, и они спешились; Элронд отдал ему скипетр и соединил руку своей дочери с рукой Арагорна; шествие двинулось вверх по улицам, и все небо расцвело звездами. Так Арагорн, Великий Князь Элессар, обручился с Арвен Ундомиэль в великокняжеском граде накануне солнцеворота, и кончилась их долгая разлука, и сбылись их ожидания.
ГЛАВА VI. РАССТАВАНИЯ
Дни празднества миновали: пора было и честь знать, домой отправляться. Фродо пошел к Государю; они с княгиней Арвен сидели у фонтана, возле цветущего Древа, она играла на лютне и пела старинную валинорскую песню. Оба они были ему рады, оба встали навстречу, и Арагорн сказал:
— Ты, верно, домой собрался, Фродо. Что ж, всякому деревцу родная земля слаще, но ты уж помни, дорогой друг, что теперь твоя родина — весь Западный Край и везде ты желанный гость. Правда, доныне твой народ не был прославлен в величавых преданьях, зато теперь прославится больше, чем иные погибшие царства.
— Да и то сказать, тянет меня в Хоббитанию, — отозвался Фродо. — Но все же сначала надо бы в Раздол. Если кого не хватало в эти радостные дни, так это Бильбо; я очень огорчился, что его не было среди домочадцев Элронда.
— Чему тут огорчаться или удивляться, Хранитель? — спросила Арвен. — Ты же знаешь, какова страшная сила Кольца, которое ты истребил. Все, что ни сделано этой силою, все распалось. А твой родич владел Кольцом дольше, чем ты, очень долго владел. Даже по-вашему он уже древний старик и ждет тебя, а ему путешествовать больше невмочь.
— Тем скорее надо мне ехать к нему, — сказал Фродо.
— Поедешь через семь дней, — сказал Арагорн. — Мы ведь далеко тебя проводим, до самой Ристании. Дня через три вернется Эомер — за телом Теодена, и мы поедем вместе с ним: что надо, то надо. Кстати же, подтверждается тебе завет Фарамира: ты вправе быть в пределах Гондора, когда и где тебе угодно, с любыми спутниками. Хотел бы я вознаградить тебя за твои подвиги, однако же нет для тебя достойной награды, бери, что хочешь, а почести тебе в нашей земле всегда будут княжеские.
Но княгиня Арвен сказала:
— Есть для тебя награда. Недаром же я дочь Элронда. Когда он отправится в Гавань, я не пойду с ним: как и Лучиэнь, я выбрала смертную долю, и выбор мой столь же горек и столь же отраден. Ты, Хранитель, если пожелаешь, займешь мое место. Быть может, раны твои нестерпимо заноют или надавит страшным бременем память — что ж, тогда плыви на Запад, где и раны твои исцелятся, и усталость исчезнет. Вот возьми — и носи на память об Элессаре и Арвен, чью участь решила твоя судьба!
И она сняла кулон на серебряной цепочке — жемчужину, впитавшую звездный блеск, — и надела его на шею Фродо.
— Это поможет тебе, — сказала она. — Защитит от наплыва тьмы и ужаса.
Через три дня, как и было сказано, конунг Эомер Ристанийский подъехал к Вратам во главе эореда из лучших витязей Мустангрима. Его встретили с должным почетом, и за праздничной трапезой в Меретронде, Обеденном Чертоге, он был поражен красотой обеих государынь. После трапезы он не пошел отдыхать, а попросил, нельзя ли вызвать к нему гнома Гимли.
Когда же Гимли явился, Эомер ему сказал:
— Гимли, сын Глоина, секира у тебя под рукой?
— Нет, государь, — сказал Гимли, — но за нею в случае чего недолго и сходить.
— Сам рассудишь, — сказал Эомер. — Помнится, вышла у нас размолвка насчет Владычицы Златолесья, и покамест размолвка не улажена. Так вот, нынче я видел Владычицу воочию.
— Ну и что же, государь, — спросил Гимли, — что ты скажешь теперь?
— Увы! — отвечал Эомер. — Не могу признать ее первой красавицей.
— Тогда я пошел за секирой, — сказал Гимли.
— Но сперва позволь хоть немного оправдаться, — сказал Эомер. — Видел бы я ее раньше, где других никого не было, я бы сказал все твои слова и к ним бы еще добавил. Но теперь скажу иначе: первейшая красавица у нас — великая княгиня Арвен, Вечерняя Звезда, и если кто не согласен, то я сам вызываю его на бой. Так что, послать за мечом?