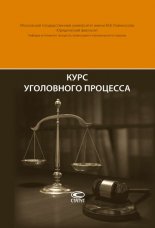1793. История одного убийства Натт-о-Даг Никлас
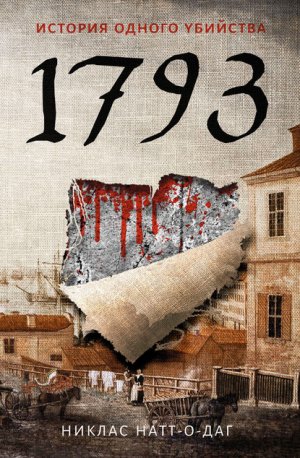
Кардель обогнул занявшего почти все пространство моста нищего – тот пытался вызвать сочувствие, выставив на обозрение прохожих изуродованные руки. Перед входом на рыбный рынок на деревянном коне с острым хребтом тихо плакал немолодой дядька с подвешенными к ногам тяжелыми гирями – должно быть, извозчик, пойманный на вымогательстве лишней платы.
Другой, полуголый, стоял у позорного столба. Из носа у него текла кровь, и он время от времени слизывал ее языком.
Сразу за мостом начинаются трущобы. Полуразвалившиеся лачуги – здесь люди имеют куда больше причин бояться наступающей зимы, чем другие. Беспощадный холод проникает во все углы их жалких хибар. Заледеневшие трупы складывают в штабеля у ворот кладбища в ожидании весны, когда начнет оттаивать промерзшая земля.
На берегу у верфи Терра Нова работают землекопы – готовят место для новых доков и мастерских.
Кардель повернул от моря. Здесь строения попадались все реже, воздух стал заметно чище – соленый бриз с Балтики выдувал всю городскую вонь. Вскоре он увидел поместье Спенса, или, как его называли в городе, Спенское, – ряд строений, окруживших липовую рощу.
На аллее он наткнулся на пожилую служанку с медным кувшином.
– Господин Винге снимает комнату в новом доме. Вон в том, каменном, на втором этаже. Заходите, погреетесь… – Она провела его в кухню и пошла на второй этаж известить о посетителе.
Кухня помещалась рядом с сенями. Слуги и служанки беспрерывно сновали туда-сюда, и Кардель все время оказывался на дороге. В каменной печи пекли хлеб.
Наконец кто-то догадался и протянул ему кружку с домашним пивом и свежеиспеченную пшеничную булку. От булки он отказался. Только одна рука – он повертел деревянным протезом и усмехнулся.
Не успел Кардель отхлебнуть пива, на лестнице показалась служанка и помахала рукой: господин Винге готов вас принять. Могла и не показывать комнату: кашель был слышен еще со двора.
Довольно мрачное жилище. Мебель самая простая, должно быть, сдается вместе с комнатой. Штабеля книг, сундук. Недорогой секретер у окна, поближе к свету.
На столе разложены детали часового механизма. Комната прямо над кухней, от пола поднимается жар – судя по всему, единственный источник тепла. Есть и изразцовая печь, но она погашена. Настоящие холода еще не настали.
И запах. Кто-то другой, кто прожил иную жизнь, может, его бы и не узнал, но Кардель узнал сразу. Запах крови. Под кроватью заметил ночной горшок с красными пятнами по краям и смущенно отвел взгляд.
Винге сидит на краю постели. Бледен и спокоен, не сказать, что всего несколько минут назад его бил изнуряющий, надрывный кашель.
Кардель пытается найти слова, но Винге начинает первым:
– Вы поговорили с кем-то и узнали, чем я занимаюсь и каковы мои дела. И вы раскаиваетесь в ваших последних словах, потому что у вас не было намерения меня обидеть.
Кардель с облегчением кивнул.
– Это совершенно неважно, Жан Мишель. Важно, что вы пришли. Что вас заставило изменить решение?
– Вы говорили что-то о деньгах. Один Бог знает, как мне нужны деньги.
– Может быть… но я бы не предложил вам плату, если бы не почувствовал какую-то более важную причину вашей заинтересованности. Вам же никто не предлагал плату, когда вы полезли в ледяную октябрьскую воду и выудили тело несчастного Карла Юхана.
– Да… война. У меня был друг… он, наверное, не меньше ста раз спасал мою жизнь. Он мою, а я его. Он получил балкой по голове… умер, наверное, сразу, но я держал его на поверхности воды, покуда мог. Покуда волной не вырвало. Упустил я его. И как раз позавчера он мне приснился… он мне вообще чуть не каждую ночь снится. И когда я полез в Фатбурен, пьяный еще… мне показалось, что я опять там… и уж на этот-то раз я его не упущу. Потом-то, конечно, протрезвел. А в башке так и застряло: на этот раз не упустил. Вот и пошел на него посмотреть.
– Благодарю за доверие, Жан Мишель. Я не из праздного любопытства спросил. Предложение насчет денег остается в силе, но я плачу только в том случае, если ваша лояльность не колеблется в зависимости от того, кто больше даст. Вы, как я вижу, пальт, но работа вам не по душе.
Кардель поморщился, вспомнив своих сослуживцев, сепарат-стражников. Молодые, искалеченные войной парни, которые за взятку продадут кого угодно. Особенно если взятка натурой – вино, женщина…
– Нет, – сказал он твердо. – Работа мне не по душе. Моя должность – это вроде подаяния инвалидам. Послужили отечеству – и спасибо. Вот вам должность, жалованье, живите пока. Но это не каждому. Мне еще повезло. Другие попрошайничают. И должность мне досталось, так сказать, по знакомству. Но избави Бог, чтобы я поволок в каталажку какого-то бродягу или девчонку-поблядушку. Они сами, что ли, выбирали свою судьбу? А я? Я ее тоже не сам выбрал.
С каждым днем темнота начинает душить город все раньше и раньше. Винге достал серные спички и зажег свечу на секретере. На стенах заплясали уродливые тени.
Он опять сел на кровать и положил ногу на ногу.
– Я должен поставить вас в известность, что работаю по соглашению с полицеймейстером Норлином. Ищу убийцу несчастного Карла Юхана, имея за спиной его авторитет. Можно сказать, взял его полномочия взаймы. Но! Норлин скоро покинет свой пост, и он назвал имя человека, который с большой долей вероятности займет его пост. Его имя Магнус Ульхольм. Несколько лет назад его посадили управлять вдовьей кассой13 духовенства, а при проверке выяснилось, что крупной суммы недостает. Подозрения пали, естественно, на Ульхольма. Я тогда работал в уездном суде и помогал расследовать это дело. Ни секунды не сомневался, что Ульхольм виновен в растрате, но он предусмотрительно сбежал в Норвегию. Процесс без обвиняемого ушел в песок, а потом его пригрел барон Ройтерхольм, нынешний министр, он-то знает, как пользоваться человеческой алчностью. К тому же Ульхольм весьма злопамятен. Как только он узнает про старания Норлина раскрыть преступление, тут же прикроет следствие.
Винге встал и начал ходить из угла в угол, сложив за спиной тонкие руки.
– Это во-первых. А во-вторых – преступление, которое нам предстоит раскрыть, очень необычно. Его совершил не уличный бандит. Подумайте сами, Кардель: какие надо иметь возможности, чтобы несколько месяцев держать человека под замком и отрубать ему конечности? И при этом, чтобы никто ничего не заметил? Подумайте, какая сила воли для этого нужна… Сила воли и целеустремленность. И кто знает, какое чудовище выползет из-под этого камня, если нам удастся его перевернуть? Вы рискуете нажить по врагу на каждый риксдалер, который заработаете, причем по обе стороны баррикад. Я говорю об этом потому, что вы рискуете больше, чем я.
Винге подошел к окну, где поблескивали стеклярусные нитки дождя, постепенно переходящего в мокрый снег.
– Вы рискуете больше, чем я, – повторил он. – Потому что я не переживу эту зиму. Скоро я окажусь вне достижимости… за пределами взаимодействия причин и следствий. Впрочем, и так мало кому дано понять, как они взаимодействуют… Что бы ни случилось, вам придется расхлебывать одному.
Кардель уставился в пол. Он почти не знаком с Винге… но странно: мысль о его неизбежной смерти отозвалась смутной печалью. Не обернется ли попытка вылечить рану, оставленную гибелью Юхана Йельма, новой, еще более тяжкой раной? Но, как ни странно, решение пришло без труда.
Он грохнул здоровой рукой по секретеру так, что часовые колесики подпрыгнули и поменялись местами.
– Не будем терять время! – сказал он. – Если постараемся, вы тоже успеете хлебнуть дерьма.
8
В кабачке «Флагген» у Ладугордского залива очень весело. Два горе-музыканта – один с лирой, другой со скрипкой, решили не конкурировать за подачки, а превратить соревнование в сотрудничество. Набилось множество любопытных, даже на лестнице у входа не протолкнуться. Воздух на улице сырой и холодный. Выпавший снег не удержался – тут же растаял. Вечерний туман медленно и неотвратимо карабкался с моря по городским откосам.
Винге и Кардель зашли поужинать. Нашли столик около печки, подальше от гуляющих по трактиру сквозняков.
Винге почти не притронулся к еде, зато Кардель уминает все мгновенно. Фрикадельки из щуки, тушенная в масле морковь, связка сосисок, отварная треска и жареная сельдь, пареная репа, хлеб, сыр и десерт: тарелка молочного супа с апельсиновыми дольками и сладкими сухарями. Винге ему не мешает, терпеливо ждет, пока пальт насытится. Поковырял вилкой в тарелке, отодвинул в сторону и попросил принести кофе.
Кардель сморщил нос, когда запахло свежесмолотыми зернами:
– Не понимаю, что люди находят в этой жиже.
– Вкус, разумеется, дело привычки. Но голова проясняется мгновенно… Жан Мишель, вы не хотите рассказать, при каких трагических обстоятельствах вы лишились руки?
– Не то чтобы хочу… нет, скорее не хочу. Но рассказать стоит. Может, и к лучшему. Думаю, всем полезно узнать, как Густав воевал с русскими. Глядишь, отобьет охоту ввязываться в подобные истории. Я-то что? От меня мало что зависело, да и героем я никаким не был. Так… ничего не значащая фигура. Положено мне было помереть, как и многим, ан нет… судьба скапризничала и распорядилась… вон как она распорядилась… – Кардель помахал деревянной рукой. – Можно сказать, рука пожертвовала собой, чтобы спасти мою жизнь… уж не знаю, благодарить ее или проклинать. Скорее проклинать – уж больно настырно она о себе напоминает.
Малый чин унтер-офицера не помешал Карделю очень быстро заподозрить, что в войну ввязались наспех, с неподготовленной армией. Пять лет отслужил в артиллерии. В середине лета 1788 года вместе с тысячами других солдат его перебросили на гребной каботажной галере на восточный берег Балтийского моря, в Финский залив. На острове Хангё их перегрузили на военные корабли, пришедшие из Карлскруны под командованием брата короля, герцога Карла. Кардель попал на линейный корабль «Фадернеланд»14, построенный пять лет назад в Карлскруне по чертежам Фредрика Чапмана. Шестьдесят пушек. Не много, но и не мало. Бывает и за сотню.
– Мы, можно сказать, вместе начали воевать – я и «Фадернеланд». – Кардель усмехнулся. – Однолетки. Я посчитал это хорошим знаком. Но, как оказалось, ошибся.
Семнадцатого июля Кардель стоял на палубе «Фадернеланда». По морю бродили последние клочья утреннего тумана. С шедшего в авангарде фрегата просигналили: враг на горизонте. Через полчаса Кардель и сам увидел в утренней дымке лес мачт на востоке. В этот момент он впервые почувствовал укол страха под ложечкой.
Силы были примерно равными: семнадцать русских кораблей и ровно двадцать шведских.
– Разрази меня гром – это был мой первый бой, Винге! На море… как бы вам сказать… морской бой разворачивается на удивление медленно. Как только заметили друг друга, начинаются маневры. Капитан ловит ветер, уваливает, приводится, приглядывается к течениям – всё, чтобы подойти поближе к врагу, и не просто подойти, а встать бортом, дать простор пушкам. Тут уже наша работа. По команде «заряжай» – заряжаем, по команде «пли» – палим. Даже в пушечный люк не смотрим – ядро, картуз15, пли… ядро, картуз, пли. А там, как Бог положит – либо мы их, либо они нас. Мы – такая же мишень, как и они. Жуткое дело. Весь корабль дрожит как припадочный. Щепки хуже всего – как кинжалы. Вонзаются в тело, как в только что сбитое масло. А вынуть некогда. Ядро, картуз, пли… Даже по нужде никто не отходит, валят тут же, дерьмо пополам с кровью, через полчаса скользишь, как на катке. Вонь невыносимая… А вы, к примеру, знаете, что, когда человеку до смерти страшно, даже пот пахнет по-другому? Пороховым дымом он пахнет, вот что я вам скажу. Если бы ядер хватило, мы бы победили.
Тысяча человек погибли в этом бою. Русских вдвое больше, чем шведов. Когда стемнело, все замерло, а под утро шведский флот развернулся к Хельсингфорсу – ядра кончились. Русские, к счастью, не стали за нами гнаться. Вице-адмиральский «Принц Густав» достался русским, а мы захватили «Владислав», фрегат на семьдесят четыре орудия. Знали бы, чем кончится, потопили бы его к чертовой матери. Этот «Владислав», нечистый его побери, стоил нам войны.
Именно на «Владиславе» началась пятнистая лихорадка16, но мы довели судно до Свеаборга. Там я остался на зиму, а остальной флот вернулся в Карлскруну. Легко сказать – вернулся. Нас погнали с топорами и ломами пробивать проход – у берегов уже встал лед. Значит, флот повез заразу в Швецию, а мы остались в этой преисподней, в Свеаборге. В ту зиму крепость и назвать иначе нельзя было: преисподняя. Солдаты мерли как мухи. В лазарете на одну койку пять человек штабелем, нижний уже помер. Без исключений – всегда. Нижний помер. А те, кто пока не помер, смотрят своими красными глазами в одну точку, видят что-то, чего живым не углядеть, и кричат так, что кровь в жилах стынет. У многих рассудок сдвинулся: я видел, как зимой, в стужу, полуголые солдаты убегали из лазарета, а потом их находили в самых гиблых местах. Меня Бог миловал, я не заразился.
А по весне в Финский залив опять пришла война. У Свенсксунда нас просто перебили, как котят. И под Выборгом тоже… никаких шансов. Что странно – с моей головы ни один волос не упал. Ничто меня не брало – ни лихорадка, ни осколки, ни пули. В мае пришло подкрепление из Турку. Меня послали обучать новичков и перевели на «Ингеборг», каботажный парусник. Я его возненавидел с первого дня. Тот же Чапман нарисовал, будь он проклят… Он же в жизни не ходил под парусом, Винге! Ни разу в жизни! Кабинетный моряк, математик, чтоб ему неладно было. Сто двадцать футов и дюжина пушек с двенадцати фунтовыми ядрами. Тек он, как решето. В трюме плесень с ладонь, слежалась, сволочь, хоть ножом режь. Мы из шхер носа не показывали, держались поближе к земле.
Во второй раз пригнали шведские корабли в Свенсксунд. На убой, как овец. Все с пробоинами, русские на пятки наступают, а основной флот заперт у Свеаборга. Бежать некуда. Принять сражение – ничего другого не оставалось. И Густав, само собой, рвался в бой.
Русские опять подошли на рассвете, в тумане. И опять, как и в тот раз, – полный штиль. Четыре часа у них ушло, чтобы подойти на расстояние пушечного выстрела. Четыре часа! А мы, как бараны, стояли и ждали смерти. Эти четыре часа… самые страшные часы в моей жизни, Винге. У нас и сомнения не было: сама смерть идет к нам, поделенная на триста ощерившихся пушками кораблей. Кое-кто пытался дезертировать. Мы, когда драпали из Выборга, видели, как прибой качает трупы у берега. Сотни трупов. Может, тысячи. А кто посуеверней, те даже голоса их слышали: «К нам, к нам! Идите к нам!»
Русские подошли. Мы встали к ним правым бортом и начали палить. Час, другой, а мы все стоим у пушек, протираем ядра, суем картузы, опять ядра, опять картузы…
Примерно к часу дня погода переменилась. Подул юго-западный ветер, поначалу вроде нашептывал что-то, но за несколько минут шепот перешел в вой. Поднялись волны, море закипело барашками, откуда ни возьмись, надвинулись свинцовые тучи. И тут нам повезло – наши корабли были заякорены и связаны между собой, так что мы стояли на месте и могли стрелять прицельно. А русские на еле управляемых фрегатах палили вслепую. Несколько наших кораблей снялись с якорей и пошли в обход: собрались ударить по правому флангу с тыла. Русские на правом фланге раскусили ловушку и стали отходить.
Вдруг начал разворачиваться и левый фланг. Должно быть, приняли бегство за приказ по эскадре. Остался только центр, и его расколошматили в щепки. Уже темнело, а корабли один за другим шли ко дну. Море покраснело от крови. А когда последние корабли попытались отойти, их погубило море. Финские шхеры – коварная штука. Их и в тихую погоду надо знать как свои пять пальцев, а в шторм – гиблое дело. Я-то, понятное дело, всего этого не видел, мне потом лейтенант в лазарете рассказал, как дело было…
Кардель отказался от кофе, отвернулся и несколько минут сидел молча.
– А как же я, Винге? А я вот как. В «Ингеборг» попало русское ядро. Сорвало с лафета двенадцатифунтовую пушку и пробило борт. Пушка металась от борта к борту, человек десять канониров точно разнесла в клочья. Там же тесно, в пушечном отсеке. Начался пожар. Мы продолжали заряжать – команды «прекратить огонь» не было. Потом оказалось, стрелять не в кого – нас развернуло другим бортом. Мы, те, кто остался, поднялись на палубу, а там уже полный хаос. Фрегат тонул. Единственная возможность спасти посудину – сняться с якоря и посадить ее на мель. Мы начали выбирать цепь, и тут грохнул пороховой склад. Лебедку, конечно, отпустили, якорная цепь с лязганьем пошла назад и размозжила мне пальцы. Те, кого не убило на месте, оказались за бортом. И я тоже, но мне вроде повезло – меня бросило на кусок палубы. Фрегат пошел ко дну. Мои товарищи тонули один за другим, а я кое-как держался. К ночи меня нашли – какой-то ботик случайно оказался рядом. Сначала отпилили пальцы, потом руку ниже локтя… да я вам уже рассказывал, как это делается. Так и окончилась война для старшего канонира Микеля Карделя – в полевом госпитале в Ловисе. Потом меня доставили в Стокгольм, и… вот уже три года живу, как живу. – Он постучал по столу деревянной ладонью. – Вы же наверняка знаете, война никакого смысла не имела – все остались при своих. Но я запомнил одну историю, ее мне рассказал молодой офицер по имени Силлен. Король Густав со штабом направлялся на свою яхту «Амфион». Некий капитан Виргин попросил аудиенции и рассказал о неудавшейся попытке штурма русской верфи. И будто бы в подтверждение своих слов показал на убитого штурмана – из огромной раны в животе вывалились кишки. И знаете, что сказал король, Винге? Он сказал, что штурман напоминает ему тряпичную куклу, персонажа его собственной оперы «Густав Васа». А придворные захлопали в ладоши – ах, как остроумно пошутил король! И ради этого мерзавца мы сражались и гибли…
Винге помолчал, как бы обдумывая рассказ Карделя.
Тот очевидно устал от собственного красноречия, вытер лоб рукавом на деревянной руке и спросил:
– И что теперь?
– Я назову вам одно имя, Жан Мишель. Если повезет, оно может куда-то нас вывести. А сам займусь странной тканью, в которую завернули тело Карла Юхана для последнего упокоения. Это тонкий хлопок с примесью шелка, называется сатин. Очень дорогой. Как только наткнетесь на что-то интересное, поставьте в известность. Теперь вы знаете, где меня искать.
9
Встречу с квартальным полицейским предместья Мария помог устроить Винге и еще кто-то из полицейского управления.
Квартальный уже успел позавтракать, хотя завтрак, судя по всему, употребил в жидком виде – еле держался на ногах, то и дело икал, испуганно округляя глаза и улыбаясь, а волны перегара уничтожали последние сомнения. Крепкого сложения, приземистый, нос кривой: сломан, и скорее всего не раз. На щеках красная паутина лопнувших сосудов.
– Хенрик Стуббе, к вашим услугам! Меня все называют просто Стуббен. Пенек, дескать.
«И в самом деле похож», – подумал Кардель.
Стуббе сделал неудачную попытку предотвратить отрыжку и, словно извиняясь, пожал плечами.
– Микель Кардель, ваш покорный слуга, с извинениями за принесенные неудобства.
– Да ради бога! Оставьте эти реверансы, заходите. Только подкрепитесь для начала. Предместье Мария… врагу не пожелаю сюда соваться на трезвую голову. Да и Катарина не лучше.
Проведя полчаса в обществе кувшина с дешевым, бочковым, но сверх всякой меры сдобренным пажитником вином, они вышли на улицу Святой Катарины. У Стуббена припадок красноречия – почему-то ему захотелось посвятить Карделя в особенности жизни в порученном ему предместье.
– Все дерьмо из Фатбурена течет сюда, в Гульфьорден. И младенцев сюда же кидают, чтобы не тратиться на похороны. Нечем нам здесь хвастаться, Кардель, разрази меня Бог – нечем! Но сношаться мы умеем, что да, то да… своя жена надоела, жена друга тоже подойдет. Сношаться и рожать. Навинчивают девчонке оловянное кольцо на палец, а потом, с иссохшими титьками, несут вперед ногами. И сколько лет проходит между этими важными событиями? Скажите мне, Кардель, сколько лет проходит? Десять лет, ну, двенадцать… и столько же детишек. Единицы, говорю вам, Кардель, единицы взрослеют и становятся, как мы с вами, гордыми представителями рода человеческого. Многие и до двадцати не доживают – до первой весенней лихорадки…
Cтуббен присел на лавку, зажал шляпу между коленей и потер макушку, чем вызвал короткий снегопад перхоти.
– А с продажными девками? Стыд и срам… Еще не научились толком на ногах стоять, зато раздвигать их уже мастерицы. Берут для вида корзину с яблоками и шляются по усадьбам, склоняют к греху богобоязненных граждан. Да и у них жизнь, скажу я вам… французская болезнь – вопрос времени. Денег на лечение нет, лекарств два – перегонное вино да сивуха, и через пару лет на них и взглянуть страшно. Умные люди, вроде нас с вами, срывают розы, пока не завяли. – Он заговорщически подмигнул. – Да что я рассказываю, вы же пальт, кому и знать, как не вам. А вот смотрите, вон ваши идут.
Карделю достаточно увидеть силуэты на холме – конечно же, сепараты, как и он. Фишер и Тюст.
Идут и заглядывают в подъезды в надежде застать какую-нибудь грешницу на месте преступления.
Сам-то он много в страже не наработал. Уже на следующий день подошел к командиру и отказался от службы. Достаточно было одного визита в Прядильный дом – женскую тюрьму на Лонгхольмене. Его чуть не вырвало от стыда, жалости и отвращения. Изможденные молодые женщины ковыляли к своим станкам и работали с утра до ночи, медленно умирая от голода и издевательств таких же пальтов, как и он сам. Ему тогда подумалось: какие бы кары Господь ни назначил беднягам за их грехи, хуже, чем в Прядильном доме, не будет. Он так и сказал начальнику. Тот попытался его переубедить, но Кардель уперся. Уставился в землю и молчал. Начальник в сердцах плюнул и повернулся на каблуках.
Но странно: службу за ним оставили. Видимо, посчитали, что спокойнее платить Карделю несколько жалких шиллингов, чем разозлить тех, кто составил ему протекцию. Жалованье он пока получает, но единственное, чем может отблагодарить нанимателей, – носить их форменную одежду. Какая бы ни была, лучше, чем то, что у него есть. Камзол, сапоги, штаны, пояс. Хлыст Кардель сломал об колено, а ремень для порки выкинул в Риддарфьорден.
Взял Хенрика Стуббе под руку, поднял с лавки и повел за угол, чтобы не встречаться с Фишером и Тюстом. А квартальный, передохнув, продолжил свой обличительный монолог:
– А Фатбурен, Кардель? Выгребная яма. Слышал, слышал, вы окунулись недавно, если я правильно понял. А вы там бывали, когда ветер начинает дуть всерьез? Крылья вертятся так, что мельницы скрипят, а в Фатбурене будто суп варят. Вся гниль поднимается со дна. Вонь такая, что народ убегает, сломя голову. Вы знаете Сёдер, Кардель?
– Немного знаю… все, что видно из окон трактиров, изучил досконально.
– Этого мало, Кардель, этого мало! Я вам расскажу… Это убежище всякого ворья. Все воры. Если не все, то каждый второй. Дети учатся воровать с колыбели, начинают, так сказать, победный марш к позорному столбу или, еще того чище, – к виселице. Вчера какой-то тип читал в кабаке «Стокгольмс-Постен». Вслух. Я хохотал от души. Какой-то писака под именем «Друг порядка» возмущается ночными бабочками на Стадсхольмене: дескать, продаются за несколько шиллингов. Мы животы надорвали от смеха – господам, видно, деньги девать некуда. Здесь, через мост, за полцены делай что хочешь. Совсем девчонки, и кто постарше, и мальчуганы – выбирай не хочу.
Белые каменные дома торговцев и богатых ремесленников, где разместилось сразу несколько поколений, а рядом – деревянные лачуги. Городская управа уже много лет пытается их снести. Деревянные, теснящиеся друг к другу хибары – если начнется пожар, выгорит весь район. Тут и там вывороченные булыжники: улицы вымощены неумело, и камни покидают насиженное место не только под колесами экипажей, но и под сапогами пьяных солдат.
У колодца при церкви Марии они остановились попить воды.
Кардель отпил глоток и поморщился. Стуббен радостно хохотнул:
– Море, Кардель, море! Море у Слюссена ищет, куда бы просочиться, вот и до колодца добралось. Отсюда и вкус. Многие перепортили свои пунши – не попробовали сначала водичку.
Стуббен показывает дома, делится сплетнями об обитателях, стучится в двери и ставни и кивает Карделю – задавайте, мол, свои вопросы.
Кардель спрашивает, опять спрашивает – без всякого проку. Ответы уклончивы и робки. Люди приучены бояться начальства. Если у тебя, не дай бог, нет справки от работодателя, могут поволочь на принудительные работы или в тот же Прядильный дом. Никто ничего не видел – с детства усвоенная мудрость. Не вижу, не слышу, не знаю.
Через пару часов Кардель начинает терять терпение. Неужели нельзя получить прямой ответ на самый простой вопрос?
– А что вы ожидали, Кардель? Предлагаю пойти перекусить.
Они спустились к Русскому подворью, где купец-московит пытался перекричать уличный шум на своем тарабарском языке. В кабачке «Пеликан», в двух шагах от Слюссена, им подали жареную селедку с репой, по кружке пива и по стаканчику шнапса. Народу в кабаке полно, люди сидят локоть к локтю. Бродят знакомые дрожжи недовольства. То и дела поминают недобрым словом герцога Карла и барона Ройтерхольма. Денег нет, государством управляют неправильно, повсюду мздоимство, срочно нужны перемены…
– Могу я спросить, Микель Кардель? Если вы, конечно, ничего против не имеете… Чем вы занимаетесь? Неужели в этом городе совсем уже нечего делать? Я много слышал о Сесиле Винге, могу вам сказать. И не только слышал, я его видел, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить: что-то с ним не так. Тело, конечно, еще шевелится, но жизни в нем уже нет. Словно из могилы сбежал. Как хотите, но, по моему разумению, против природы – этак цепляться за жизнь. Судьбу не переломишь, Кардель, судьбе надо подчиняться. А вы, Кардель? Настоящий мужик, плоть и кровь, еще не старый – вся жизнь перед вами! Что вас понесло тратить время на это безнадежное дело?
Кардель привык. В нем так долго бродит и кипит ярость, что каждый подобный случай – упражнение в умении ее сдерживать. Желание в очередной раз расплющить нос этому Стуббену было так сильно, что он немалым усилием воли заставил себя отвернуться и посмотреть в окно.
– Безнадежное или нет – время покажет, – сказал он. – Господину Стуббе придется поверить на слово – у моих дверей не выстроилась очередь богатых благодетелей. Может, вы сами на что-то обратили внимание той ночью?
Хенрик Стуббе допил пиво, подумал и неожиданно хохотнул:
– Да… скажу вам, господин Кардель, вот что: странная была ночь. Я проснулся, отлить захотел – с возрастом, знаете, все чаще и чаще по ночам просыпаешься по нужде. Посмотрел – горшок полон. Думаю, добавлю – и наводнение. Вышел во двор. Стою, значит, занимаюсь своим делом. Пока глаза к темноте не привыкли, ничего такого не замечал. Потом смотрю – что за черт?.. Где я стою? Дом, что ли, ночью переехал? Пошел посмотреть. Так и иду, с шалуном в руке, и натыкаюсь на какую-то штуковину. Твердая. Но все равно ни черта не вижу. Сходил за фонарем. Подхожу – стоит. Портшез, Кардель. Крытые носилки. С окошками, гардинами, одна только жердь сломана. В нынешние времена! И раньше ко мне посетители в портшезах не являлись. Кого-то, думаю, принесли на мой прибор полюбоваться. – Стуббе сделал паузу и засмеялся, как бы приглашая Карделя оценить шутку. – Оказалось, пустой. Сломанный к тому же. И никого рядом. Ладно, думаю, пусть до утра постоит. А утром выхожу – его и след простыл. И слава богу, думаю, а то малышня со всей округи сбежится. А не то какой-нибудь бродяга поселится. Да и загадки никакой нет. Наверняка сломался этот чертов портшез, хозяин пошел пешком, а слуги с инструментом явились попозже, починили кое-как и отволокли в усадьбу.
– Ночью? А как он выглядел?
– Зеленый. С золотыми вставочками. Дорогая штука, а я на нее поссал. Дорогая, но сильно пользованная. Нечему удивляться – сейчас их и не увидишь, не то что раньше.
– А кто-то еще его видел?
– Кому бы это? У меня, Кардель, никакого желания нет делить с кем-то мое одиночество. Мне оно по душе. Но я тот же самый вопрос задавал некоторым соседям. Из любопытства, только из любопытства. Подумал – можно ведь продать этот портшез или по крайней мере в ломбард заложить. Но никто ничего не видел.
– От одного к другому… А что господин Стуббе делает помимо своей должности квартального комиссара?
– Похмелье – не единственное последствие перегонного, Кардель. Я приторговываю суслом. – Он уловил в глазах Карделя непонимание и пояснил: – Когда брагу перегоняют, остается жижа. Сусло. Мне винокурни отдают его бесплатно, а я продаю на хутора. Не только винокурни – и те, кто дома гонит, все, кто всерьез занимается этим делом, рады от сусла избавиться. Карделю я бы не порекомендовал угоститься, но поросята, куры и гуси – с большим удовольствием. Только подкладывай.
– Я канонир, Стуббе. Взрывы и выстрелы сделали свое дело. Стоишь рядом с тридцатишестифунтовым орудием, пли! – и будто тебе по морде заехали. Но вы, Стуббе, порядочный гражданин с неповрежденными, как у меня, мозгами – вы, надеюсь, можете мне помочь отгадать загадку? Может ли господин Стуббе дать ответ на вопрос: если вы решили возить по городу труп, что вам для этого нужно?
Стуббе наморщил лоб и пожевал нижнюю губу.
– Ну… думаю, любой крытый экипаж подойдет.
Кардель склонил голову набок и посмотрел на собеседника.
– Крытый – да. Но экипаж? Копыта грохочут по мостовой, колеса скрипят… любой таможенник остановит и проверит. Даже в границах города.
– Кардель имеет в виду тихий и незаметный экипаж? Не знаю таких.
– А разве не вы сказали, что нашли у себя во дворе крытые носилки, которые потом исчезли? Причем ваш дом совсем близко от озера.
– Носилки? Не хотите ли вы сказать, что труп могли перенести в каком-то портшезе?
– Не в каком-то, капустная вы голова. Именно в том самом, который стоял у вас во дворе. И вы протаскали меня по всему Сёдермальму, когда ответ на вопрос пару часов простоял у вашей двери. Единственное утешение, что вы устали от этой идиотской прогулки еще больше, чем я. Они принесли труп в этом чертовом портшезе, в мешке, но по дороге назад носилки сломались, и они оставили их в первой попавшейся подворотне, чтобы как можно быстрее вернуться с запасной жердью и забрать улику. Думаю, этот портшез и сейчас стоит в какой-нибудь столярной или каретной мастерской. А теперь слушайте меня, господин Пенек. Если вы хотите сохранить свою должность, вы сейчас же побежите домой и расспросите всех, а ваших соседей в особенности. От стариков до грудных детей – всех. Может быть, кто-то видел портшез и способен описать его получше. Или видел, как его забирали. Я хочу знать ответ еще до того, как появятся фонарщики.
По дороге назад взволнованный Кардель разговаривал сам с собой, прислушиваясь к непрекращающемуся бурлению Стрёммена.
– Я держу тебя за ворот, Карл Юхан, и на этот раз не упущу. Осталось только найти зеленый портшез с золотыми вставками и новой жердью.
Он посмотрел на башню церкви Святой Марии, так и не заслужившую новый шпиль, и добавил:
– И маленько обоссанный.
10
Весь день Винге посвятил хлопковым тканям. Торговцы словно соревновались в нежелании отвечать на вопросы, не касающиеся их собственных товаров. Наконец, кто-то нехотя сообщил – скорее всего, товар английского купца, который то ли уже отбыл из Швеции, то ли не отбыл – сказать трудно. В какой гавани зачален его корабль, тоже никто не знал. Единственный выход – искать в портовом таможенном регистре.
В доме таможни – бурлящий хаос товаров, экзотических нарядов и языков. Чиновники снуют во всех направлениях, их сопровождают писцы с карандашами и толстыми журналами. Купцы и капитаны спорят с чиновниками, выторговывают таможенные скидки, кто-то яростно, чуть не до драки, утверждает, что весы неправильные, что это нарочно устроил таможенник, тот самый, которому на помощь уже спешат стражники. Те, кого не хотят выслушать, поднимают голос до крика. У Винге разболелась голова. В конце концов ему удалось всучить риксдалер одному из служащих, и тот показал ему списки кораблей. «Софи», корабль Ост-Индской компании, порт приписки Саутгемптон. Стоит у пирса в квартале «Орфей», недалеко от Дворцового взвоза. Должен был уже покинуть Швецию, но пока не покинул – ждет подходящего ветра.
Винге вышел из таможни уже в сумерках и поспешил на пирс. Корабельная набережная все еще носит следы лошадиной ярмарки – тут и там валяются яблоки конского помета. Он с тревогой посмотрел на горизонт – слава богу, ни одного паруса. Значит, ни один корабль еще не покинул Стокгольмский порт. Не удивительно – слишком поздно. Ночью провести корабль по лабиринту стокгольмских шхер мало кому удавалось, а сейчас к тому же полный штиль. Разноцветные вымпелы бессильно повисли на топах мачт.
Опять чувство песка в гортани – бесконечные разговоры на таможне, холодный влажный воздух. А в ребро точно вонзили вязальную спицу.
Пришлось убавить шаг и все больше довериться трости. Ее изящный серебряный набалдашник с мрачной издевкой напоминал, что когда-то эта трость служила украшением, а не опорой.
Винге с облегчением прочитал название на носу довольно большой торговой бригантины. «Софи». Пришвартована правым бортом к пирсу, типично английской постройки: фок-мачта выше грот-мачты. На шведских кораблях наоборот. Жизнь в порту замерла – грузчики и рабочие разошлись по домам, праздная публика – по кофейням и кабачкам, а моряки двинулись искать развлечений в узких переулках города.
Он прошел по шатким сходням на судно и удивился – как умудряются грузчики бегать с тяжелыми мешками по такому узкому трапу? На палубе пусто, только какой-то средних лет моряк сосредоточенно пакует свинцовый лот в темный деревянный сундучок.
– Джозеф Сэтчер?
Моряк ответил по-французски. Небольшого роста, широкоплечий. Моряцкий непромокаемый плащ, треуголка, грубые, устойчивые сапоги. Большая, не особо ухоженная борода.
– Не Сэтчер, а Тэтчер. Малопригодная для торговли со Швецией фамилия, как, впрочем, и мои товары. Вы, наверное, не говорите на моем языке.
У Винге безукоризненный французский, вполне приличный немецкий, он понимает греческий и свободно читает на латыни, но английский… Тэтчер понимающе кивнул:
– Мой шведский тоже оставляет желать лучшего. Тогда французский. Насколько я понял, вы ищете именно меня. Позвольте узнать, по какому поводу?
– Меня зовут Сесил Винге. Мне сказали, что вы главный авторитет по части хлопковых тканей. – Он протянул Тэтчеру сверток.
Тэтчер присел на сундук и жестом пригласил Винге присесть на банку рядом с трюмным люком.
Молча пощупал ткань и покачал головой:
– Мои пальчики уже немало поведали про вашу тряпку… хотя лучше сходить за фонарем. Но сначала хотелось бы узнать причину вашего интереса.
– В ткань, которую вы держите в руках, был завернут изуродованный труп утопленника, и я пытаюсь раскрыть это преступление.
Тэтчер внимательно посмотрел на Винге. Ушел, почти сразу вернулся с зажженным фонарем и долго изучал ткань. Винге не произнес ни слова.
Купец вытащил простенькую деревянную трубку и раскурил ее от фонаря.
– Скажите мне, господин Винге, знакомо вам выражение Homo homini lupus est?
– Слова Плавта17 о Пунической войне: человек человеку волк.
– Да? Не знал… Извините простого купца, у которого не было возможности получить классическое образование. Я-то вычитал у Вольтера, но, если вдуматься в содержание… да, скорее всего, сказано намного раньше. А как считает господин Винге? Мы и вправду волки? Только и ждем неверного движения, чтобы перегрызть друг другу глотки?
– У нас есть законы и установления, призванные подавлять такого рода желания.
Тэтчер как раз в эту секунду выпустил внушительное облако дыма и поперхнулся горьким смехом.
– «Законы и установления»… Законы и установления не работают. Перед вами великолепный пример, Винге. Ваша страна – банкрот. И, если бы почта работала получше, меня бы предупредили, и я, возможно, избежал бы разорения. Здесь никто даже не спросил, что я привез на продажу. Чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, распродал все себе в убыток. К убытку приплюсуйте жадные лапы таможенников, к которым прилипло немало дукатов. И конкурентов. И кредиторов, с которыми нечем расплатиться. Мне конец, господин Винге. Вы заметили, чем я был занят, когда вы объявились?
– Да. Заметил. Вы укладывали лот в какой-то сундучок, возможно, кассовый ларец.
– Тогда вы, возможно, сумеете догадаться о причине такой странной прихоти?
Винге кивнул и опустил глаза. Странно, подумал он. Неужели смерть имеет какой-то особый, только ей присущий запах? Или еще какое-то неопределимое свойство? Иначе почему он так ясно ощущает ее присутствие? Результат ли это работы, которой он занимается, или его плачевного состояния?
– Вы собираетесь бросить ларец за борт. А поскольку деньги и ценные бумаги часто можно приравнять к жизни человека, посвятившего себя их обороту… Поскольку вы как раз из таких людей, предполагаю, что ларец пойдет на дно в ваших объятиях. А свинцовый лот вы положили, чтобы сократить мучения.
Тэтчер выпустил красивое, медленно изменяющее форму кольцо дыма. Ветер, весь день прятавшийся в засаде, словно ждал этого момента: подхватил сизую восьмерку, растерзал на клочки и тут же замер.
– За груз я отвечаю один. Все мое имущество заложено. Господа, которые вложили деньги в мое предприятие в надежде на проценты, как я уже говорил, перегрызут мне глотку. Если я вернусь, у меня отберут все. И зачем мне возвращаться? Того же результата можно достичь, не покидая Стокгольма. Я избегаю утомительного плавания, к тому же укорачиваю путешествие – от полутысячи морских миль до двадцати футов под килем. И заметьте: беру с собой все бумаги, чем серьезно уменьшаю шансы, что мои долги перейдут по наследству.
Тэтчер попыхтел трубкой, а когда поднял глаза на Винге, во взгляде мелькнула недобрая искорка, заметная даже сквозь облако табачного дыма.
– И с какой стати я должен вам помогать? Вы считаете, что это лучший способ распрощаться с жизнью – помочь поймать волка, который оказался проворнее других? Если бы я сам был настоящим волком, я бы не отсчитывал сейчас последние минуты жизни. А вы, господин Винге? Вы что за волк? Или вы охотник?
– Боюсь, я вообще не волк. Я занимаюсь этим делом вовсе не для того, чтобы утолить жажду крови. Но я все равно раскрою это преступление, с вашей помощью или без вашей помощи.
Тэтчера внезапно передернуло, и он сложил руки на груди, будто пытался согреться. Трубка так и осталась висеть в углу рта. Человек на полпути в иной мир.
– Вы противоестественно худы, господин Винге. Худы и бледны. Чего вам не хватает?
– Двух исправно работающих легких. У меня чахотка. Не думаю, что надолго вас переживу.
Тэтчер внезапно захохотал. Винге вздрогнул. Его испугал даже не смех, а зловещее эхо, прокатившееся по зеркальной, ртутно светящейся в полумраке глади моря.
– Что ж вы сразу не сказали? Кому и держаться вместе, как не тем, кто собрался вот-вот отдать Богу душу! И кое-чем я могу вам помочь. Потому что ткань, которую вы мне показали, возможно, и впрямь содержит тайну, которую вы надеетесь разгадать.
Он знаком показал Винге, чтобы тот подошел поближе, развернул покрывало и поднес к свету фонаря.
– Смотрите внимательно. Тонкий хлопок сложен вдвое и сшит. Шов… видите шов по короткой стороне? Ткань сшивали наизнанку. А вот здесь шов разошелся…
Тэтчер просунул в дыру кулак и нанизал на руку все покрывало. Нащупал противоположный конец, ухватил и вывернул, как мешок.
– Смотрите! Такое не каждый день увидишь.
Вдоль ткани шел фриз с шитым золотом рисунком. Золотое шитье сверкало, будто и не побывало в грязной воде Фатбурена. Мотивом фриза служили сплетенные мужские и женские фигуры. Двое мужчин и две женщины. У мужчин – огромные, достающие чуть не до солнечного сплетения фаллосы, у женщин – столь же неестественно огромные груди. Искаженные страстью лица. Искусное изображение шаловливого квартета повторялось многократно, по всей ширине ткани.
– Как знаток, могу сказать, что и шитье, и сама ткань наивысшего возможного качества. Настоящий сатин. Хотя должен признаться: у меня есть подозрение, что художник позволил себе некоторую анатомическую свободу, реализовал, так сказать, свою сокровенную эротическую мечту. Не думаю, что ему послужили живые модели. Впрочем, какое значение это имеет теперь? Мои собственные достижения в этой области я уже не превзойду. А во всем остальном – надежда на детей, но сомневаюсь… Беда в том, что я старался воспитать из них хороших людей… Наивный идиот. Они станут такой же легкой добычей, как и их отец.
Тэтчер начал выковыривать остатки табака из трубки, но передумал и выбросил ее за борт. Поднялся и открыл крышку сундучка, где тяжелый свинцовый лот лежал поверх кипы бумаг. Там еще оставалось место.
– Если господин Винге меня извинит, я должен кое-что упаковать перед путешествием. Я показал вам след, думаю, вы его не потеряете. Он приведет вас к добыче… О, как изменилось ваше лицо! Ну нет, господин Винге, вы меня не обманете. Конечно же, вы волк, а волк всегда остается волком. Неужели я не распознаю волка? Стольких навидался… А если вы еще не волк, так скоро им будете. Бегать с волками, не зная правил стаи, невозможно. У вас и клыки есть, и волчий блеск в глазах. В один прекрасный день будете стоять над жертвой с окровавленными зубами – и тогда, прошу вас, вспомните, насколько я был прав. И может оказаться, что вы еще и пострашнее других волков. Волк из волков… С этими словами позвольте пожелать вам доброй ночи, господин Винге.
11
Кардель проснулся в холодном поту. Солома в матрасе исколола спину, а тело чесалось от укусов бесчисленных клопов. За дощатой перегородкой заплакал младенец, и тут же откликнулся его ровесник, где-то подальше, в другом конце доходного дома. Накануне он изрядно отпраздновал свое хитроумие и догадливость касательно носилок Стуббена, и теперь его мучило похмелье. Мочевой пузырь изготовился лопнуть. Он встал и обнаружил, что уснул в одежде. Ругаясь на чем свет стоит, лихорадочно расшнуровал брюки и в последнюю секунду успел к горшку.
Его заметно покачивало. Кардель открыл окно и заученным движением выплеснул содержимое горшка во двор.
Серые низкие облака, размытый, почти призрачный силуэт церкви у дворца. Можно попробовать различить циферблат на часах. Он присмотрелся: начало десятого. От глазного усилия еще сильнее разболелась голова.
Нужно срочно опохмелиться.
На общей кухне, прямо за дверью его каморки, которую он снял полгода назад, женщины варили кашу. Имен их он не помнил, но на всякий случай поздоровался, напился колодезной воды из ведра и вышел в свой Гусиный переулок. Путь известный – на Сёдермальмскую площадь, где у него пока еще был кредит. По привычке задержал дыхание, проходя мимо свалки на Зерновой площади, которую горожане называли Мушиным парламентом. В Красном шлюзе затвор открыт – пропускают небольшую шхуну в Меларен. При таком ветре – не меньше часа. Попасть на Сёдер можно только через недавно построенный временный мостик, который уже окрестили Голубым. Городское население почти им не пользовалось – он выглядел по сравнению с массивной конструкцией Полхемского шлюза таким хлипким, что доверия не вызывал. Почти все предпочитали подождать, чем рисковать жизнью на этих стрекозиных мосточках. Но не Кардель. Сам не знал, почему: то ли он храбрее других, то ли ни в грош не ценит свою жизнь.
Что-то происходит. Толпа на Сёдермальмской площади – не протолкнуться. Его проволокло прочь от заветного кабачка до самого «Гамбурга». Теперь понятно – день казни. Зеваки пробиваются вперед – для них нет большего удовольствия, чем плевать на осужденного, кривляться и выкрикивать ругательства.
Скоро сюда прибудет тюремная повозка – осужденный по закону имеет право на последний в жизни стакан перегонного вина.
И Кардель не хуже, он тоже имеет право. Перехватил стаканчик в ближайшем трактире и двинулся по Йотгатан к Сканстулу, где высилась старинная крепость, а за ней – холм Хаммарбю, на вершине которого угадывались зловещие контуры виселицы на фоне свинцово-серого неба: поставленные треугольником каменные столбы, соединенные бревенчатыми перекладинами.
Стражники образовали живой забор и оттесняют дубовыми жердями толпу от помоста, где уже стоит глашатай, готовый зачитать приговор. Виселица сегодня не нужна: казнят не вора, а женоубийцу.
Телега с преступником долго не появлялась. О ее приближении известили восторженными воплями уличные мальчишки – они прыгали вокруг повозки и швыряли в преступника чем ни попадя. Молодой парень, наверное, и двадцати нет. Задушил свою нареченную: поспорили, что делать с украденной курицей. Жених хотел немедленно утолить голод, а невеста пожелала сохранить курицу ради яиц.
Повозка остановилась. Преступника провели на огражденный палисадом эшафот. Его тут же начала бить крупная дрожь, левая штанина потемнела. Зрители ликовали. Две знакомые Карделю проститутки выкрикивали что-то малопристойное насчет мужских достоинств несчастного, рядом с ними гнусаво похохатывал какой-то тип со съеденным французской болезнью носом. Глашатай прочитал приговор, сошел с помоста и пошел прочь, старательно обходя грязные лужи.
Внезапно гомон смолк, и словно знобкий ветерок прошел по толпе: из будки вышел палач. Его имя знали все: Мортен Хёсс. К нему относились со смешанным чувством уважения и презрения, но в популярности ему не откажешь. Капюшон, непременный атрибут ремесла, он никогда не накидывал на голову, носил на шее. Как правило, его коллеги по профессии стараются скрыть лицо, но не Мортен. С чего бы Мортену стыдиться своего ремесла? Лицо как лицо: морщины, темные, ничего не выражающие глаза. Он и сам приговорен к смерти – спьяну раздробил челюсть собутыльнику пивной кружкой, в результате чего тот умер от заражения крови. Но, на счастье Мортена, в то время в городе не было палача, и ему предложили отсрочку, если он сгласится занять должность. Так что каждый удар топора приближал его собственный конец: руки дрожали все сильнее, а сам он выходил на помост все пьянее – иной раз еле держался на ногах.
Ходили слухи, что Хёсс пытался покончить с собой трижды. Дважды пробовал утопиться в заливе, а потом решил пить как можно больше крепкого: тогда, глядишь, умрет своей смертью и избежит топора. Такой способ самоубийства принес ему дополнительную популярность: пьяный палач – чем не развлечение для черни?
Охрана расступается и пропускает палача на эшафот. Хёсс пытается отвесить публике преувеличенно глубокий поклон и чуть не падает – он опять вдребезги пьян. Энтузиазм зрителей заражает и его. Мастер Хёсс – черни тоже свойственна ирония; такое прозвище он получил с намеком на его пьяную неуклюжесть. Мастер Хёсс берет топор у подмастерья и крутит им в воздухе. Потом, вроде бы поскользнувшись, нелепо взмахивает руками, и обух топора хорошо если на пару дюймов минует голову одного из его помощников. Помощники переглядываются. Им вовсе не хочется стать жертвами пьяного кривлянья горе-палача.
Наконец, выкатили плаху – толстый, кое-где подгнивший пень, в трещинах и темных пятнах. Осужденного силой заставляют положить голову, подмастерье ставит ногу ему на спину, а другой приматывает к колоде правую руку. Сначала полагается отрубить кисть руки, чтобы осужденный, упаси Бог, не покинул этот мир без страданий.
Палач занимает свое место и поднимает топор.
– Отхвати ему сначала… – пользуясь внезапной тишиной, выкрикивает визгливый женский голос в задних рядах, но шутницу тут же окорачивают.
Палач с ревом опускает топор, останавливает его в футе от дергающейся руки обреченного, гордо оборачивается на толпу – дескать, поглядите, где вы еще найдете такого виртуоза, – и под одобрительное гудение толпы повторяет трюк еще два раза.
Он горд собой – настоящий артист.
Приговоренный начинает плакать. Его уже никто не держит, да он и не пытается вырваться. Тихо всхлипывает, вздрагивая всем телом.
Палач еле держится на ногах, но понимает: если не приведет приговор в исполнение, ему несдобровать. Плач осужденного переходит в вой, такой тоскливый и безнадежный, что даже возбужденная публика притихла. Все уже ждут конца. Представление окончено. Пора приступать к делу.
Подмастерье вновь наступает казнимому на спину. Хёсс, поплевав на руки, поднимает топор и с глухим выдохом опускает. Подмастерье поднимает отрубленную кисть и швыряет в толпу – есть поверье, что отрубленные на плахе пальцы приносят счастье, особенно большой палец. Говорят, большой палец избавляет от неприятностей с правосудием, а воры, во-первых, суеверны, а во-вторых, в публике их предостаточно. Но и другие пальцы в цене. Уличный мальчишка, которому посчастливится отстоять руку от конкурентов, сегодня же разделает ее на пальцы и продаст по одному.
Мастер Хёсс делает шаг вперед для решающего удара. Паренек на эшафоте кажется еще моложе, чем на самом деле; совсем ребенок. Он хрипит что-то, но в голосе уже нет ничего человеческого, хрип этот из другого мира. Эхо из чистилища, скрытого от глаз живущих непроницаемым занавесом вечности.
Не сразу, не сразу удается мастеру Хёссу отделить голову от тела. Первый удар приходится по лопатке, вторым он ухитрился отрубить ухо, и уже нельзя понять, рыдает палач или смеется, когда с каждым ударом топора выкрикивает:
– Тебе в наказание, другим в назидание! Тебе в наказание, другим в назидание!
Лишь после пятого удара умолкают оба голоса – и осужденного, и палача.
Единое мнение знатоков и ценителей: никогда еще мастер Хёсс так не позорился. Мог бы и не напиваться до чертиков, хотя бы из уважения к своей работе; теперь только вопрос времени, когда найдется палач половчее и самого Хёсса поволокут на плаху.
Подмастерья палача перевернули обезглавленный труп на спину и опустили голову: надо дать стечь крови, чтобы не запачкаться, когда они будут переносить тело в уже вырытую рядом с эшафотом могилу. Старухи, толкаясь, бросились собирать вытекающую кровь. Некоторые черпали прямо с земли из быстро растекающейся лужи. Давно известно: кровь казненного – лучшее средство от падучей.
Микель Кардель отвернулся и на холмике рядом с дорогой увидел узкий силуэт в черном одеянии. Сесил Винге. Неожиданная встреча застала его врасплох, он не сразу решил, подходить или нет. Стоял и наблюдал. Невозмутимое бледное лицо, никаких признаков, что все происходящее как-то его затронуло. Лишь подойдя поближе, он заметил, как побелели костяшки пальцев на дрожащей руке, судорожно сжимающей серебряный набалдашник трости.
Винге был настолько погружен в свои мысли, что заметил Карделя, только когда тот подошел совсем близко и встал рядом. Начал моросить дождь.
– Добрый день, Жан Мишель. Вот уже год и один день прошел, как я в последний раз видел казнь. Пришел посмотреть, как вершится правосудие. И знаете, что натолкнуло меня на эту мысль? Убийство, Жан Мишель. Убийство, которое мы с вами пытаемся разгадать. Если нам это удастся, преступника ждет именно такая участь.
– И?..
– Что значит – «и»?.. Я не вижу логики в том, что государство лишает жизни своих граждан, причем таким зверским способом. И главный мой аргумент заключается вот в чем: суд не хочет вникнуть и понять, почему совершено то или иное преступление. Суд интересует только сам факт. И как мы можем рассчитывать помешать завтрашним преступлениям, если не понимаем сегодняшних? Ответ прост, Жан Мишель: эта простая мысль никогда не приходила в голову ответственным за правосудие чиновникам. Они уверены, что важно судить и наказывать, и на этом их миссия заканчивается. Многие из моих подследственных тоже закончили жизнь на виселице или на плахе. Единственное утешение: ни один… я обращаю ваше внимание, Жан Мишель: ни один из них не был посажен на повозку не выслушанным. Я прикладывал все силы, чтобы каждый мог оправдаться и, если он невиновен, доказать свою невиновность в суде. Или несчастный должен хотя бы понять, в чем заключается его преступление… Знаете, Жан Мишель, я убежден: когда-нибудь настанут времена, когда не обвиняемый должен будет доказывать свою невиновность, а наоборот. Суд должен доказать виновность.
– Толпу не убедишь, как ни старайтесь. Если люди перестанут бояться топора и веревки, завтра же заполыхает весь Стокгольм.
Винге не стал возражать – ждал продолжения.
– Встреча с квартальным комиссаром Стуббе кое-что дала. – Кардель старался говорить как можно равнодушнее, не показывать гордости за свое открытие. – Расскажу, когда узнаю побольше, но кое-что могу сообщить уже сейчас: ищу зеленый портшез, в котором Карл Юхан совершил последнее путешествие.
Они отвернулись, чтобы не смотреть на женщин, возящихся в красной жиже. Тело казненного уже бросили в могилу. Винге медленно, опираясь на трость, пошел к Сканстулу.