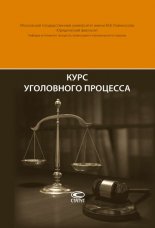1793. История одного убийства Натт-о-Даг Никлас
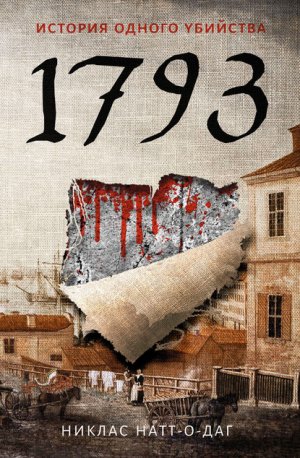
Он заговорил, только когда они спустились с холма:
– Вы рассказали мне довольно подробно про короля Густава и про войну, Жан Мишель. И нельзя было не заметить вашей горечи: война и в самом деле нелепое предприятие. Вы были искренни со мной, и я хочу ответить вам тем же. Поэтому расскажу то, что мало кто знает, но тем не менее это чистая правда. Вам сказали, что я оставил жену, чтобы избавить ее от муки смотреть на мои страдания?
Кардель молча кивнул и опустил голову. Его почему-то смутила внезапная откровенность.
– По мере того как усиливался кашель, я чувствовал себя все хуже. Сильно похудел, постоянный упадок сил… у меня уже не было ничего, что я мог бы ей предложить, в том числе даже исполнение прямых супружеских обязанностей.
Хриплый, монотонный голос, без всякого чувства, точно по обязанности читает Священное Писание. Но Кардель сразу почувствовал, какой ценой дается Винге это спокойствие. Точно грозовое облако повисло в воздухе.
– Я, конечно, понимал, что происходит. Несколько лет следственной работы даром не прошли. Я научился распознавать малейшие признаки лжи. То в доме появлялись незнакомые мелочи, то она уходила навестить друзей, которых, как я потом понял, так и не навестила… Но самое главное: она выглядела счастливой. Щеки порозовели, в глазах появился блеск. В ее прекрасных глазах, в которых я раньше читал только одно: свой смертный приговор.
Винге остановился и повернулся к Карделю. Иссиня-белое, точно парализованное лицо – без малейших следов гнева или сожаления.
– Впервые за много месяцев передо мной была не убитая горем женщина, а та юная особа, в которую я когда-то влюбился без памяти, – сказал он и замолчал, словно пытался вызвать в памяти лицо молодой девушки, в те далекие времена поразившей его воображение.
– Я их застал в конце концов… – Углы губ чуть дрогнули в горькой усмешке. – На месте преступления. Не хотел заставать, а застал. Кашель мешал мне услышать стоны любовных восторгов, и наоборот: за своими стонами они не слышали мой кашель. Молодой офицер, со шпагой и аксельбантами, черными усиками и радужным будущим. Но я ее не винил. Переехал к Роселиусу и больше ее не видел.
Кардель открыл было рот, чтобы посочувствовать, но Винге предупреждающе поднял руку и некоторое время смотрел на воду залива, взъерошенную неизвестно откуда налетевшим ветром.
– Вам ничего не надо говорить, Жан Мишель. Помните, вы сами сказали при нашей первой встрече, что в соболезнованиях не нуждаетесь. Мое доверие – вовсе не приглашение к дружбе. Я рассказал вам потому, что уверен: взаимное доверие поможет делу, которым мы с вами занялись. Надо знать слабости и сильные стороны друг друга. Вот и все. Мне не нужны ни соболезнования, ни утешения. И не вздумайте считать себя моим другом, Жан Мишель. Мне слишком мало времени отпущено для дружбы, а вашей единственной наградой будет скорбь.
Они расстались у будки таможенника – Винге окликнул извозчика.
– Встретимся завтра в девять утра в «Малой Бирже». Вы сделали весьма многообещающую находку, Жан Мишель. Я имею в виду портшез. И у меня тоже есть кое-какие дела. Надежда на отмщение горькой судьбы Карла Юхана постепенно обретает форму.
12
Портшезы не просто не в моде, они почти исчезли – к этому выводу Кардель пришел через несколько часов. Он-то решил, что главное уже сделано, и найти зеленый портшез труда не составит. Так бы оно и было, если бы не одно «но»: у носильщиков портшезов не было никакой организации. Ни цеха, ни старейшин. Портшезы, которые в его детстве попадались на каждом шагу, попросту исчезли с улиц. Либо улетучились в небо, сгорев в изразцовых печах, либо куплены за бесценок какими-то оригиналами в надежде найти применение. Он видел таких чудаков: они топтались кое-где на углах, безнадежно дожидаясь седоков.
Настойчивые расспросы привели его в конюшню в Барнэнген, в предместье Катарина, но и там он ничего путного не узнал. Бородатый хозяин стойла в парике из конского волоса беспрерывно нюхал табак и смачно, с долгой прелюдией, чихал, при этом ругая на чем свет стоит все новомодные веяния, которые он не без изящества определил как «зловонный дух времени». Когда век был помоложе, сказал хозяин стойла, прокатиться на красивом портшезе, влекомом двумя крепкими парнями, считалось почетным. Еще в семидесятые годы у него было самое малое два десятка портшезов. Но сейчас и трети не осталось, а цены на услуги носильщиков упали до вовсе мизерных. Раньше у них были на заказ сшитые ливреи, теперь же обходятся двухцветными черно-белыми шарфами. «Это цвета моей конюшни, – ответил хозяин на вопрос, не известен ли ему зеленый с золотом экипаж. – Черный и белый. И портшезы такие же. Черный узор на белом фоне. Раньше каждая собака знала. А про зеленый с золотом… нет, не слыхал».
Кардель ушел из Барнэнгена, так ничего и не узнав.
Ближе к вечеру появились фонарщики – кто со стремянками, кто с длинными жердями. Неспешно, один за другим, начали зажигаться уличные фонари. Повсюду чувствовался характерный запах горящего конопляного масла, хотя требования городской стражи к уличному освещению по мере удаления от Города между мостами становились заметно снисходительнее: можно было зажигать не все фонари, а через один или даже через два.
Пока Кардель добрался в богом забытый район поблизости от северной таможни на противоположном конце города, стало совсем темно. Он издалека учуял гнилостный запах – вода в озере с подходящим названием Болото пахла отвратительно, но все же не так, как в Фатбурене. Приток, хоть и ограниченный, свежей воды и заметно бльшие размеры позволяли озеру кое-как справляться с испражнениями и отбросами.
За Болотом уже не увидишь каменных домов – сплошные деревянные хижины и немощеные улицы. Ему сказали, что где-то здесь, в подворье около Кислого колодца, живет столяр, который все еще занимается ремонтом старых и даже изготовлением новых портшезов, несмотря на почти исчезнувший спрос.
Странно, но на улицах, несмотря на октябрьский ночной холод, попадаются люди. На крыльце одного из домишек сидит какой-то человек, а неподалеку еще один. Здоровенный, переминается с ноги на ногу, не может решить, на какую удобнее опираться. Будто ему кто-то запретил стоять сразу на обеих.
Тот, что сидел на ступеньках, так же широк в спине, как и Кардель, но потяжелее, с выпирающим пузом, испытывающим на прочность пуговицы на рубахе. Телосложение, сочетающее два противоположных свойства: грубую силу и лень. Круглая голова на такой короткой и толстой шее, что кажется посаженной прямо на плечи. Широкий рот с толстыми губами. Немного косоглазый. Жует табак и время от времени сплевывает в одну и ту же точку у крыльца. Ни разу не промахнулся. После очередного плевка он посмотрел на Карделя и помахал рукой.
Кардель ответил полупоклоном:
– Меня зовут Микель Кардель. Прошу прощения, что явился в такой поздний час. Я ищу столяра, мастера Фрийса.
– И вы его нашли. Это мое имя, и ничье больше. Садитесь, приятель. Угощайтесь. – Толстяк протянул кисет.
Кардель угощение принял, но остался стоять, время от времени переводя взгляд на фигуру у стены. Теперь видно получше. Настоящий гигант. Совсем молодой, но рядом с ним и столяр, и сам Кардель должны казаться гномами. К тому же, похоже, придурковат. Из скошенного рта стекает на подбородок поблескивающий ручеек слюны. Глаза, как у коровы, красивые и ничего не выражающие. Напоминает корову еще и потому, что на нем ошейник, другой конец которого привязан к перилам крыльца.
– Чем объяснить, что господин столяр в такую холодную ночь устроился на крыльце? – вежливо спросил Кардель.
– А разве вечерний воздух не бальзам для души? – ответил тот с плутовской усмешкой. При этом табачная слюна скопилась в уголках рта, да так там и осталась, когда он перестал улыбаться. – А вот что заставило вас в такой вечер переться сюда, аж за Болото, чтобы найти меня, мастера-столяра Питера де Фрийса?
– Я ищу портшез. Зеленый портшез со сломанной жердью. Уличный мальчишка видел, как его к вам несли. Недавно, дня четыре назад.
У толстяка на лбу появилась морщинка припоминания.
– О нет, уважаемый, ничего такого… Жалость-то какая… плелись сюда в такой холодный вечер, и в награду всего-то щепотка табака. Может, его к какому другому плотнику отнесли по соседству?
Кардель задумчиво кивнул:
– Никаких других плотников и столяров по соседству нет. К тому же ходят слухи, что столяр де Фрийс настоящий волшебник, но вот одна беда – понять его трудно. Он, говорят, приехал из Роттердама и не говорит по-шведски. И поэтому, не будь он таким искусным мастером, у него вообще бы не было заказов. А вы неплохо говорите по-шведски… не скажешь, что язык не родной.
Толстяк коротко хохотнул, тяжело встал, с хрустом потянулся и почистил брюки.
– Вот оно что… Ну что ж… Йонс Кулинг, то есть я, мастер не хуже, даже если его поймали на вранье.
– А это кто? – кивнул Кардель в сторону молодого гиганта, по-прежнему погруженного в таинственный мир лишенного рассудка человека.
– Мой брат Монс. Монс Кулинг. Ты, Кардель, наверняка заметил, что Монс немного не в себе. – Йонс Кулинг внезапно перешел на «ты», в голосе послышались доверительные интонации. – Но, понимаешь ли, наши родители не из большого города, как ты, к примеру. Маленькая деревня, где найти невесту? У отца женилка выросла, а вствить некому. Вот и женился на собственной сестре. Законы Господни нельзя нарушать безнаказанно, и наказание получило имя Монс. Он убил свою мать при родах: слишком уж был велик, акушерка глаза вытаращила – никогда, говорит, таких не видывала. Конечно, умником его не назовешь, но, если надо нести портшез, да еще с заду, где потяжелее, да еще несколько часов подряд, да еще не ныть при этом, – тогда Монс именно тот человек.
– А ты, значит, спереди? Угадал?
– Кардель как по книге читает. Поменялись бы – и мы и пассажир в канаве. Вот, значит, и сидим. Ждем у моря погоды. Мастер велел идти по домам и приходить завтра с утра пораньше, но мы побоялись оставить носилки без охраны. Дорогая штука. Тем более он намекнул: дескать, мы в последнее время не больно-то бойко работаем, а если кто придет и начнет расспрашивать про зеленый портшез, то нам и вовсе плохо придется. Если, конечно, сами на месте не решим задачу, Кардель думаю, понимает. И вот мы здесь: ты, я и Монс.
Он развязал веревку, вернее, поводок, привязанный к ошейнику Монса. Покрутил шеей, разминая одеревеневшие мышцы, и двинулся к Карделю, подняв пудовые кулаки. Годы беготни с тяжеленными носилками даром не прошли.
– Не стоило приходить вынюхивать, здесь тебе и конец. Иди-ка сюда, потанцуем. Поглядим, что ты можешь предложить.
Кардель отступил влево, чтобы видеть противника и не терять из виду Монса. Слабоумный гигант каким-то образом почувствовал изменения в настроении и начал прыгать на месте, выкрикивая непонятные слова. Его огромный мужской орган на глазах набух и теперь выпирал под штаниной, будто туда засунули всю руку. Увернувшись от атаки, Кардель нанес удар. Деревянный кулак въехал в правый бок Йонса Кулинга и заставил согнуться пополам. Гримаса удивления сменилась смехом, когда Йонс пощупал рукой под рубахой и увидел кровь.
– Черт бы тебя подрал, Кардель! Бок горит, как дно у чайника. Вот это кулачище!
– Обычная деревяшка, ничего особенного.
– Ай-яй-яй, Кардель… ты дерешься нечестно. Уж если махать кулаками, то по справедливости. Монс!
Гигант словно ждал команды. Он сорвался с места, бросился на Карделя и застал его врасплох. Микель не успел увернуться и упал под тяжестью огромного тела. Монс оседлал его и начал молотить кулаками. Хрустнул нос, лопнула бровь, кровь залила лицо. Подскочил Йонс и начал срывать удерживающие протез ремни. Деревянная рука выскользнула из рукава. Теперь он беззащитен. Кое-как уворачиваясь от ударов, он увидел, как Йонс нагнулся и прошептал что-то в ухо брату. Тот, как по команде, остановился.
– Хватит, хватит… хватит, малыш. Пусть господин Кардель поднимется и покажет, на что он способен без дубинки в запасе.
Кардель выплюнул кровь, проморгался и увидел, что Йонс Кулинг стоит над ним и издевательски ухмыляется. Отшвырнул протез к стене дома и плюнул на Карделя. Его брат возбужденно выкрикивал что-то нечленораздельное и облизывал окровавленные кулаки.
Высоко в ночном небе созвездия пустились в медленный хоровод. Кардель увидел, как пузырится кровь на губах Юхана Йельма, услышал хриплый монотонный голос Сесила Винге и глухую канонаду вдали, увидел жуткую беззубую улыбку на полуразложившихся губах Карла Юхана, колеблющееся пламя фонаря…
Он почувствовал, как наливается ненавистью и яростью его отрезанная рука, как дергает ее непонятная и требовательная боль.
Он встал.
– Ну что ж, сучье дерьмо, посмотрим…
13
Кондитерская Густава Адольфа Сундберга переехала на Железную площадь совсем недавно, но уже получила название «Малая Биржа». Сюда любили заходить буржуа с Корабельной набережной. Кое-кто пьет горячий шоколад из графинов, но большинство, как и Сесил Винге, предпочитают горький арабский кофе. Чашка за чашкой, тем более ходят слухи, что власти собираются вовсе запретить напиток. Кофе, считают власти, благоприятствует вольнодумству, фрондерству и наводит на мысли о терроре.
Но пока запрета не последовало, и сплетни цветут пышным цветом. Странное поведение пятнадцатилетнего принца Густава, потом у всех на слуху герцог Карл, по уши влюбившийся во фрейлину двора девицу Руденшёльд, а ее сердце между тем отдано предателю Армфельдту. Литератор Тумас Турильд, говорят, провозгласил в Любеке, что изгнание принесло ему бессмертие, которое могло бы осенить его и раньше, но язык его не имел необходимой свободы, потому что был занят вылизыванием государственно важной дырочки между ягодиц барона Ройтерхольма.
Винге постановил дожидаться Карделя не более часа. Но прошло уже полтора, его карманные часы показывали половину одиннадцатого, а Карделя все не было.
Винге прошел по кишащей уличными торговцами Вестерлонггатан до Гусиного переулка. Сапожник на углу усердно прилаживал новые подметки к кавалерийским сапогам.
– Этот безрукий пальт? Как же, как же…Снимает каморку у вдовы Пильман.
В подъезде носилась стайка детей. Изразцовые печи в доме еще не установлены, у камина на втором этаже желтушная девочка подбрасывала дрова. Она, оказывается, уже несколько дней никуда не выходит из-за лихорадки. Кардель, сказала она, ушел из дома вчера утром и больше не возвращался.
Винге, так ничего и не узнав, начал спускаться по лестнице.
– Если он не вернется и не заплатит за квартиру, фру Пильман его вышвырнет! – крикнула девочка вслед.
Он пошел к Большой площади. Выбрал путь подлиннее, чтобы поразмышлять. Без Карделя его возможности сильно ограничены. В задумчивости остановился у колодца. Дети и служанки, толкаясь, набирали воду в кувшины и ведра.
Постоял немного и двинулся к Дворцовому взвозу, к дому Индебету.
День уже начал клониться к вечеру, и в коридоре перед кабинетом полицеймейстера тени становились все длиннее и длиннее. По длине тени тоже можно вычислить время, ни с того ни с сего подумал Винге, только надо вносить много поправок. Встреча с газетчиками прошла бурно, и он даже через дверь чувствовал, что Норлин вне себя. Когда встреча закончилась, Норлин попросил Винге выйти вместе со всеми и звать обратно не спешил – должно быть, приходил в себя. Наконец из кабинета послышался голос. Дежурный полицейский с поклоном открыл дверь:
– Прошу вас.
Норлин сидел за столом, заваленным бумагами, поверх бумаг лежал его парик. Юхан Густав расстегнул две верхние пуговицы и положил руку на шею, точно ему было трудно дышать. Потер покрасневшие глаза.
– Мы недавно встречались… Ты же помнишь мои условия, Сесил? Как можно меньше шума вокруг этого дела? А что делаешь ты?! Врываешься с постыдными картинками на куске ткани! Неужели ты не видел, как этот сплетник Барфуд сидел в углу и строчил своим графитовым стерженьком.
– Я не просто его видел. Я его сам привел. Он спал с похмелья, но я его разбудил. Пообещал интересную историю для завтрашнего номера «Экстра Постен». Холмберг, издатель, будет в восторге.
Норлин спрятал лицо в ладони.
– В промежутках между длиннющими библейскими цитатами Барфуд строчит все что ему вздумается! А Холмберг печатает это в своей говновозке, которую кто-то по ошибке назвал газетой. Зачем ты это сделал, Сесил?
– Моего помощника, пальта по имени Кардель, по-видимому, вышибли из игры. Инстинкт подсказывает мне, что его убрали именно потому, что он слишком близко подошел к разгадке. Вывод: все мои надежды на этот кусок ткани. Дорогой сатин, наверняка принадлежал человеку состоятельному. Тот, кто раньше видел этот смелый мм… орнамент, вряд ли усомнится, если прочтет описание в газете. Как могут развиваться события далее? Если кто-то из влиятельных персон пожелает замолчать эту историю, обязательно обратится к тебе и потребует мою голову на блюде. А может быть, и твою. А ты, Юхан Густав, сообщишь мне имя этой влиятельной персоны.
– Ройтерхольм читает «Экстра Постен», как и все подобные листки. И он расценит это как еще одно доказательство, что я предпочитаю заниматься чем-то еще, кроме его прямых поручений. Он уже давно ищет повод, чтобы меня вышибить, – вот ты ему этот повод и дал. Ты подписал мой смертный приговор, Сесил.
– Если вспомнить, чего тебе стоил последний год… Думаю, все, что может сократить твое пребывание на этом посту, пойдет на пользу.
– Иди ты подальше, Сесил Винге… Мне надо было трижды подумать, прежде чем просить тебя заняться этим делом. Ты же готов пожертвовать всем и всеми ради своих высоких идеалов.
Запавшие глаза Винге блеснули.
– Верно, это ты просил меня помочь. И ты прав: тебе надо было три раза подумать. Может, даже не три, а тридцать три. Ты знал, с кем имеешь дело. И должен сказать, что поначалу взялся за эту историю исключительно из дружеской лояльности. Но теперь центр моей лояльности сместился. Теперь я лоялен убитому. Несколько дней назад я осматривал труп в крипте на кладбище. Позволь мне описать… Ты же не имел возможности его увидеть. Конечности отрублены, но не сразу, а по одной, и только после того, как более или менее зажила предыдущая. Они выжидали, чтобы рана закрылась, чтобы он был в состоянии перенести следующую пытку. Его держали где-то взаперти, привязанным к кушетке. Он пытался звать на помощь, но не мог, потому что они отрезали ему язык. Он хотел покончить жизнь самоубийством, но у него не было возможности даже перегрызть себе артерию: они выбили ему зубы и отрезали язык. И выкололи глаза. Представь себе эту картину, Юхан Густав. Беспомощность, одиночество и смертная тоска… ожидание, когда явятся твои мучители, чтобы отпилить очередную руку или ногу. Твердое сознание, что они обязательно явятся. Я найду тех, кто это сделал. И узнаю, почему. И ты дашь мне имя того, кто попытается заткнуть нам рот. Ты дашь мне это имя, как только его узнаешь. Ты будешь мне помогать, а не ныть про происки барона и свой собственный смертный приговор, который якобы подписал я. Ты называешь это смертью? Ты называешь смертью, что тебя вышибут с должности, которой ты сам тяготишься, если верить твоим же словам? И ты говоришь про смерть в моем присутствии… Тебе должно быть стыдно, Юхан.
Норлин потупил глаза. Он никогда не видел обычно невозмутимого Винге в такой ярости. Гнев ушел, его место занял стыд. Он вдруг мучительно захотел увидеть жену и дочь, услышать их смех. А перед ним сидел умирающий человек, только глаза горели ярко и гневно на бледном, изможденном лице.
– Утром я получил новости из Парижа, – тихо сказал Норлин. – Мои источники сообщают, что якобинцы собираются судить вдовствующую королеву революционным трибуналом. Ты не хуже меня понимаешь, чем это кончится. Мария Антуанетта останется без головы, как и ее муж. И тело бросят в могилу для бедных, поверх тысяч, которые стояли в очереди к гильотине раньше нее. Темные времена, Сесил.
– Юхан…Ты же сам сказал как-то: наше дело – восстанавливать справедливость. Это то, ради чего мы живем.
– Ты прав, Сесил… ты, как всегда, прав. Не спорьте с Сесилом Винге – он всегда прав. Так говорили и в университете, и в суде. Пусть будет по-твоему. Напишу Ройтерхольму льстивое письмо, может, удастся выиграть немного времени. Попробую предотвратить грозу. Представляю, что с ним будет, когда он прочтет этот поганый листок!
– Сердечно благодарен, Юхан Густав. – Винге поклонился. – Сердечно благодарен.
14
Секретарь полицейского управления Исак Райнхольд Блум терпеть не мог кварталы, лежащие вне Стадсхольмена. Он не считал их за город, а Ладугордсландет18 – хуже всех. Мелкий, непрекращающийся дождь превратил улицы в болото. Бродяги, обитатели богаделен, попрошайки, съежившись от холода, спешат по улицам в надежде найти убежище до того, как с приближением зимы старуха-смерть начнет собирать свои урожай.
Надо быть умнее – зачем он поперся в Спенскую усадьбу? С каждым шагом, с каждым смачным всхлипом воды в башмаках Блум выискивал все новые причины проклинать свою судьбу. Уже семь лет работает он в управлении полиции, но жалованье остается прежним: сто двадцать риксдалеров в год.
И ради этого он оставил службу нотариуса! Оставил, чтобы заменить старика Халквиста на посту секретаря управления. Можно было надеяться на быструю карьеру и хорошее жалованье, но вышло наоборот. Работы прибавляется с каждым годом, жалованье остается прежним, а жизнь дорожает.
Блум услышал кашель издалека, и это его успокоило: кое-кому еще хуже. Сесила Винге с его-то способностями ждало блестящее будущее, а сейчас… если доживет до Рождества, пусть считает, что повезло.
Как только Блум постучал в дверь, кашель мгновенно прекратился. Винге открыл дверь – спокоен и невозмутим, но в кармане жилета Блум заметил платок с пятнами крови. Какое же самообладание надо иметь, удивился и восхитился Блум.
– Меня послал Норлин, – начал он без обычных фигур вежливости. – Жалобы, которые вы предвидели, не заставили себя ждать.
Блум присел на табуретку и вытянул ноги к камину – уже через несколько секунд от сапог пошел пар. Винге подавил приступ кашля – было заметно, чего ему это стоило, – и открыл конверт с уже взломанной сургучной печатью. В конверте лежало три письма.
– Скорее всего, написано по свежим следам, как только прочли «Экстра Постен». Все об одном и том же, но причины протеста разные. Сверху – записка заоблачно богатого купца: беспокоится, не упадут ли цены на хлопок, и предсказывает финансовые бури. Граф Энекруна из коммерческой коллегии призывает подумать о риске морального упадка в народе. И последнее, но от того не менее важное, – письмо Йиллиса Тоссе. Он уверен, что вы с вашими скандальными разоблачениями намеренно раздуваете якобинские настроения.
Винге поочередно грел у камина мерзнущие руки.
– Я знаю Тоссе. Разве вы его не помните? Он учился в Упсальском университете, как вы и я.
– Фамилия знакомая.
– Лентяй и тупица, но с богатой родней, так что мог купить хорошую должность. Помню, как он смотрел на нас свысока: считал, наверное, что мы выслуживаемся, стараемся компенсировать то, что ему дано с колыбели: богатое наследство. А скажите, Блум, объяснил ли полицеймейстер Норлин, почему он решил послать вас с этими письмами в такую мерзкую погоду?
– Нет, не сказал. А если бы и сказал, то мог бы и не говорить. Я же не глупец, Винге. Я писал протокол, когда вы показывали свой гобелен. Это раз. А во-вторых, я читал «Экстра Постен». Вы надеетесь, что у кого-то из возмутившихся есть и другие причины замять эту историю. Рассчитываете нащупать связь с утопленником в Фатбурене.
Винге сжал губы в бледную нитку, закрыл глаза и потер лоб.
– Да, так и есть, – сказал он, – вы правы. Я надеялся, что какое-то из имен прояснит картину, но… я не вижу, что этих людей может объединять, кроме денег.
Блум хитро улыбнулся:
– А я вижу, Винге. Но, как вы понимаете, в этом мире ничто даром не дается. Так что…
– Все, что в моей власти, Блум.
– Не очень-то вежливо… Но, Винге, у меня к вам огромная просьба. Обещайте, что, как только ваше здоровье окончательно переменится к худшему, дадите мне знать первому. В управлении все заключают пари – сколько вам осталось. Сумма на кону втрое превышает мое годовое жалованье…
– Если вы дадите важную информацию, не вижу причин, чтобы кому-то не заработать на моей смерти, ибо я все равно умру. Немедленно пошлю к вам курьера, как только осознаю первые признаки смертельной лихорадки.
У Блума даже защекотало в животе, когда он представил сумму пари. Наконец-то он сможет завершить давно задуманную и даже начатую рукопись «Необходимость религии для сохранения общественного спокойствия». Наконец-то он сможет работать над ней не в своей холодной каморке, а в любимом трактирчике «Уголок Класа», над дымящейся, только что принесенной с кухни тарелкой: салака горячего копчения, седло барашка, овощное рагу…
– Спасибо, – искренне поблагодарил Блум. – А теперь скажите, Винге, вы когда-нибудь слышали про общество под названием «Эвмениды»?
– Разве что краем уха. Одно из множества тайных обществ. Если не ошибаюсь, члены его занимаются благотворительностью, заботятся о сиротах, помогают домам призрения для несостоятельных граждан.
– Совершенно верно. Эвмениды известны своей щедростью. Членом общества можно стать только обладая определенным состоянием. Вы, возможно, знаете, Винге, я пишу стихи. Когда-то я был знаком с Кленсом фон дер Эккеном, наследником известного торгового дома. Он любил поэзию и довольно щедро платил за декламацию. Фон Эккен состоял в обществе эвменид. Но дела у него шли все хуже и хуже, и, когда он решил хотя бы временно отказаться от благотворительности, чтобы поправить финансовое положение, братья по обществу его просто-напросто раздавили. Если ты член общества, должен выполнять свои обязательства без всяких отговорок. Банки потребовали немедленной оплаты кредитов, а новых никто не давал. Короче, в один прекрасный день ко мне постучался нищий и начал ныть, что он якобы не платил мне за декламацию, а давал взаймы. Эккен, как вы, разумеется, догадались. И мне стало интересно – что это за эвмениды? И как-то мне попался на глаза список этих… эвменид. У меня память, Винге, не хуже вашей. Поэтому с полной уверенностью могу сообщить: все три имени в том списке были. Все они, все, кто протестует против огласки, – члены тайного общества «Эвмениды».
Винге несколько раз постучал носком ботинка по полу.
– Ваша история, Блум, не так удивительна, как может показаться. Вы ведь знаете, откуда происходит название?
– Эвмениды? Нет.
– У меня был информатор, одержимый греческой классикой. Он, к слову, усовершенствовал метод изготовления плетеной мебели. Мне стало интересно, и я немало часов провел за чтением Эсхила. В переводе на наш язык «эвмениды» означает благосклонные, доброжелательные… что-то в этом роде. В трагедии Эсхила так называют эриний, богинь мщения. Не хотят произносить настоящее имя, прибегают к эвфемизму, чтобы не возбуждать их гнев. Помните? Эринии… вместо волос ядовитые змеи, и плачут они кровью. Другое название – фурии. Но, конечно, эвмениды звучит куда приятнее.