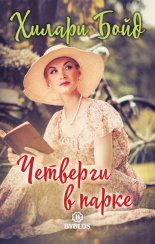Изобретение науки. Новая история научной революции Вуттон Дэвид
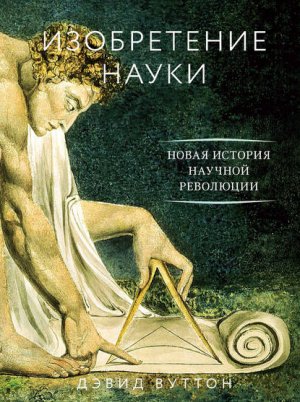
О закате алхимии написано немного, но занятие, которое считали уважаемым Бойль и Ньютон, в 1720-х гг. стало пользоваться дурной репутацией{772}. Джон К. Пауэрс утверждал, что это стало результатом «риторических» шагов химиков во Французской академии наук, например Никола Лемери (1645–1715), который использовал многие экспериментальные находки алхимиков, а также постоянных атак на тех, кто дискредитировал свое искусство разного рода небылицами; в то же время химики отвергали поиски философского камня, называя их абсурдом. Пауэрс полагает, что в глубине души они были алхимиками, но просто не желали этого признавать. Он не хочет верить на слово химикам XVIII столетия. Сторонники новой химии настаивали, что у них нет времени на непонятные тексты. Они протестовали против того, что «секта химиков [то есть алхимики]… пишет так туманно, что для того, чтобы понять их, нужно обладать даром прорицания»{773}. Их итересовали, утверждали они, только химические процессы, которые они могли воспроизвести в своих лабораториях и которые могли подтвердить коллеги. Каждая статья, выпущенная защитниками новой науки, пишет Пауэрс, «представляла собой ограниченное исследование конкретного вопроса или группы вопросов, и химик опирался только на свои эксперименты, чтобы убедить аудиторию в верности своих выводов»{774}. Пауэрс называет эти эксперименты «предположительными», однако они были настоящими.
Отправить алхимию на свалку истории помогло новое понимание того, что пытались сделать химики. Для алхимиков, включая Бойля и Ньютона, главной задачей была трансмутация одного вещества в другое. Но в 1718 г. Этьен Франсуа Жоффруа, сын аптекаря и профессор химии Ботанического сада в Париже – учреждения, предназначенного для обучения фармацевтов, – опубликовал «Таблицу веществ по их взаимному сродству, наблюдаемому в химии». В таблице Жоффруа представлены, как он сам указывал, «основные материалы, с которыми обычно работают в химии» (всего двадцать четыре), однако там невозможно найти самые разные вещества, широко применявшиеся в химических опытах. Принцип отбора был революционным: указанные в таблице вещества соединяются друг с другом, образуя новые стабильные соединения, но каждое из этих соединений можно разложить на оригинальные компоненты, если следовать соответствующей химической процедуре. Таким образом, выделенные Жоффруа двадцать четыре вещества сохраняются при соединении с другими: они не трансмутируют при взаимодействии. До современной теории элементов вроде той, которую предложил Лавуазье в конце столетия, работе Жоффруа было далеко, однако в его программе исследований полностью отсутствовала концепция трансмутации. Таким образом, родоначальником современной химии следует считать не Бойля, а Жоффруа{775}.
Работа Жоффруа появилась в контексте усилий химиков, пытавшихся отказаться от алхимического мышления. Алхимию убили не эксперименты (Старки, Бойль и Ньютон были неутомимы в поисках экспериментального знания), не формирование научных сообществ, преданных новому знанию (алхимики умели находить друг друга и добывать информацию, обычно обменивая один секрет на другой), и даже не открытие Жоффруа, что химические соединения не предполагают трансмутацию. Алхимию убило требование открытой публикации экспериментов с точным описанием того, что произошло, а также требование воспроизводимости экспериментов, предпочтительно в присутствии независимых наблюдателей. Алхимики искали тайное знание, убежденные, что лишь немногие готовы к обладанию божественными секретами и что порядок в обществе будет уничтожен, если золото станет общедоступным. Какая-то часть этого знания могла быть воспринята сторонниками новой химии, но большую его часть следовало выбросить как невразумительную и невоспроизводимую. Эзотерическое знание сменилось новой формой знания, которое опиралось на публикацию и на публичную (или наполовину публичную) демонстрацию. На смену закрытому сообществу пришло открытое[239].
Если в размышлениях об алхимии мы ограничимся только отдельными личностями, такими как Бойль, то возникает опасность не учесть роли институтов – формальных, как Королевское общество или Академия наук Франции, и неформальных, наподобие кружка Мерсенна. Многие основатели Королевского общества – например, Дигби и Ольденбург, а также Бойль – увлекались алхимией. Но на заседаниях Королевского общества никогда не обсуждались алхимические трансмутации, а в «Философских трудах» присутствует только одна короткая публикация Бойля, касающаяся вопросов алхимии, – она служила рекламой, информируя о его интересе к этой области в надежде, что другие свяжутся с ним{776}. Все (возможно, за исключением Бойля) понимали, что принципы, на которых было основано Королевское общество, – свободный обмен информацией, публикация результатов, подтверждение «фактов», – противоречили принципам алхимии. Бойль и Ньютон были одновременно алхимиками и членами нового научного сообщества, но в большинстве случаев они понимали, что эти стороны их жизни не смешиваются, – точно так же, как Паскаль проводил четкую границу между своими религиозными убеждениями, глубокими и требовательными, и научными занятиями. Действительно, Бойль хотел сделать алхимию публичной хотя бы ради того, чтобы алхимикам было легче найти друг друга, но Ньютон отговорил его, посоветовав хранить молчание. Бойль, жаловался он, «на мой взгляд, слишком открыт и слишком жаждет славы»{777}.
Как мы уже видели, Паскаль считал, что фундаментальное различие между наукой и религией состоит в том, что в науке не существует истин, которые нельзя поставить под сомнение, тогда как религия зависит от принятия неких неоспоримых истин. Для алхимиков реальность философского камня была несомненной, но уже в следующем поколении их обращение к древним текстам и тайным рукописям казалось безнадежно неуместным. Алхимия никогда не была наукой, и она не имела шансов выжить в среде тех, кто безоговорочно принял мировоззрение новых наук. У них было то, что отсутствовало у алхимиков: критически настроенное сообщество, ничего не принимавшее на веру. И алхимия, и химия были экспериментальными дисциплинами, но алхимик и химик вели разную жизнь и принадлежали к разным типам общества[240]. Этот аргумент имеет важное следствие: не стоит искать настоящую науку до того, как в 1640-х гг. начали формироваться научные сообщества. И это похоже на правду. Если бы – возьмем лишь один пример – Галилей принадлежал к активному научному сообществу, то его бы разубедили выдвигать теорию приливов в качестве основного аргумента в защиту системы Коперника{778}.
Таким образом, чтобы услышать похоронный звон по алхимии, не обязательно ждать публикации таблицы Жоффруа в 1718 г. По мнению современных историков, алхимия и химия были единой, неразделенной дисциплиной до выпуска третьего издания учебника Никола Лемери в 1679 г., после чего их пути стали расходиться{779}; в 1720-х гг. эти дисциплины фактически разделились. Хотя был еще трактат Джозефа Гленвилла «За пределы» (Plus ultra), опубликованный в 1668 г. В нем содержится похвала Бойлю, которому язычники поклонялись бы как богу, но отношение к алхимии явно предвосхищает подход XVIII в.:
Семья алхимиков за работой. Гравюра Филиппа Галле по картине Питера Брейгеля Старшего. Издано Иеронимом Коком ок. 1558 г.
Признаюсь, сэр, что египтянам и арабам, последователям Парацельса и некоторым другим сторонникам современных взглядов алхимия представлялась чрезвычайно фантастической, непонятной и иллюзорной; хвастовство, тщеславие и лицемерие этих спагиристов [алхимиков] сделали их ремесло скандальным и навлекли на него подозрения и презрение. Но нынешние алхимики, и особенно Королевское общество, очистили ремесло от грязи, превратили его в честного, серьезного и понятного, превосходного толкователя философии и помощника в обычной жизни. Они отбросили хризопоэтику [получение золота], иллюзорные замыслы и тщетную трансмутацию, розенкрейцеровские испарения, магические заклинания и суеверные предположения и сделали из алхимии инструмент для познания глубин и эффектов природы{780}.
Гленвилл, вероятно, был бы шокирован, узнав, что Бойль и Ньютон не разделяли его взгляды, но именно он, а не они, понял взаимоотношения между алхимией и новой наукой. Статья в техническом словаре (Lexicon technicum) 1704 г. отражает быстро складывавшийся консенсус:
АЛХИМИК – тот, кто изучает алхимию, то есть возвышенную часть химии, которая занимается трансмутацией металлов и философским камнем, если судить по громким заявлениям адептов, которые забавляют невежественных и легкмысленных людей громкими словами и глупостями: если бы не арабская частица «ал», которая нужна им для придания чудесной силы, это слово обозначало был просто химию. Именно таково происхождение этого слова. Изучение алхимии обоснованно определялось как «Ars sine Arte, cuius principium est mentire, medium labor-are, & finis mendicare», то есть искусство без искусства, которое начинается со лжи, продолжается тяжелым трудом и заканчивается нищетой{781}.
Смерть алхимии дает нам еще одно доказательство – если таковые нужны, – что современная наука началась не с экспериментов (алхимики проводили много экспериментов), а с формирования сообщества критиков, способных оценить открытия и воспроизвести результаты. Алхимия, будучи тайным занятием, никогда не могла создать такого сообщества. Поппер был прав, полагая, что наука может процветать только в открытом обществе{782}.
9. Законы
Природы строй, ее закон в извечной тьме таился, и молвил Бог: «Явись, Ньютон!» – и сразу свет разлился[241].
Александр Поуп. Эпитафия сэру Исааку Ньютону (опубликована в 1735)
10 ноября 1619 г. молодой французский солдат Рене Декарт (1596–1650) оказался в Ульме{783}. Он состоял на службе у баварского герцога Максимилиана, католика, и ужасный конфликт, который охватил всю Европу и впоследствии получил название Тридцатилетней войны, только начинался. Перспективы наступления были неплохие, но приближалась зима, и солдату в буквальном смысле было нечего делать. Декарт получил хорошее, но традиционное образование в иезуитском коллеже и два года изучал право в университете, чтобы угодить отцу, но в 1619 г. у него не было никаких причин надеяться на какую-либо карьеру, кроме военной. Застигнутый зимой в Ульме, Декарт заперся в комнате, которая обогревалась печкой, и предался размышлениям. Он пришел к выводу, что недостаток всех существующих систем знания состоит в том, что они создавались большим количеством людей на протяжении долгого времени. Нужно создать новую систему. Один человек должен начать с нуля и переделать всю философию, включая естественные науки.
Взволнованный и утомленный, Декарт заснул и увидел три сна. В первом ему пришлось противостоять призракам и буре, а одна сторона его тела оказалась парализованной. Он пытался укрыться в часовне, чтобы помолиться о спасении, но не смог туда войти. Очнувшись от кошмара, Декарт прочел молитву и постарался успокоиться. Он снова заснул и услышал раскаты грома. Ему показалось, что он открыл глаза и увидел, как комната наполняется огненными искрами; он не понял, когда проснулся окончательно, но искры исчезли, и он снова заснул. В третьем сне Декарту явилась толстая книга, собрание стихотворений. Открыв книгу, он увидел слова: Quid vitae sectabor iter? («Какую дорогу в жизни мне избрать?») Затем в комнату вошел незнакомец и прочел ему еще одно стихотворение, начинавшееся словами est et non, «существует или не существует». Декарт хотел найти стихотворение в книге, но и книга, и незнакомец исчезли. (В поэтическом сборнике «Corpus poetarum» Пьера де ла Бросса (1611) эти два стихотворения можно найти на одном развороте.) Лежа в полусне, Декарт пытался истолковать свои сны. Первые два, решил он, говорят о том, что до сих пор его жизнь была никчемной, а третий указывает путь в будущее: он должен посвятить жизнь решению философской задачи, установлению, что существует, а что нет.
Декарт до самой смерти отсчитывал начало своей новой жизни как философа именно от этих снов. Он начал работать над серией законов о мышлении, которые должны были помочь ему установить истину; продав часть собственности, он получил средства, чтобы сосредоточиться на своем грандиозном замысле. Четырнадцать лет спустя, уже переехав в протестантские Нидерланды, Декарт собирался опубликовать несколько трактатов по естественным наукам, но услышал об обвинениях инквизиции в адрес Галилея и решил ничего не печатать, опасаясь преследований католической церкви, поскольку его философия поддерживала теорию Коперника (хотя в Нидерландах он был в безопасности, даже если католическая церковь объявила бы его еретиком). В 1637 г. он наконец опубликовал «Рассуждение о методе» (Discours de la mthode) и три эссе по математике и естественным наукам. В 1641 г. вышел главный философский труд Декарта, «Первоначала философии» (Principia Philosophiae).
К тому времени, когда из печати вышли «Рассуждения о методе», Декарт решил, что лучший способ знакомства с его философией – безграничный скепсис. Откуда мы знаем, что мир реален? Может быть, все это сон? Или нас систематически вводит в заблуждение некий демонический демиург? Этого мы знать не можем. Единственное, в чем мы можем быть уверены, – cogito ergo sum («я мыслю, следовательно, я существую»). С этой отправной точки Декарт начинает доказательство существования Бога, который не позволил бы нас систематически обманывать, а затем переходит к описанию мира как пребывающей в вечном движении материи. «Рассуждения о методе» – необычная книга, сочетание автобиографии и философии. Декарт учит нас размышлять, описывая, какие этапы он сам прошел на этом пути. Он рассказывает читателю не о снах, изменивших его жизнь (это глубоко личный опыт), а о дне, проведенном в жарко натопленной комнате, когда началась его жизнь как философа.
Проблема в том, что история, рассказанная Декартом, не соответствует действительности. У нас нет никаких оснований считать выдумкой рассказ о снах или теплой комнате, однако новая жизнь Декарта началась ровно за год до этого события, 10 ноября 1618 г. В тот день служба в протестантской армии Морица Оранского привела его в город Бреда в Нидерландах. На улице он увидел объявление, предлагавшее решить математическую задачу. Объявление было написано на фламандском языке; Декарт обратился к стоящему рядом человеку и попросил перевести текст. Этим человеком был Исаак Бекман, школьный учитель и инженер; о дружбе с Декартом мы знаем из дневника Бекмана, который был найден в 1905 г. и опубликован в четырех томах в 1939–1953 гг.{784}
Декарт с Бекманом стали беседовать на латыни и обнаружили, что у них общие интересы. «Физико-математики встречаются очень редко», – писал Бекман в своем дневнике несколько дней спустя. И действительно, незнакомец сказал ему, «что еще не встречал никого, кто мыслит так же, как я, соединяя физику и математику. Что касается меня самого, то мне тоже еще не приходилось беседовать ни с кем, кто работает так же»{785}. Но Бекман в своих рассуждениях продвинулся гораздо дальше Декарта. Он уже пришел к выводу, что Вселенная состоит из движущихся частиц и что «законы» движения (для обозначения законов природы Бекман использовал слово pactum – «завет»){786}, действующие на микроскопическом уровне, такие же, как и на макроскопическом. Он был близок к тому, чтобы сформулировать (независимо от Галилея) закон падения тел. На протяжении двух месяцев Бекман и Декарт работали вместе, а когда Бекман уехал из Бреды, они стали переписываться, и в одном из писем Декарт заверял Бекмана, что они связаны «узами дружбы, которая никогда не умрет». Он писал Бекману:
Вы единственный извлекли меня из состояния праздности и заставили вспомнить вновь то, что я учил и что к этому времени почти полностью исчезло из моей памяти; мой ум блуждал далеко от серьезных занятий, и вы наставили его на путь истинный. И я не премину послать вам те немногие и, быть может, не в полной мере достойные презрения плоды моего труда, которые вы можете целиком объявить своими[242]{787}.
Мнго лет спустя, в 1630 г., Бекман именно так и поступил. В письме к другу Декарта, Мерсенну, он упомянул, что некоторые идеи Декарта, касающиеся музыки, позаимствованы у него. Декарт пришел в ярость, отрицая чье-либо влияние, но когда Мерсенн приехал к Бекману и прочел его дневник, то обнаружил, что многие идеи Декарта действительно были впервые сформулированы Бекманом. Декарт снова разозлился и заявил, что узнал от Бекмана не больше, чем от муравьев и червей. 17 октября 1630 г. Декарт написал самое длинное из своих писем; оно занимает двенадцать печатных страниц и изобилует злобными нападками, в которых он объясняет Бекману, что тот психически нездоров и бредит{788}.
Почему Декарт не мог признать тот простой факт, что почти всеми своими знаниями он обязан Бекману? Потому что с того момента, когда он проснулся утром 11 ноября 1619 г., Декарт убеждал себя, что в одиночку строит новую философию, начав с чистого листа, и что он никому ничем не обязан. Признать в Бекмане интеллектуальную опору он никак не мог. Поэтому в автобиографическом фрагменте в самом начале «Рассуждения о методе», опубликованном в 1637 г., Бекмана нет, а есть знаменитое описание жарко натопленной комнаты:
Я находился тогда в Германии, где оказался призванным в связи с войной, не кончившейся там и доныне. Когда я возвращался с коронации императора в армию, начавшаяся зима остановила меня на одной из стоянок, где, лишенный развлекающих меня собеседников и, кроме того, не тревожимый, по счастью, никакими заботами и страстями, я оставался целый день один в теплой комнате, имея полный досуг предаваться размышлениям. Среди них первым было соображение о том, что часто творение, составленное из многих частей и сделанное руками многих мастеров, не столь совершенно, как творение, над которым трудился один человек. Так, мы видим, что здания, задуманные и исполненные одним архитектором, обыкновенно красивее и лучше устроены, чем те, в переделке которых принимали участие многие…[243]{789}
Вернемся к столу, который рассматривался в главе 3. Согласно Аристотелю, для него формальная и конечная причины являются внешними – форма стола содержится в голове у столяра, а его цель состоит в том, что обеспечить кого-либо местом для работы. Однако в случае дуба и форма, и цель в определенном смысле содержатся внутри желудя. Действующие причины являются внешними; формальные и конечные причины в природных объектах – внутренние; материальные причины начинаются как внешние, но затем (подобно воде, которую всасывают корни дуба, или завтраку, который я только что съел) становятся внутренними.
Механическое объяснение имеет дело с внешними, а не с внутренними причинами. Древние атомисты – например, Эпикур или Лукреций – отвергали существование внутренней причины, вызывающей рост и развитие дуба, настаивая на реализации его потенциала. Атомы – это всего лишь пассивные частицы материи. Дуб представляет собой агломерацию атомов, которым придала определенную форму внешняя сила, – точно так же, как мой дом является агломерацией кирпичей, которым придали эту форму. Для древнего атомиста или одного из первых современных сторонников механицизма (например, Бекмана или Декарта) причина всегда является внешней, а не внутренней; существуют только действующие, или механические, причины[244]. Нет ни формальных, ни конечных причин, а материальная причина постоянна.
Для Эпикура и Лукреция характеристиками атомов был их размер, форма и движение. Если других свойств у атомов нет, то все свойства, которые мы воспринимаем в материальном мире, – цвет, вкус, запах, звук, текстура, температура – должны быть побочными продуктами размера, формы и движения. То есть размер, форма и движение первичны, а остальные свойства вторичны. Если звук является результатом колебаний, то легко понять, что он может определяться движением. Если при трении двух палок друг о друга выделяется тепло, то вполне вероятно, что тепло – одна из форм движения. Можно также предположить, что запах определяется частицами, попадающими в нос. Первичные свойства объективны, вторичные субъективны, и в этом смысле мы зависим от наших органов чувств. В мире, где нет ушей, не будет и звуков – только колебания; в мире, где нет носов, отсутствуют запахи – только частицы, плавающие в атмосфере. В качестве примера субъективности чувств Галилей приводил щекотку: если меня пощекотать пером, то я испытаю субъективное ощущение, но в пере нет ничего, что соответствует моему ощущению щекотки. На эту разницу между объективной реальностью и субъективным ощущением указал Лукреций. Галилей в «Пробирных дел мастере» (1623) первым из современных авторов отразил эту идею, не упоминая Лукреция (поскольку его считали опасным атеистом, но нам известно, что у Галилея было два экземпляра его поэмы «О природе вещей»){790}. После Галилея это различие признал Декарт. Терминология, которую мы теперь используем для указания этого различия между первичными и вторичными свойствами, была введена Бойлем в 1666 г. и популяризирована Локком в 1689 г.{791} (Представления Локка о первичных и вторичных свойствах заменяют предшествующие представления Аристотеля о первичных и вторичных свойствах – первичными считались горячее и холодное, влажное и сухое.)
Декарт вслед за древними атомистами признавал различие между первичными и вторичными свойствами, но отвергал веру в пустое пространство, или пустоту. По мнению Декарта, единственной фундаментальной характеристикой материи является то, что она занимает пространство; отсюда следовала невозможность существования вакуума, поскольку это было бы ничем не занятое пространство. Декарт считал, что материальный мир состоит из делимых частиц. Он избегал термина «атомы», поскольку древние атомисты утверждали, что атомы неделимы, а пространство между ними пустое.
В конструкции Декарта материя может взаимодействовать только при непосредственном контакте; дальнодействия нет, а когда два тела взаимодействуют, это может происходить только посредством отталкивания; таким образом, магнетизм и гравитацию следовало объяснить в терминах отталкивания, а не притяжения. По мнению Декарта, в случае гравитации процесс отталкивания является результатом того, что Земля захвачена огромным вихрем жидкости, вращающимся вокруг Солнца. Этот вихрь удерживает планеты на орбитах и прижимает все тела к поверхности Земли. Солнце – это всего лишь одна из звезд, каждая из которых окружена собственным вихрем. Аналогичным образом, магнетизм объясняется маленькими, похожими на штопор потоками материи, которые исходят из магнита и прикрепляются к железу: притяжение магнита на самом деле – это отталкивание, подобно тому как штопор выталкивает пробку из бутылки. (Я могу тянуть за штопор, но штопор толкает пробку.)
В системе Декарта есть только один тип материи, посредством взаимодействия и конгломерации создающей огромное разнообразие материалов, которые мы воспринимаем. Законы взаимодействия – это три закона природы. Во-первых, «всякая вещь пребывает в том состоянии, в каком она находится, пока ее что-либо не изменит»; во-вторых, «всякое движущееся тело стремится продолжать свое движение по прямой»; в-третьих, «если движущееся тело встречает другое, более сильное тело, оно ничего не теряет в своем движении; если же оно встречает более слабое, которое оно может подвинуть, то оно теряет столько движений, сколько сообщает»{792}.
Легко поддаться искушению и назвать картезианство – с его утверждением, что действие магнита, штопора и даже того, что мы сегодня называем гравитацией, объясняется отталкиванием, а не притяжением, – шуткой, но недавние исследования показали, что Декарт проводил хитроумные и изящные эксперименты, а его теория воронки считалась убедительной даже в XVIII в.{793} Серьезный спор между картезианцами и последователями Ньютона возник по поводу формы Земли: Ньютон настаивал, что Земля – сплющенный эллипсоид, а Декарт – что вытянутый эллипсоид наподобие яйца. Французские экспедиции в Перу и Лапландию (1735–1744) доказали (к разочарованию участников), что Ньютон был прав, а Декарт ошибался[245]{794}.
Современное представление о законах природы является побочным продуктом философии Декарта, поскольку Декарт был первым, кто рассматривал законы природы как суть нашего знания о природе. Галилей, Хэрриот и Бекман независимо друг от друга открыли закон падения тел, но никто из них не использовал слово «закон» в этом контексте. Как говорил в XVIII в. граф Бюффон, «природа – это система неизменных законов, установленных Создателем»{795} и, следовательно, главная задача науки состоит в выявлении законов природы[246]. Бюффон при желании мог обратиться к XVII в. и найти несколько законов, которые были открыты в период научной революции: закон гидростатического давления Стевина, закон падения тел Галилея, закон движения планет Кеплера, закон рефракции Снелла, газовый закон Бойля, закон упругости Гука, закон движения маятника Гюйгенса, закон Торричелли о скорости вытекания жидкости, закон гидродинамики Паскаля, законы движения и закон тяготения Ньютона. Большинство из них (а возможно, все) при жизни Бюффона уже назывались законами (только Ньютон не использовал слово «законы» при описании своих открытий), хотя лишь немногие имели эпонимические наименования – большинство получили имя первооткрывателей позднее[247]. Неудивительно, что одна из современных книг о научной революции названа «Природа и законы природы», поскольку открытие законов природы – одно из выдающихся достижений научной революции{796}. В 1703 г. Ньютон стал президентом Королевского общества и кратко определил свои цели на этом посту. «Натурфилософия, – писал он, – состоит в определении границ и действий природы и сведении их, насколько возможно, к общим законам – установлении этих законов путем наблюдений и экспериментов и выведении из них причин и следствий вещей…»{797} Теперь предметом науки стали законы природы.
Насколько нам известно, древние знали только четыре физических закона: правило рычага, закон отражения в оптике, закон плавучести и правило параллелограмма при сложении скоростей{798}. Правильнее было бы сказать, что они знали четыре принципа, которые мы называем законами. Древние говорили о «законах» природы, когда хотели сказать, что природа является упорядоченной и предсказуемой, однако не называли конкретные научные принципы законами. Римляне много говорили о законе природы (lex naturae), но обычно имели в виду нравственный закон.
Закон – это обязательство (например, «не убий»), налагаемое на некое существо (человек, ангел), способное принять или отвергнуть это обязательство. Нравственный закон применим к рациональным, обладающим речью существам, и закон природы связывает всех человеческих существ благодаря их способности понять, что существуют нравственные обязательства, общие для всех. В остальной природе законов нет, поскольку люди – единственные (насколько нам известно) рациональные и обладающие речью существа. Поэтому называть «законом» наблюдаемый в природе порядок вещей – это метафора, что было очевидно и в I в., и в XVII, и в наше время. Но метафора очень простая. Греки постоянно использовали ее (хотя почти всегда противопоставляли природное и социальное), а римляне, постоянно обращавшиеся к судам, считали очевидным тот факт, что природа упорядоченна и предсказуема в своих проявлениях. Для христиан эта метафора была еще более естественной, поскольку им было легко представить Бога законодателем, устанавливающим законы природы, и персонифицировать природу, которая ему подчиняется.
Поэтому когда мы говорим о законах природы, то можем иметь в виду как законы, управляющие человеческим поведением, так и законы, которым подчиняется природа, – «естественный закон», или «естественное право», как теперь говорят. В классической латыни такого разграничения не было: lex (или ius) naturae и naturalis lex (или ius) являются синонимами, и наиболее часто эти термины используются применительно к нравственным законам, общим (как предполагалось) для всех людей. То же самое наблюдалось на первом этапе и в современных языках. До 1650 г. в английском языке чаще всего встречался термин law of nature (закон природы) (Гоббс в «Левиафане» использует natural law (естественный закон) всего два раза, а law of nature – более ста раз); во французском чаще всего использовался термин loy naturelle (legge naturale в итальянском, ley natural в испанском). Лингвистическое разделение между двумя видами законов, нравственных и научных, появляется у Декарта, который пишет о la loy (или les loix) de la nature, но (когда речь идет о науке) не о la loi naturelle. До Декарта термины la loy de nature и la loy de la nature считались синонимами, хотя первый использовался чаще. Таким образом, Декарт выбрал менее распространенное из французских словосочетаний для перевода lex naturae, чтобы придать ему точный смысл, указывающий на научные, а не на нравственные законы. Аналогичным образом, в немецком языке более поздний термин Naturgesetz стал обозначать преимущественно закон природы, тогда как распространенный термин Naturrecht продолжал использоваться для указания естественного права.
Разумеется, новое значение легче придать редкому словосочетанию, чем распространенному. Однако англичане вслед за Декартом стали использовать термин «закон природы», а не «естественный закон», для обозначения научных законов, и это было странно, поскольку «закон природы» обычно использовался в английском языке в значении нравственного закона. Возникла путаница, которая мешала всем, и со временем философы и богословы в большинстве своем отказались от термина «закон природы» в отношении нравственности и политики, отдав его ученым, и стали использовать выражение «естественное право», присоединившись к французам, немцам и итальянцам. Это яркий пример влияния французского языка на английский, а также первый случай, когда ученые определяли язык богословов. В результате для нас, современных людей, законы природы означают научные законы, а под естественным правом мы понимаем нравственный закон. В этом отношении мы все картезианцы.
Упоминания законов природы в научном контексте можно найти задолго до Декарта, и ученые пытались выяснить происхождение этого понятия{799}. Вне всякого сомнения, корней у него много, но важную роль оно приобрело только после Декарта. Я выделю три источника, которым (на мой взгляд) не уделялось должного внимания. Во-первых, философы-номиналисты, начиная с Уильяма Оккама (1288–1348), критиковали аристотелевскую доктрину формы. Не существует, утверждали они, такой вещи, как форма или сущность – только конкретные объекты. Когда мы говорим о формах, то используем метку (или имя, откуда и само название «номинализм»), которую выбрали для обозначения определенных объектов. По их мнению, формы Аристотеля призрачны – поймать их невозможно, но их всегда добавляют к объяснению. Очевидно, что при изготовлении стола у столяра есть план: форма существует в виде идеи в его голове, и стол, который он делает, соответствует этой идее. Но где найти форму дуба? А если ее невозможно обнаружить, как она может действовать? Если мир упорядочен и предсказуем, то причина этого не во внутренних формах, а в том, что Бог установил этот порядок извне. Бог мог создать мир каким угодно, однако случайным образом сделал его таким, и порядок, наблюдаемый в мире, избран Богом. Так, например, философ-номиналист Жан Жерсон (1363–1429) утверждал, что «закон природы в отношении созданных вещей управляет их движением, действием и стремлением к их целям»{800}. Термин «закон» в данном случае указывает на внешнюю, божественную причину, но содержание закона природы не конкретизируется, и существует возможность для редких исключений, даже если это чудовища или чудеса. Некоторые современные комментаторы утверждают, что открытие законов природы возможно только в монотеистической культуре, где Бог мог считаться абсолютным законодателем, – то есть научная революция всем обязана христианству. Не подлежит сомнению, что аргументы номиналистов теоцентрические, но, как мы вскоре убедимся, это не относится к другим точкам зрения на законы природы.
Во-вторых, в математических дисциплинах слово lex часто использовалось как синоним regula, «правило», для указания либо на естественные закономерности, необходимость которых не может быть строго доказана, – другими словами, для которых нет исчерпывающих философских (причинных) объяснений – или для аксиом. Так, Роджер Бэкон говорит о законе отражения (угол падения равен углу отражения), а ученик Коперника, Ретик, заявляет, что Коперник открыл «законы астрономии» (сам Коперник не делал подобных заявлений). Как мы уже знаем, Рамус говорил о «законах» Птолемея и Евклида{801}. Термин «закон» предполагает неизменность без всяких исключений, но ничего не говорит о причинах. Эти законы имеют конкретное содержание.
Обе традиции соединяются в работе парижанина Жана Фернеля (1497–1558), который начинал свою карьеру как астроном и математик, а затем обратился к медицине и изобрел термин «физиология». По мнению Фернеля, существуют вечные и неизменные законы, управляющие Вселенной: они установлены Богом, и без них в мире не было бы порядка. Законы медицины входят как часть в эту более широкую структуру законов, и главным из них является древний принцип, сформулированный еще Гиппократом, – противоположное лечить противоположным, например лихорадку охлаждением тела. Нам это кажется общим принципом, рекомендацией или эмпирическим правилом, но не законом, потому что в нем отсутствует конкретность{802}.
Использование слова «закон» номиналистами и математиками не было особенно распространенным, и мы не можем увидеть их непосредственного влияния на его судьбу в XVII в. Галилей всего три раза упоминал о законах природы, но в каждом случае речь шла об опровержении теологических аргументов противников Коперника; в чисто научных работах о законах природы он не говорил{803}. Первым, кто поставил идею универсального закона в центр попытки понять природу и дал конкретное наполнение этой идее, был Декарт – сначала в своей переписке 1630 г., потом в работе «Мир, или Трактат о свете» (Le trait du monde et de la lumire, закончен в 1633 г., но опубликован только после его смерти: Декарт отказался от надежды на публикацию, когда услышал об осуждении Галилея), а затем в «Первоначалах философии» (1644 г. на латинском языке, 1651 г. на французском); в более раннем «Рассуждении о методе» Декарт использует выражение «принципы природы», а не «законы природы»[248]. Декарт, как мы уже видели, предложил три закона, но его законы отсутствуют в современных списках научных открытий: первые два Декартовых закона природы стали первым законом движения Ньютона, а третий был опровергнут законами Ньютона.
Но что еще важнее, современный список законов озадачил бы Декарта. Он считал три своих закона единственными. На их основе следовало построить полную систему знания, охватывающую все аспекты природы, – точно так же, как из пяти аксиом можно вывести всю геометрию Евклида. У него не было намерения множить число законов. Конечно, в процессе работы над следствиями из своих законов Декарт формулировал вспомогательные выводы. Например, он вывел семь правил (regulae), которые помогали предсказать, что произойдет при столкновении тел, движущихся вдоль одной прямой линии (тела находятся в вакууме, хотя Декарт отрицал его существование), но никогда не называл эти правила «законами». За полвека термин Декарта «законы природы» стал центральным для языка науки, но в то же время его значение изменилось и вскоре утратило связь с тем, что изначально понимал под ним Декарт.
Откуда же взялась концепция декартовского закона природы? Ведь у Лукреция тоже было представление о законах природы, хотя он никогда не использовал словосочетание lex naturae; у него три раза встречается выражение foedus naturae. Foedus – это союз, или договор, но его часто использовали как синоним слова lex, и в эпоху Возрождения комментаторы Лукреция считали, что речь идет о законах природы{804}. Бэкон пишет о «законе природы и взаимных союзах вещей» – так он перефразировал Лукреция. Для Лукреция притягивание железа магнитом происходит согласно закону природы, а тот факт, что у собак рождаются собаки, а у кошек – кошки, тоже определяется законом природы. Не вызывает сомнения, что Декарт помнил о Лукреции, когда формулировал свои законы природы, поскольку в первом законе движения он использует выражение quantum in se est (точный его перевод затруднителен; приблизительно – «своей собственной силой»). В поэме Лукреция «О природе вещей» это выражение встречается четыре раза, дважды в обсуждении того, что атомы естественным образом падают вниз, «своей собственной силой», сквозь пустоту, что предвосхитило инерцию Декарта. Ту же фразу использует Ньютон в своем определении инерции; совершенно очевидно, он позаимствовал ее у Декарта и лишь потом обнаружил, что ее автором является Лукреций{805}.
Пытаясь проследить корни идеи о законах природы, мы до сих пор следовали общепризнанной аргументации. Но чтобы понять, откуда взялась одержимость Декарта законами природы, следует обратиться к произведению, которое в данном контексте еще не обсуждалось. Это самое длинное философское эссе Монтеня, «Апология Раймунда Сабундского», впервые опубликованное в 1580 г. Изначально в данном отрывке содержалась одна цитата из Лукреция, но в 1588 г. добавились еще две, и мы вскоре увидим, что это было вдохновлено foedus naturae. Ниже приведен сокращенный вариант, в котором я для упрощения пропустил дополнения Монтеня к тексту 1580 г.:
Ничто, присущее нам, ни в каком отношении не может быть приравнено к божественной природе или отнесено к ней, ибо это накладывало бы на нее отпечаток несовершенства…
[Мы] хотим подчинить Его, который создал нас и наше знание, пустым и ничтожным доводам нашего рассудка. Мы говорим: «Бог не мог создать мир без материи, ибо из ничего нельзя ничего создать». Как! Разве Бог вручил нам ключи своего могущества и открыл нам тайны его? Разве Он обязался не выходить за пределы, поставленные нашей наукой?.. Ты видишь в лучшем случае только устройство и порядки того крохотного мирка, в котором живешь; но божественное могущество простирается бесконечно дальше его пределов; эта частица – ничто по сравнению с целым:
- …omnia cum caelo terraque manque
- Nil sunt ad summam summai totius omnem[249].
Ты ссылаешься на местный закон [une loy municipale], но не знаешь, каков закон всеобщий [l’universelle; то есть la loi universelle]. Ты можешь связывать себя с тем, чему ты подчинен, но его ты не свяжешь… [Монтень описывает разные чудеса] сплошная стена непроницаема для твердого тела; человек не может не сгореть в пламени… Все эти правила [regles] Бог установил для тебя; они связыват только тебя. Он показал христианам, что может нарушать все эти законы, когда ему заблагорассудится…
Твой разум с полным основанием и величайшей вероятностью доказывает тебе, что существует множество миров… поэтому представляется невероятным, чтобы Бог сотворил только один этот мир, не создав подобных ему… В случае же если существует множество миров, как полагали Демокрит, Эпикур и почти все философы, то откуда мы знаем, что принципы и законы нашего мира приложимы также и к другим мирам?[250]{806}
В данном случае на эти размышления Монтеня навел Лукреций. В его экземпляре книги напротив одного из четырех фрагментов, где Лукреций рассуждает о foedera naturae, законах природы, Монтень пишет, резюмируя мысль автора: «Порядок и единообразие поведения природы делает очевидным единообразие ее принципов»{807}. Это противоречит позиции, которую он высказывает в эссе. Трудно сказать, где именно он искренен: подчеркивая свою веру в чудеса, уже через несколько абзацев Монтень говорит о чуде как о чисто субъективном понятии. В данном контексте нам важно то, как его рассуждения повлияли на последующую дискуссию о законах природы, поскольку всякий образованный человек, вне всякого сомнения, читал Монтеня.
Вот как в 1654 г. перефразирует Монтеня Уолтер Чарлтон:
Согласно закону природы, каждому телу во Вселенной выделено его особое место, то есть такая область пространства, которая в точности соответствует его размерам: поэтому независимо от того, находится ли тело в покое или движется, мы всегда понимаем, что место, внутри которого оно существует, всегда одно, то есть равно его размерам.
Мы говорим: «согласно закону природы», поскольку, если мы переосмыслим всемогущество ее Создателя и решим, что Творец не ограничил свою энергию теми фундаментальными установлениями, которые Его мудрость наложила на Его творение, мы должны поднять свой разум до высшего постижения и позволить ему узнать о нашей вере и признать возможность существования тела без пространства, а также пространства тела без самого тела; как в священной мистерии явления Спасителя апостолам после воскрешения… через закрытые двери [ср. у Монтеня: «сплошная стена непроницаема для твердого тела»]. Мы не можем постигнуть сути того и другого, то есть существования тела без пространства и пространства без тела, поскольку наш ограниченный ум, не способный понять малейшее действие в природе, должен признать существование сверхъестественного: но тот, кто допускает, что всемогущество Бога создало тело не из существовавшей материи [ср. у Монтеня: «из ничего нельзя ничего создать»], не может отрицать, что та же сила способна снова превратить это тело в ничто{808}.
Бойль вторит Монтеню, проводя границу между универсальными законами и местными законами природы (термин «местные законы» звучит немного необычно, и я уверен, что Бойль использовал его потому, что помнил о Монтене):
Иногда полезно различать законы природы, которые уместнее было бы назвать обычаем природы, или, если хотите, фундаментальные и общие установления, действующие для материальных тел, и местные законы (если их можно так назвать), действующие для этого определенного вида тел. Что касается нашего примера с водой, то можно сказать, что когда она падает на землю, то подчиняется обычаю природы, поскольку для воды привычно стремиться вниз и падать, если тому не препятствует внешняя сила. Но когда вода поднимается путем всасывания в насосе или другом инструменте, это движение, противоречащее ее стремлению, осуществляется благодаря более общему закону природы, согласно которому большее давление, которое в нашем случае испытывает вода от веса воздушного столба, должно пересиливать меньшее давление от веса воды, которая поднимается в насосе или трубке{809}.
Вне всякого сомнения, Декарт читал Монтеня – и позаимствовал у него поразительную идею: надлежащий закон природы универсален в том смысле, что он будет выполняться не только в этой Вселенной, но и в любой из возможных Вселенных. В наше время данное положение формулируется не так строго: законы природы выполняются в любое время и в любом месте нашей Вселенной{810}. Если считать это свойство главным свойством законов природы, то трудно вообразить, что о них могли иметь представление последователи Аристотеля. В физике Аристотеля в подлунном и надлунном мире действовали разные законы{811}. Первый мир переменчив, и движение в нем вертикально, а второй остается неизменным, и движение в нем круговое. Не существует физических законов, общих для обоих миров. В подлунном мире достаточно просто сформулировать несколько общих законов: все живые существа умирают, дети похожи на родителей. Однако феникс бессмертен, а уродцы не похожи на родителей. Таким образом, последователи Аристотеля признают, что в подлунном мире не существует правил без исключений, а также не существует закономерностей, применимых к обоим мирам. Следовательно, не существует Аристотелевых законов природы.
Однако Декарт говорит об универсальности не в том ограниченном смысле, в котором мы понимаем этот термин, а в более общем, введенном Монтенем, который размышлял о том, какие законы применимы в других мирах, если таковые существуют. В «Первоначалах философии» (1644) Декарт утверждает, что он описывает не законы, управляющие нашей Вселенной, а такой набор законов, что если начать с абсолютного хаоса, то под их воздействием возникнет Вселенная, неотличимая от нашей. Однако, заверяет нас Декарт, наш мир был создан иначе: всем известно, что его сотворил и упорядочил Бог. Но это позволяет нам выявить законы, которые необходимо было бы применить в любом из возможных миров. Здесь Декарт немного путается. Подобно номиналистам, он хочет показать, что Бог произвольным образом установил законы природы и даже математики: нам эти законы кажутся необходимыми, но для Бога они таковыми не являются. В то же время Декарт стремится показать, что любой рациональный Бог выбрал бы именно эти законы, если бы хотел создать упорядоченный, непротиворечивый мир. Ученик Ньютона, Роджер Котс, жаловался:
Поэтому эти законы надо искать не в сомнительных допущениях, а распознавать при помощи наблюдений и опытов. Если же кто возомнит, что он может найти истинные начала физики и истинные законы природы единственно силою своего ума и светом своего рассудка, тот должен будет признать или что мир произошел в силу необходимости и что существующие законы природы явились следствием той же необходимости, или же что мироздание установлено по воле Бога и что он, ничтожнейший человечишка (homunculus), сам бы предвидел все то, что так превосходно создано{812}.
Как же мог Декарт допустить такую путаницу? Дело в том, что он пытался найти законы, которые были бы – в терминах Монтеня – по-настоящему универсальными, действительными как для Вселенной, созданной всемогущим Богом, так и для Вселенной эпикурейцев, возникшей из хаоса в результате случайного сцепления атомов, – отсюда его неудача в применении термина «закон» для локальных явлений[251].
Представление Декарта о законах оказало серьезное влияние на философию. В «Математических началах натуральной философии» Ньютона всего три закона – как и у Декарта. Ньютон полагал, что законы движения планет Кеплера (которые сам Кеплер никогда не называл законами) в изложении Кеплера представляют собой просто статистические закономерности; статус законов они приобрели только тогда, когда их необходимость, подобно закону падения тел Галилея, была выведена из действительно всеобщего принципа, закона всемирного тяготения{813}. (Ньютон явно сомневался, следует ли называть законом тяготение, поскольку оно не соответствовало трем картезианским законам; он действительно называет его законом, но не в «Математических началах», а в «Оптике»). Бойль, по всей видимости, также считал, что существует лишь небольшое количество «более общих законов», и именно их должно называть законами природы.
Но Бэкон придерживался другого подхода. Под одним высшим законом (он называл его summa lex, фундаментальным законом, но никогда не расшифровывал, что это такое) он видел другие, низшие законы (иногда он мыслил их как «статьи» всеобъемлющего закона), поскольку даже Монтень допускал существование местных законов: Бэкон привел пример закона тепла, который определяет сущность тепла во всех его проявлениях; Лукреций обсуждает закон магнетизма. Этот подход открывает путь к умножению законов: гипотеза Бойля относительно газов (которую он сам никогда не называл законом) теперь может считаться таковым. Этот менее жесткий подход мы уже видим у Уолтера Чарлтона, который признает существование трех «общих законов природы, посредством которых она производит все эффекты», такие как «законы разрежения и уплотнения» и «неизменные и непреложные законы магнитного притяжения»{814}. Именно этот, осторожный подход Лукреция, Бэкона и Чарлтона в конечном итоге стал подходом Королевского общества и науки XVIII в. – в отличие от гораздо более смелого подхода Монтеня и Декарта{815}.
Декарт и его последователи, впервые поставившие во главу угла идею законов природы, сталкивались с рядом богословских трудностей; тем не менее они утверждали, что их подход легче примирить с христианством, чем воззрения Аристотеля, который считал Вселенную вечной и не верил в бессмертие души. Всего таких камней преткновения было четыре.
Во-первых, каково место души в механистическом мире? Декарт проводил четкую границу между душой и материей: душа нематериальна и бессмертна, поэтому взаимоотношения души и чувственного мира пространства и времени в основе своей проблематичны. Декарт разрешил эту проблему, заявив, что душа воздействует на тело через шишковидную железу. В результате душа стала «призраком в машине»{816}.
Во-вторых, какова роль Бога в создании Вселенной? Декарт стремился представить Вселенную, где Бог задал начальные условия, а затем предоставил машине возможность собрать себя и управлять собой. Другие философы настаивали на том, что те общие законы, которые описывал Декарт, со всей очевидностью не могут создать такую совершенную конструкцию, как, например, лапа собаки. Декарт никогда не сравнивал Вселенную в целом с рукотворным механизмом, поскольку не считал, что Вселенная была сознательно задумана и создана, подобно тому как человек изготавливает механизм. В отличие от него Роберт Бойль именно так представлял себе наш мир: вслед за Кеплером он сравнивал Вселенную с часами, а Бога с часовщиком. Вселенная Декарта – автомат, но (по крайней мере, потенциально) автомат, который сам себя создает. Картезианская Вселенная, в отличие от Вселенной Бойля, не создана для человека{817}. Нам предназначено чувствовать себя дома во Вселенной Бойля, несмотря на то что это механизм, однако совсем не очевидно, что бессмертная и нематериальная душа должна чувствовать себя дома во Вселенной Декарта.
В-третьих, каким образом законы природы действуют в качестве причин? Можно утверждать, что два плюс два будет равно четырем в любой Вселенной; и разумеется, рычаги и весы тоже не изменят своего поведения. Но должен ли угол падения луча равняться углу отражения? Может ли существовать Вселенная, в которой не действует третий закон Декарта? Если законы природы есть нечто меньшее, чем математическая истина, и нечто большее, чем воспринимаемые закономерности, то становится очевидным, что они существуют только потому, что их выбрал Бог. Это волюнтаризм, естественно вытекающий из идеи законов природы. Но тут есть противоречие, поскольку стандартной альтернативой волюнтаризма является рационализм, а рационалист придерживается мнения, что законы природы, как и законы математики, существуют по необходимости. В большинстве вопросов Декарт рационалист, но в том, что касается законов природы, он как будто придерживается двух противоречащих друг другу теорий одновременно.
Возникает вопрос: какова роль Бога в причинно-следственных отношениях? Он просто установил общие правила или в каждом конкретном случае обеспечивал их применение? Нажав клавишу переключения регистра на клавиатуре компьютера, я уже не могу печатать строчными буквами. Выбора у меня теперь нет: все буквы будут прописными. Выбор сделан производителем при разработке компьютера, и теперь его уже невозможно изменить. С другой стороны, в английских словах после буквы «Q» почти всегда следует «U», но между ними нет причинно-следственной связи – это мой сознательный выбор. Теория, что Бог – подобно тому как я набираю «U» вслед за «Q» – каждый раз создает подобие причинно-следственных связей (строго говоря, это не причинно-следственные связи, а лишь временные совпадения), называется окказионализмом. Его придерживался Мальбранш и другие последователи Декарта, а Ньютон иногда выражался так, словно каждый акт гравитационного притяжения совершается непосредственно по воле Бога. Невозможно быть окказионалистом, не будучи волюнтаристом, и каждый волюнтарист уже сделал по меньшей мере один шаг на пути к окказионализму.
Некоторые историки науки считают, что признание законов природы невозможно без волюнтаризма, а волюнтаризм невозможен без всемогущего Бога-Творца{818}. Следовательно, греки и римляне не были способны сформулировать идею законов природы, а без этой идеи невозможна современная наука. Такой вывод, вне всякого сомнения, озадачил бы Декарта и Ньютона, которые черпали у Лукреция (Декарт) вдохновение для новых идей или (Ньютон) их прообразы. Конечно, представление о всемогущем Боге-Творце помогает сформулировать теорию законов природы, но считать это необходимым условием было бы неверно.
Это подводит нас к четвертой, и последней, проблеме: отменяет ли Бог законы природы? Бойль с готовностью признавал, что Бог допускает существование чудес и тем самым нарушает собственные установления. Но Галилей считал природу неумолимой и неизменной, а исключения из законов Декарта также практически невозможно представить{819}. Французские картезианцы столкнулись с жесткой цензурой и должны были соблюдать осторожность: в 1663 г. «Размышления о первой философии» (Meditationes de prima philosophia, 1641) Декарта были включены церковью в список запрещенных книг, поскольку декартовская корпускулярная теория (как и в атомизме Лукреция, в ней отрицались такие понятия, как сущность и форма) считалась несовместимой с католической доктриной пресуществления (согласно которой во время мессы происходит изменение сущности хлеба и вина, хоть они и сохраняют изначальный внешний вид){820}. В протестантских странах цензура была мягче, но ограничения на публикации все равно существовали. Так, некоторые ученики Ньютона были готовы следовать логике естественного закона до самого конца, делая вывод о том, что все в мире происходит в соответствии с законами природы{821}. Уильям Уистон (ученик Ньютона, который был сторонником арианства, как и сам Ньютон, то есть отрицал существование Христа с начала времен и, следовательно, отрицал понятие Троицы), в 1696 г. утверждал, например, что Всемирный потоп был вызван прохождением Земли через хвост кометы{822}. Аналогичным образом должны существовать естественные объяснения и отступлению вод Красного моря, и казням египетским; свидетельством Божественного провидения служит то, что Бог организовал эти исключительные события именно в те моменты, когда в них была нужда.
Протестанты давно настаивали, что современные чудеса, о которых сообщали католики, были просто неверным толкованием естественных явлений (за исключением случаев мошенничества); те же аргументы теперь выдвигаются в отношении самой Библии. Применять подобные теории было безопаснее к Ветхому Завету, чем к Новому, но косвенным образом чудеса Христа (и даже его воскресение) должны были пониматься как естественные события, чудесным образом совпавшие с необходимостью видимости божественного вмешательства. Таким образом, когда Господь отвечает на просьбу молящегося, он не изменяет порядок вещей, чтобы удовлетворить просьбу, – будучи всемогущим Богом, он заранее знает, что за молитвой последует событие, которое воспримется как ответ. Чудеса и исполнение просьб молящихся – это чисто субъективные явления; объективно же в них ничего нет, кроме совпадения. Монтень писал: «Сколько явлений мы называем сверхъестественными и противоречащими природе! Каждый человек и каждый народ называет так вещи, недоступные его пониманию»{823}.
10. Гипотезы / теории
Я совершил философское открытие… по моему мнению, самое странное, если не самое значительное из всех[252], которые до сей поры совершались в сфере действий природы.
Исаак Ньютон Генри Ольденбургу. 18 января 1672 г.
«В начале года 1666» Исааку Ньютону только исполнилось двадцать три (день рождения у него приходился на Рождество). Годом раньше он получил степень бакалавра, а примерно через год приступил к разработке свой теории тяготения; меньше чем через четыре года, в октябре 1669 г., он стал лукасовским профессором математики (в то время единственная должность профессора математики в Кембридже), а ровно четыре года спустя, в январе 1670 г., прочел в университете первые лекции по оптике. Ньютон сообщает читателям, что в начале 1666 г. он приобрел призму. До Ньютона многие использовали призму для расщепления белого цвета на составляющие, но почему-то все проецировали свет на близлежащую поверхность. Ньютон установил призму в своей квартире в Тринити-колледже: он просверлил отверстие в ставне окна, чтобы впустить в комнату тонкий луч света, поместил призму рядом с отверстием таким образом, чтобы после нее свет проецировался на стену, находившуюся на расстоянии 22 футов. Солнце имело круглую форму, отверстие в ставне тоже было круглым, поэтому узор на стене тоже должен был иметь форму круга; на деле же его высота оказалась в пять раз больше ширины{824}.
Ньютон рассматривал разные объяснения. Он установил, что у призмы нет аномалий, что свет проходит от призмы до стены по прямой и что отсутствуют странные искривления траектории, как у закрученного теннисного мяча. Он заставил свет проходить через еще меньшее отверстие перед призмой, а затем пропускал лучи расщепленного света через отверстие в экране, по другую сторону которого помещал вторую призму. Первой призмой свет расщеплялся на целый спектр, но каждый из цветов спектра, проходя через вторую призму, оставался неизменным, а рефракция каждого из цветов была одинаковой при прохождении через обе призмы: этот эксперимент он назвал experimentum crucis. Ньютон обнаружил, что белый свет не однороден, а состоит из всех цветов спектра и что при прохождении через призму степень рефракции у этих составляющих разная. Далее он сделал вывод, что телескоп-рефлектор должен значительно превосходить телескоп-рефрактор, поскольку изображение в нем не будет искажено разноцветным ореолом (хотя прошло еще два года, прежде чем у него появилась возможность должным образом исследовать эту идею)[253]. В 1670 г. Ньютон читал лекции по своей новой теории света и цвета, а в 1672 г. они составили его первую публикацию, «Письмо мистера Исаака Ньютона, профессора математики в Кембриджском университете, относительно его новой теории света и цветов» (A Letter of Mr Isaac Newton, Professor of the Mathematicks in the University of Cambridge; Containing His New Theory about Light and Colors).
Схема experimentum crucis, предоставленная Ньютоном в качестве иллюстрации к французскому переводу «Оптики» (1720). Луч света проникает в темную комнату через отверстие в ставне справа; он проходит через линзу, которая фокусирует его, а затем через призму, которая расщепляет его на радужный спектр, проецирующийся на экран в форме овала. Один из цветных лучей проходит через отверстие в экране и попадает на вторую призму. Луч второй раз подвергается рефракции, но его цвет не изменяется
История, рассказанная Ньютоном, неправдоподобна. Эксперимент, который он описывает, не мог быть выполнен в Кембридже в начале года: для него требуется, чтобы Солнце поднялось над горизонтом выше, чем на 40 угловых градусов. В любом случае в начале 1666 г. Ньютона в Кембридже не было. В конце жизни в одной из бесед он сказал, что купил призму в августе 1665 г. (в рукописи исправлено на 1663) на ярмарке в Стербридже, но в 1666 г. ярмарки не было, а Ньютон приехал в Кембридж уже после ярмарки 1665 г. Нам остается предположить, что первые эксперименты с призмой проводились незадолго до июня 1666 г. (когда Ньютон покинул Кембридж, спасаясь от эпидемии чумы), а призма была приобретена на какой-то другой ярмарке; Ньютон продолжал экспериментировать и поставил свой решающий эксперимент летом 1668 г.
Но точная дата не имеет особого значения. Гораздо важнее свидетельство в записных книжках Ньютона, указывающее на то, что он знал о разной рефракции разных цветов в 1664 г., когда у него уже была призма (возможно, купленная на ярмарке в августе 1663). Ньютон смотрел сквозь призму на карту, половина которой была красной, а половина закрашена черным цветом, а также на нитку, наполовину красную, наполовину синюю. В обоих случаях призма как бы расщепляла объект на две части и один цвет не стыковался с другим. Когда Ньютон ставил свой эксперимент в 1666 г., он, по всей видимости, намеренно сконструировал его так, чтобы получить овальный спектр – хотя сам называет этот эффект совершенно неожиданным. Современный биограф Ньютона, Ричард Уэстфолл, делает вывод, что мы должны воспринимать заявление Ньютона о том, что он был удивлен овальным изображением, создаваемым призмой, «как риторический прием, который не следует понимать буквально»{825}. Как утверждал Томас Кун, «следствия рассказа Ньютона 1672 г. неверны в том смысле, что Ньютон не перешел от первого эксперимента с призмой непосредственно к окончательной версии теории, как предполагает первая статья»{826}. Питер Дир идет еще дальше (возможно, слишком далеко): рассказ Ньютона «ложен», поскольку «описанного события на самом деле не было»{827}.
Почему Ньютон решил изложить события в такой версии? Возможно, ему хотелось создать впечатление, что он двигался от явления к теории, а не наоборот: Королевское общество восхищалось Бэконом, а это был бэконовский метод работы{828}. Другой вариант – упоминание о experimentum crucis представляет собой намек на эксперимент Паскаля на горе Пюи-де-Дом. И хотя эксперимент Паскаля был не первым, как не была перовой его теория, это не имело особого значения. Но почему просто не рассказать все так, как это происходило? (Бойль был бы в ужасе, поскольку он всегда настаивал, что отчеты об экспериментах должны правдиво описывать все, что случилось, но в одном из фрагментов опубликованной версии статьи Ньютон высказывал раздражение длинными историческими экскурсами.)
Можно спорить о том, когда именно Ньютон проводил свои эксперименты и в какой последовательности и когда он сформулировал свою первую теорию, но у нас нет никаких сомнений, что Ньютон действительно выполнил эксперименты, которые он описывает, – эти события имели место, хотя их точную дату и последовательность трудно установить. Традиционная история науки обычно на этом останавливается. Но я хочу обратить внимание на еще один аспект: в своей первой публикации Ньютон говорит, что представляет новую «доктрину», а статья, которую редактор, Ольденбург, назвал «Письмо мистера Исаака Ньютона, профессора математики в Кембриджском университете, относительно его новой теории света и цветов», стала первой статьей в журнале «Философские труды», где в заглавии встречается слово «теория», причем сам Ньютон использует это слово всего один раз, в последующей переписке{829}. Один из критиков, Игнатий Парди, называет рассуждения Ньютона «необыкновенно оригинальной гипотезой», «выдающейся гипотезой», которая перевернет основы оптики, если окажется верной{830}. Ньютон в ответном письме (на латыни) объясняет, что решил не считать это оскорблением:
Я не обижаюсь, что святой отец называет мою теорию гипотезой, поскольку он не знаком с ней. Но мой замысел был совсем иным, поскольку затрагивает только определенные свойства света, которые теперь открыты и которые, на мой взгляд, легко доказать, и если бы я не считал их истиной, то скорее отверг бы как бесполезные и пустые предположения, чем принял бы даже в качестве гипотезы{831}.
Парди возразил, что, использовав это слово, «ни в коем случае не желал проявить неуважение»{832}. Ньютон ответил, что смотрит на свою работу лишь как на изучение свойств света; любой желающий может выдвигать гипотезы относительно причин этих свойств, но гипотезы должны исходить из свойств вещей, и полезными являются только те из них, которые ведут к новым экспериментам. Далее он пожаловался, что (по крайней мере) в данном случае нетрудно выдвинуть гипотезы, которые соответствовали бы фактам: «К этой доктрине легко приспособить гипотезы. При желании защитить картезианскую гипотезу достаточно лишь сказать, что глобулы[254] не равны или что давление некоторых глобул больше и поэтому они по-разному преломляются, вызывая восприятие разных цветов»{833}. (Из записных книжек Ньютона мы знаем, что он начал исследовать рефракцию, предполагая, что «медленные лучи преломляются сильнее, чем быстрые», то есть именно с той гипотезы, которую теперь отвергает как бессмысленную){834}. В конце письма Ньютон вернулся к предмету разногласий и выразил уверенность, что Парди не имел в виду ничего обидного, поскольку «в практику вошло называть гипотезами все, что объясняется в философии», однако он считает, что эта практика может «нанести ущерб истинной философии»{835}.
На самом деле в оригинальной публикации он сам использовал слово «гипотеза», но лишь для указания на неточный, приближенный метод в математике{836}; более того, Ольденбург вычеркнул фрагмент, в котором Ньютон настаивал, что выдвигает вовсе не гипотезу, поскольку несомненно доказал свои выводы[255]. Таким образом, Парди указал на фундаментальное разногласие между Ньютоном и Королевским обществом в 1660-е и в начале 1670-х гг.: в отличие от Ньютона, Королевское общество предпочитало осторожно выражать свое мнение. Поэтому главная цель этой главы – понять, почему Ньютон не любил слово «гипотеза» и приравнивал к оскорблению, когда этот термин использовали применительно к его работе.
Мода на слово «гипотеза» была новой; она появилась после публикации «Первоначал» Декарта в 1644 г. В третьей части своей работы Декарт переходит от различных «гипотез», которые выдвигались для объяснения движения планет (Птолемея, Тихо Браге и Коперника), к объяснению движения и перемен на Земле. Три важных параграфа (43–45) содержат необычные положения:
43. Маловероятно, чтобы причины, из коих возможно вывести все явления, были ложными.
44. Не решаюсь тем не менее утверждать, что излагаемые мною причины истинны.
45. Даже предположу некоторые, кои считаю ложными[256]{837}.
Неудивительно, что формулировки Декарта вызвали недоумение и неприятие. Во-первых, он как будто утверждает, что гипотетическая причина может дать истинное знание; затем он отступает и говорит, что его аргументы всего лишь гипотетические; наконец, он признает, что некоторые из его аргументов могут быть ложными. В каком свете предстает перед нами новая философия? Дает ли она бесспорное знание, которое не может быть опровергнуто? Или знание, которое может оказаться как истинным, так и ложным? А может, знание, которое было очевидно ложным? Начиная с 1644 г. статус гипотезы стал центральным вопросом.
Чтобы понять происходившие в то время процессы, полезно вспомнить, что в Средние века слово «гипотеза» имело три разных значения{838}. В логике гипотеза являлась тем, что следует за тезисом (в греческом языке «гипо-» означает «под»; гиподермическая игла – это игла для подкожных инъекций). Например, можно сказать, что люди смертны (тезис), Сократ человек, следовательно, Сократ смертен. В данном случае утверждение, что Сократ человек – это «гипотеза», которая следует за тезисом и генерирует вывод, что Сократ смертен. Ее можно сформулировать в виде предположения: «Если Сократ человек, значит, он смертен». Этот пример несложен, но стоит рассмотреть еще один. Апостол Петр глава церкви; папа его преемник, значит, папа глава церкви. Католик воспримет это как истинный силлогизм, но протестант возразит, что гипотеза неверна: папа может быть преемником Петра как епископ Рима, однако он не является преемником Петра в требуемом смысле.
В математике слово «гипотеза» также использовалось для обозначения предположения или постулата, на котором основаны рассуждения; например, в геометрии можно выдвинуть предположение о равенстве двух углов, даже если это не доказано. Но в математике слово «гипотеза» имело и другое значение{839}. Гипотезой называли теоретическую модель, из которой следовали предсказания будущего местоположения планет на небе. Разные гипотезы могли давать одинаковый результат: например, эксцентрическая окружность описывала точно такое же движение, как и эпицикл на деференте. Выбор той или иной гипотезы определялся философскими причинами, но астроном для своих вычислений мог свободно пользоваться всеми. Таким образом, главным в гипотезах была не их истинность, а способность давать точные результаты (те гипотезы, которые мы считаем ошибочными, лежали в основе очень точных расчетов). Когда Генри Савилю предложили выбрать между системами Птолемея и Коперника, он ответил: «…Безразлично, какая из них верна, лишь бы положения были определены, а измерения точны: и старая система Птолемея, и новая система Коперника одинаково служат астроному»{840}. В этом смысле – как средство спасти явление независимо от его истинности – Гоббс использует слово «гипотеза» (на латыни) до 1640 г., и в этом же смысле Декарт использует слово «гипотеза» в своих рассуждениях о космологии[257]{841}.
Однако те, кто защищал истинность теории Коперника, настаивали, что в данном случае истинность гипотезы имеет значение. Кеплер различал геометрическую гипотезу – математическую модель, используемую для предсказаний, – и астрономическую гипотезу, то есть действительное движение планет в небе. В качестве геометрических гипотез системы Птолемея, Браге и Коперника были эквиваленты; но как астрономические гипотезы они радикально отличались друг от друга. По всей видимости, именно такому ходу мысли мы обязаны первым на английском языке упоминанием гипотезы как теории, которая нуждается в проверке. Томас Диггес в издании 1576 г. отцовских «Знамений» предложил, чтобы «гипотеза, или предполагаемая причина склонения стрелки компаса, была математически взвешена [то есть оценена]»{842}. Следовательно, если гипотеза проходит проверку, то возвышается до истинного утверждения. По всей вероятности, это самое первое использование слова «гипотеза» в его привычном, современном значении – по крайней мере, в английском языке[258]. Для маленькой группы, искавшей математическую закономерность в склонении стрелки компаса, – то, что Роберт Норман называл «теоретизированием с гипотезами и правилами для разрешения видимых нерегулярностей склонения»{843}, – это был просто шаг к тому, чтобы воспользоваться астрономическим языком «гипотезы» и придать ей новый, экспериментальный аспект{844}. Но этот аспект, по существу, отмечает рождение новой философии науки: теперь научный принцип – это гипотеза, выдержавшая проверку опытом. Так, например, Галилей в своем трактате «Диалог о приливах и отливах» в 1616 г. представляет теорию приливов как гипотезу, которая нуждается в подтверждении или опровержении с помощью программы систематических наблюдений{845}.
Бойль много раз использовал слово «гипотеза» в этом значении и даже написал небольшую статью (оставшуюся неопубликованной) о «требованиях к хорошей гипотезе». Бойль рассматривал гипотезу как полезный шаг к установлению истины: хорошая гипотеза ведет к новым предсказаниям, которые могут быть проверены экспериментами. В лучшем случае гипотеза подобна ключу, который позволяет прочесть зашифрованное сообщение: теперь все обретает смысл, и становится очевидным, что именно это и есть правильное решение (такой подход отражал Декарт в § 43)[259]. Локк в своем «Опыте» посвятил целый раздел «правильному применению гипотез». Он признавал, что гипотезы могут привести к новым открытиям, но подчеркивал, что большинство («я чуть было не сказал: все») гипотез в натурфилософии – это не более чем сомнительное предположение{846}.
С другой стороны, Уильям Уоттон, подобно Ньютону, обычно использовал слово «гипотеза» для обозначения ложных или неудовлетворительных аргументов. Для Уоттона назвать утверждение гипотезой – значит отвергнуть его, поскольку то, что объясняет все явления, уже не является гипотезой. Таким образом, мы находим третье значение слова «гипотеза», как у Декарта в § 45: утверждение, признанное ложным, но остающееся в определенном смысле полезным. Озиандер в анонимном введении к трактату Коперника «О вращении небесных сфер» настаивал, что Коперник лишь излагает гипотезу, а не описывает реальное строение мира. Беллармин говорил Галилею, что тот вправе рассуждать о теории Коперника, но лишь гипотетически – по мнению Беллармина, система Коперника была ложной{847}. В русле этой традиции Декарт в § 45 использовал слово «гипотеза» для обозначения принципов, которые по богословским причинам должны быть признаны ложными, но оказываются полезными, если сделать вид, что они истинны[260]{848}.
Следует отметить еще один пример использования термина «гипотеза». В трактате Гильберта «О магните» (1600) в основном тексте это слово использовалось в традиционном значении, например, при указании на гипотезу Коперника. Но в предисловии происходит нечто необычное:
[В] этих книгах опубликовано только то, что подверглось испытанию и много раз было проделано и осуществлено. Многие рассуждения и гипотезы на первый взгляд покажутся, может быть, неприемлемыми, так как они расходятся с общими мнениями. Я, однако, не сомневаюсь в том, что впоследствии они – благодаря сопровождающим их доказательствам [то есть экспериментам] – завоюют себе авторитет… [М]ы очень редко обращались за помощью к древним писателям и к грекам… Наша наука о магните далека от большинства их принципов и правил… [Н]аше время открыло и вывело на свет многое такое, что охотно приняли бы и они, будь они живы. Вот почему и мы, не колеблясь, решили изложить в виде правдоподобных [probabilibus] гипотез то, что мы обнаружили благодаря долгому опыту{849}.
Гильберт здесь использует слово «гипотеза» в значении «теория»; мы предполагаем, что гипотеза ждет подтверждения или опровержения, но гипотезы Гильберта берут начало в длинном ряде экспериментов и подтверждаются ими. Это новые дополнения достоверного знания – в нашем понимании, теории. С таким же значением слова «гипотеза» мы сталкиваемся у Галилея. В трактате о солнечных пятнах утверждение о том, что Луна непрозрачна и что на ней есть горы, он называет истинной гипотезой, подтвержденной чувственным опытом{850}.
Таким образом, стандартное современное значение слова «гипотеза» – объяснение, которое можно подвергнуть проверке и которое при подтверждении приобретет статус теории, – прочно укоренилось лишь в 1660-х гг.{851} В 1660 г. Роберт Бойль описывал эксперимент, предложенный Кристофером Реном, отмечая, что он «покажет истинность или ошибочность картезианской гипотезы касательно морских приливов и отливов»{852}. Это слово часто встречается в «Экспериментальной философии» Пауэра (1664), а в 1665 г. Гук предваряет свою «Микрографию» посвящением Королевскому обществу: «Правила, которые вы предписали себе для развития философии, являются лучшими из всех тех, которым когда-либо следовали. В особенности в том, чтобы избегать догматизации и исключать гипотезы, которые недостаточно обоснованы и не подтверждены опытом». С этого момента «гипотеза» – в значении предположения или вопроса (если использовать терминологию Гука), который может быть подтвержден или опровергнут наблюдением или экспериментом, – заняла центральное место в терминологии новой науки. Можно утверждать, что слово «гипотеза» приобрело современное значение после основания Королевского общества.
Эти разные значения слова «гипотеза» объясняют тот факт, что оно часто встречается в текстах XVII в. Большинство математиков – Галилей, Паскаль, Декарт, Ньютон – были знакомы с использованием его в астрономии, однако стремились избегать его в другом контексте. Но когда термин получил распространение в связи с тем, что систему Коперника стали называть гипотезой, то незамедлительно появились и другие гипотезы – магнитная, атомная, механистическая. Это были фундаментальные теории новой науки, внутри которых имелись гипотезы меньшего масштаба, например гипотеза магнитного склонения стрелки компаса, выдвинутая Диггесом, или предположение Бойля о сжимаемости воздуха.
Однако новый термин не был лишен противоречий, в частности, из-за того, что Декарт признал возможность (а в некоторых случаях и необходимость) ложности гипотезы. Во втором издании «Начал» (1713) Ньютон написал: «hypotheses non fingo», – эти слова он сам перевел как «я не сочиняю гипотез»[261]{853}. И Коперник, и Фрэнсис Бэкон писали об астрономах, «придумывающих» эксцентрики и эпициклы, которые рассматривались как воображаемые сущности[262]{854}. То есть Ньютон имел в виду: «Я не придумываю воображаемые сущности, чтобы объяснить природные свойства»[263]. В «Рассуждении о методе» (1637) Декарт отверг философию Аристотеля как «умозрительную»; его философия выявит истину, предлагая объяснения (гипотезы, как мы сказали бы теперь), которые можно проверить экспериментально{855}. Однако в «Первоначалах философии» (1644) он отступает от этой позиции, признавая, что зачастую невозможно выбрать между возможными объяснениями, поскольку мы не видим, что действительно происходит в невидимом мире частиц, из которых состоит наблюдаемый мир. Как часовщик, который смотрит на часы снаружи, может вообразить разные конструкции механизма, так и философ должен признать, что возможны несколько в равной степени хороших объяснений природного процесса и не всегда можно придумать тест, чтобы выбрать одно из них{856}. Именно этот процесс придумывания объяснений и отвергал Ньютон, настаивая, что hypotheses non fingo. (Тот факт, что слово «гипотеза» ассоциировалось с его старым врагом, Гуком, не имел особого значения.) По мнению Ньютона, стоящими можно считать только те гипотезы, которые можно проверить, но, выдержав проверку, они перестают быть гипотезами. Гильберт и Галилей использовали термин «гипотеза» для обозначения не того, что может быть истиной, а того, в истинности чего мы уверены, но для Ньютона это не имело смысла – так же как и для нас.
Эксперимент Паскаля на горе Пюи-де-Дом объяснил уровень ртути в барометре, показав, что он напрямую связан с весом воздуха. Причинно-следственная связь была очевидна: воздух и ртуть уравновешивали друг друга. С точки зрения философа XVII в., придерживавшегося традиционных взглядов, объяснение выглядело странно. По мнению Аристотеля (как мы уже видели в главе 3), причинно-следственные связи имели четыре компоненты: формальная причина, конечная причина, материальная причина и действующая причина. В объяснении Паскаля, почему ртуть не опускается в торричеллиевой трубке, формальная и материальная причины настолько несущественны, что не представляют интереса, а конечная причина исчезла вообще. Ртуть можно заменить водой или вином, и поэтому тип жидкости не имеет значения – годится любая. Свинцовую трубку можно заменить стеклянной; в этом случае материал тоже не важен, поскольку подойдет любая запаянная с одного конца трубка. У ртути нет естественного стремления собираться в виде столба, и поэтому конечная причина отсутствует. Остается только действующая причина, равенство весов, а также структура, или форма, которая делает это равенство возможным, – трубка, один конец которой запаян, а другой погружен в сосуд с ртутью. Для сторонника Аристотеля существует лишь одна дисциплина, которая выделяет действующие причины и структуры и игнорирует все остальные, и эта дисциплина – механика. Объяснение Паскаля является механистическим, и его необычность состоит в том, что оно распространяет объяснения из искусственного мира рычагов и блоков на природный мир газов и жидкостей. Более того, подобно любому механистическому объяснению, теория Паскаля могла быть выражена математически, либо в форме непосредственных измерений (фунтов на квадратный дюйм или высоты столба ртути), либо в форме отношения (поскольку барометр представляет собой весы, отношение двух весов равняется 1:1, но перенос барометра на вершину Пюи-де-Дом демонстрирует, что Y метров воздуха по весу равны X сантиметрам ртути). Вот почему вклад Бойля в спор о пустоте был назван «Новые физико-механические опыты»; теперь механику использовали для объяснения физики.
Эксперимент Паскаля на горе Пюи-де-Дом кажется нам очень простым и понятным, но лишь потому, что мы привыкли к современной физике. Для последователей Аристотеля он не объяснял происходящее – точно так же, как нам кажется странным, что неодушевленные предметы могут иметь стремления или цели. Объяснение Паскаля кажется нам приемлемым, а последователям Аристотеля – нет, и поэтому они (а во времена Паскаля большинство интеллектуалов придерживались концепции Аристотеля) пытались скрыть его, заменив предположением, что природа не терпит пустоты. Нам трудно представить образ мысли, в котором объяснение Паскаля выглядит явно неудовлетворительным и ему предпочитают объяснение в терминах целей природы.
Проблема последователей Аристотеля заключалась в том, что они не могли придумать объяснение, которое успешно предсказывало бы результат эксперимента на горе Пюи-де-Дом. Почему на вершине горы природа не терпит пустоты не столь сильно, как у подножия? Паскаль мог ответить на этот вопрос, а они не могли. Объяснение Паскаля можно было проверить, показав, что оно работает. Но, признав его приемлемым, философы должны были изменить взгляды на причины, должны были удовлетвориться объяснениями, которые обычно предоставляют математики. Даже те, кто считал объяснение Паскаля неверным, признавали его способность делать точные прогнозы (например, что высота столба воды в торричеллиевой трубке будет в четырнадцать раз превышать высоту столба ртути) – в отличие от них самих.
Рассмотрим еще один пример, знакомый Паскалю: закон (как мы его называем) падения тел, сформулированный Галилеем. Галилей показал, что (в отсутствие сопротивления воздуха) все падающие тела ускоряются одинаково, и поэтому можно предсказать расстояние, пройденное падающим телом за любое время, а также его конечную скорость; они связаны между собой таким образом, что единицы измерения не имеют значения. Пройденное расстояние пропорционально квадрату времени, независимо от того, измеряем ли мы их в футах и секундах или в километрах и «Аве Мария» (то, что у нас единая система измерения времени и несколько систем измерения расстояния, – чистая случайность, но в начале современной эпохи люди использовали неофициальные меры времени, такие как продолжительность чтения молитвы «Аве Мария»). Закон падения тел Галилея математически описывает, что происходит при падении тел в идеальных условиях, но ничего не объясняет. Он указывает, что нужно измерить, и позволяет сделать предсказание, но не дает ответа на вопрос: «Почему?»
Если наука объясняет какие-то вещи, это не наука. Наукой ее делает не объяснение, а тот факт, что она позволяет делать надежные предсказания на основе математической модели. Таким образом, признание закона падения тел настоящей наукой – более радикальный шаг, чем признание объяснения Паскаля, почему в барометре не опускается столбик ртути. На первый взгляд, причина в том, что закон Галилея неполон: теория тяготения Ньютона объясняет как закон падения, сформулированный Галилеем, так и законы движения планет Кеплера. Отчасти это действительно так, но у Ньютона не было никакого объяснения, что такое тяготение и как оно действует, и он, как мы видели, это признавал. Теория тяготения просто обеспечивала надежные предсказания в более широкой области. Проблема объяснения не была разрешена, а просто переместилась. Поэтому понятна реакция Гюйгенса на теорию тяготения Ньютона: «Я не думал… об этом упорядоченном уменьшении тяготения, а именно что оно обратно пропорционально квадратам расстояний от центра, что является новым и замечательным свойством тяготения, причину которого стоит искать»{857}. Гюйгенсу все еще нужны объяснения; Ньютон покинул мир объяснений и вошел в новый мир – мир теории.
Научные объяснения не полны (по крайней мере, не совсем): они останавливаются, причем зачастую внезапно. Научный закон отмечает точку, за которой уже нет объяснений, хотя дальнейшие объяснения иногда приходят позже. Наука Аристотеля была другой: у философов не было ощущения, что их объяснения не полны в важных аспектах, и поэтому их представление об успехе отличалось от представления Галилея или Паскаля. Для них доказательством успешности системы знания является тот факт, что они могут объяснить все, хотя эти объяснения зачатую кажутся нам циклическими: в пьесе «Мнимый больной» Мольер высмеивал идею, что можно объяснить, почему опиум погружает людей в сон, утверждая, что он «обладает снотворной силой, природа которой состоит в том, чтобы усыплять чувства». После Паскаля подобные объяснения выглядят глупо – но не до Паскаля.
Для Галилея, Паскаля или Ньютона главной была способность делать успешные предсказания там, где раньше это считалось невозможным. Но для этого следовало признать ограниченность своего знания. Последователи Аристотеля оглядывались назад, полагая, что Аристотель уже знал все, что необходимо; новые ученые смотрели вперед, стремясь расширить диапазон вопросов, в которых они могут делать удовлетворительные предсказания. Одна из причин, почему новая наука делала успехи, а старая философия топталась на месте, заключалась в том, что новая наука осознавала свое несовершенство и свою неполноту.
Что такое наука? Джеймс Брайант Конант, который может с полным основанием претендовать на титул основателя современной истории науки (он был учителем Куна), определял ее как «ряд концепций или концептуальных конструкций (теорий), основанных на экспериментах и наблюдениях»{858}. Таким образом, наука – это интерактивный процесс между теорией, с одной стороны, и наблюдением (наш старый друг «опыт») – с другой. В астрономии этот процесс начался с Тихо Браге; в физике – с Паскаля. Мы можем четко проследить его в записных книжках Ньютона, хотя сам Ньютон и скрывает это в своей первой публикации. Совершенно очевидно, что такие громадные изменения в природе знания должны были отразиться на языке науки: и они действительно отразились, хотя язык, на котором мы говорим о науке, для нас настолько привычен, что ключевой момент этой языковой адаптации стал почти полностью невидимым{859}. Саму адаптацию – если понять ее необходимость – обнаружить легко, и тогда ее значение очевидно.
Начать полезно с того, как объясняется слово thorie во французских словарях{860}. Только в конце XIX в. мы находим в них (в выдающемся словаре Литтре) современное значение, а в качестве примеров – теории тепла и электричества. Прежде теория определялась как умозрительное, а не практическое знание (этимологические корни – греческое слово со значением «смотреть» или «наблюдать»), за одним-единственным исключением – la thorie des plantes, математические модели движения планет. Если мы попробуем найти слова theory/thorie/teoria у Галилея, Паскаля, Декарта, Гоббса, Арно и Локка, то ничего не найдем[264], тогда как Юм часто использует этот термин в современном значении – причем все чаще и чаще.
В английском языке XVI в. слово theory (или theoric, поскольку они были взаимозаменяемы) использовалось так, как и следовало ожидать после анализа французских словарей: с одной стороны, для обозначения умозрительного или абстрактного знания, обычно противопоставляемого практике (например, музыканты изучают теорию и практику музыки, а артиллеристы изучают теорию и практику стрельбы), а с другой – для указания на теорию движения планет. Таким образом, ссылки на теории Птолемея и Коперника являются ссылками на математические модели космоса. Первый пример использования слова «теория» в современном значении, без привязки к математической модели, я нашел в трактате Бэкона «Sylva sylvarum» (1627), когда он критикует объяснение приливов и отливов, выдвинутое Галилеем.
Галилей верно это заметил; если открытый сосуд с водой перемещать быстрее, чем вода успевает следовать за ним, то вода собирается у задней части, откуда начинается движение. Это он (твердо уверенный в движении Земли) полагает причиной океанских приливов и отливов, поскольку Земля перегоняет воду. Это ложная теория, хотя первый эксперимент – истина[265]{861}.
По всей видимости, именно после Бэкона стало распространяться это новое значение слова «теория»[266]. Мы встречаем его в 1649 и 1650 гг. в переводах и комментариях к работам ван Гельмонта, а в 1653 г. – в переводах и комментариях к работам Декарта: в обоих случаях отсутствовал эквивалент на языке оригинала{862}. В 1660 г. Бойль объявил, что собирается предложить новые эксперименты, связанные с пустотой, – но не новые теории[267]; в 1662 г. он с гордостью представляет новую «теорию» (его термин), которую мы теперь называем законом Бойля{863}. В «Философских трудах» Королевского общества впервые это слово в новом значении встречается, по всей видимости, в редакционном предисловии Ольденбурга к объяснению приливов Джона Уоллиса (сам Уоллис пишет о гипотезе, предположении, догадке, но не о теории, однако в указателе это уже «новая теория»), а второй раз – в «Опытах, предложенных доктору Лоуэру» (Tryals proposed to Dr Lower), касающихся переливания крови у животных{864}. В «Истории» Спрэта (1667) термин «теория» уже полностью приобретает современное значение: даже о схоластах говорится, что у них имеются теории, а выработка новых теорий теперь становится такой же важной частью науки, как и проведение экспериментов»{865}. Письмо Ньютона Королевскому обществу Ольденбург озаглавил так: «Письмо мистера Исаака Ньютона, профессора математики в Кембриджском университете, относительно его новой теории света и цветов»[268]. Фраза «новая теория» появляется в последующих его произведениях: «Оптика» (1704) представляется как исследование в области «теории света»[269]{866}. Традиционно оптика считалась разделом математики, и закон Бойля представляет собой математическое взаимоотношение, но Гук пишет не только об «истинной теории эластичности, или упругости», но также о своей новой теории пламени, в которой нет никакой математики{867}. В названии книги слово «теория» в новом значении впервые появляется в «Telluris theoria sacra» (1681) Бернета, переведенном в 1684 г. как «Теория Земли», затем в 1696 г. в «Новой теории Земли» (A New Theory of the Earth) Уильяма Уистона. Во французском языке новое значение, по всей видимости, первыми признали математики (Nouvelle thorie du centre d’oscillation Иоганна Бернулли, 1714), и оно быстро распространилось на другие области: В «Письме о философии Ньютона» (1738) Вольтер обсуждает la thorie de la lumire. В 1732 г. книгу Джорджа Беркли перевели на итальянский как Saggio d’una nuova teoria sopra la visione.
Новое значение слова «теория» имеет огромное значение для понимания целей, которые ставила перед собой новая наука. Традиционно философия занималась scientia, истинным знанием, но математики, практиковавшие астрономию, удовлетворялись математическими моделями – гипотезами, теориями, – которые могли соответствовать или не соответствовать действительности, но более или менее точно описывали явления. Математические теории были не объяснениями, а концептуальными системами для составления предсказаний. Объявленная Бойлем новая теория о давлении газов (1662) или новая теория света Ньютона (1672) не были объяснениями – они не отвечали на вопрос почему; это были концепции, позволявшие успешно предсказывать результаты экспериментов и идентифицировать процессы в природе. Более того, слово «теория» несло в себе полезную неоднозначность: оно могло указывать либо на установленную истину (именно в этом значении его использовал Ньютон), либо на жизнеспособную гипотезу, маскируя разницу между теми, кто хотел заявить о неоспоримой истине, и теми, кто стремился сделать осторожные заявления о новом знании.
Приняв термин «теория», ученыеосвободили себя от озабоченности философов истиной – в смысле знания причин, а также того, что последователи Аристотеля называли сущностями, или формами. Локк и Ньютон утверждали, что мы не можем иметь знаний о сущности (предположим, что мир состоит из атомов – тогда мы не можем иметь представления об их размерах и форме), а только о свойствах (дуб твердый, бальза мягкая и т. д.). Знание сущности Ньютон заменял концептуальными моделями, надежными и точными. Философы науки вплоть до сегодняшнего дня были озабочены так называемым «реализмом», вопросом истинности науки; однако они не замечали, что само зарождение современной науки сопровождалось отказом от старого представления об истинном знании (scientia), на смену которому пришло понятие «теории»[270]. Укоренение этого слова отмечает разрыв между классическими традициями философии и математики, целью которых была дедукция и истинное знание сущностей, и современной наукой, которая занимается жизнеспособными теориями. Эту перемену знаменует название работы Локка «Опыт о человеческом разумении» (Essay concerning Humane Understanding, 1690). Это книга не о знании (теперь считается, что оно находится за пределами человеческих возможностей), а о понимании: даже слово «опыт» предполагает, что это понимание временно. В обращении к читателю Локк пишет, что если понимание «…самая возвышенная способность души, то и пользование им приносит более сильное и постоянное наслаждение, чем пользование какой-нибудь другой способностью. Поиски разумом истины представляют род соколиной или псовой охоты, в которой сама погоня за дичью составляет значительную часть наслаждения. Каждый шаг, который делает ум в своем движении к знанию, есть некоторое[271] открытие, каковое является не только новым, но и самым лучшим, на время по крайней мере». Таким образом, наше знание не абсолютное, а последовательное, не постоянное, а временное. Мы движемся вперед, но, в отличие от псовой охоты и погони за дичью, никогда не настигнем добычу.
Поэтому даже Галилей был всего лишь невольным ученым, поскольку всегда стремился к несомненности дедукции; скорее современная наука начинается с описания Бэконом галилеевской демонстрации движения Земли как «теории». В 1660-х гг. стандартная научная терминология в английском языке включала «факты», «свидетельства» (позаимствованные из юриспруденции; их мы будем обсуждать в следующей главе), а также «гипотезы» и «теории» (из астрономии). Появилась наука. Первой книгой, где встречались все эти слова в современном значении, а также слово «эксперимент» (тоже в современном значении), был пересказ Уолтером Чарлтоном работы ван Гельмонта «Триада парадоксов» (1649). Чарлтон осознанно и намеренно вводил новации в английский язык: в Оксфордском словаре он цитируется 151 раз, когда речь идет о первом использовании того или иного значения (например, projectile (снаряд), pathologist (патолог) и – увы, ошибочно, – erotic (эротика){868}. Но ни одно из значений, которое нас интересует, не было для него новым, и он сам настаивал на удивительных достоинствах английского, «на освященном веками величии родного языка, из которого, я вас уверяю, можно сшить красивую и удобную одежду для появления на публике самых изящных концепций разума, не хуже, чем из любого другого языка в мире, особенно после его усовершенствования искусством и трудами двух выдающихся умов, лорда Сент-Олбанского [Фрэнсиса Бэкона] и ныне здравствующего доктора Брауна. Из их несравненных трудов можно составить целый том таких исполненных смысла и значения выражений, словно непосредственно извлеченных из лучших образцов возвышенной мысли, что они могут пошатнуть предвзятую аксиому некоторых ученых мужей, называющих латынь самым созвучным и уместным языком разумной души{869}.
Язык Чарлтона современники восприняли неодобрительно, и следующую свою работу, «Deliramenti catarrhi» (1650), он начинает с длинной, исполненной горечи обличительной речи против тупоголовых клеветников, извращенный вкус которых, по его утверждению, заставляет питаться «только грубыми салатами из умерших поэтов и слащавых романов, приправленных женственными экстрактами театра и посыпанных новыми франко-английскими идиомами» – вместо собственного мужественного идиолекта. Но Чарлтон был одним из самых активных членов Королевского общества в первые годы его существования, и его идиолект, прирученный и одомашненный Бойлем и Спрэтом, стал языком науки. Там, где старая философия предъявляла претензии на неоспоримые истины, новая брала пример с астрономии и юриспруденции, дисциплин, в которых факты и свидетельства давно уже служили для выработки надежных, даже неопровержимых гипотез и теорий.
11. Свидетельство и суждение
Я покачал головой.
– Многих вздернули на виселицу и без столь веских улик, – заметил я.
– Верно. И многие были невиновны[272].
Артур Конан Дойль. Тайна Боскомской долины (1891).Приключения Шерлока Холмса
Повторим вопрос: что такое наука? Ответ: знание естественных процессов, основанное на свидетельствах. Следовательно, наука невозможна, если нет концепции свидетельства. Однако если мы посмотрим, как использовали слово evidence («свидетельство», «доказательство») ученые XVII в., то обнаружим нечто странное: само слово у них было, но им почти не пользовались. Например, Бэкон, который явно был знаком с термином evidence в юридическом контексте, никогда не применял его в рассуждениях о натурфилософии{870}. То есть либо в те времена представление о свидетельстве отличалось от нашего, либо существовали препятствия к использованию этого слова{871}.
Начинать нам следует с осознания, что у слова evidence имеется четыре разных значения. Evidence может означать нечто очевидное. Например, очевидно, что 2 + 2 = 4. Это – изначальное значение слова evidence, происходящее непосредственно от латинского evidentia. Поскольку этимологически это основное значение, то в Оксфордском словаре оно указывается первым, с двумя примерами, датируемыми 1665 г., – несмотря на то, что другие его значения встречаются еще в 1300 г. (в самом раннем значении существительное evidence означает образец для подражания). Один из первых примеров употребления этого слова можно найти у Роберта Бойля: «Существуют определенные истины, которые содержат в себе столько естественного света, или свидетельства, что… это не может быть скрыто»{872}. В использовании слова evidence в этом значении присутствует сравнение того, что очевидно уму и что очевидно глазу. Превосходной иллюстрацией такого сравнения может служить фрагмент из работы Джона Локка «Опыт о человеческом разумении» (1690):
Так как восприятие ума всего удобнее объяснять словами, относящимися к зрению, то смысл того, что мы подразумеваем под ясностью и смутностью в своих идеях, мы поймем всего лучше при размышлении о том, что мы называем ясным и смутным в объектах зрения. Так как свет обнаруживает нам видимые объекты, то мы называем смутным то, на что не падает света, достаточного для обнаружения точной формы и цвета, которые наблюдаются в предмете и были бы различимы при лучшем освещении. Соответственно наши простые идеи ясны, когда они таковы, как сами объекты, от которых они получены, и представляются или могут представляться через хорошо упорядоченное ощущение, или восприятие…{873}
В других местах Локк использует слово evidence («достоверные доказательства», «очевидность в доказательствах»), однако предпочитает слово «ясный» и говорит о том, что «Бог поместил некоторые вещи на яркий дневной свет, даровав нам некоторое достоверное знание»{874}. Таким образом, его рассуждения о ясных и точных идеях следуют примеру Декарта, который утверждает, что в дискуссии могут быть использованы только ясные идеи[273].
Одна из причин, почему Локк по возможности избегает слова evidence, состоит в том, что в английском языке это слово имеет несколько значений. Так, в 1654 г. Уолтер Чарлтон предложил английский перевод двух латинских фраз, с помощью которых Гассенди кратко описал эпистемологию Эпикура, используя слово evidence (свидетельство): «Истинно то мнение, которое согласно или не отвергается свидетельством чувства, а ложно то, которое свидетельство чувства либо не подтверждает, либо опровергает»{875}. Поскольку Чарлтон переводил латинское evidentia, он должен был использовать evidence в значении «очевидность» или «свидетельство», что подтверждается его же сноской: «Подтверждение свидетельства чувства означает убежденность, что наше понимание объекта или суждение о нем, исходящее из нашего чувства, полностью соответствуют действительности, что этот объект действительно такой, каково наше мнение или суждение о нем, полученное посредством чувства»{876}. Таким образом, свидетельство чувства не является, как можно подумать, свидетельскими показаниями чувств, а уверенностью, что наши чувства правильно отражают объект. Пример Чарлтона – это фигура, приближающаяся к нам издалека: в определенный момент становится очевидно, что это Платон. Оксфордский словарь английского языка явно ошибается, предполагая, что evidence не встречалось в этом значении до 1665 г. Например, в 1615 г. Томас Джексон аккуратно использует это слово в том значении, которое оно имело в латинском языке:
Evidence, помимо ясности или понятности (прямо и формально включенных в главное и исконное значение), дополнительно несет в себе представление о таком полном понимании рассматриваемого объекта, которое полностью удовлетворяет наше желание (поскольку очевидно, что мы вряд ли считаем знание, лишенное подобного понимания, способным предоставить подробности, в которых заключены дополнительные или лучшие сведения, чем оно уже содержит)…{877}
Во-вторых, слово evidence использовалось в качестве термина в английской (и только английской) юриспруденции. Первоначально (с 1439) английские суды рассматривали testimony (показания очевидцев) и evidence (свидетельства) – так назывались документы, имеющие отношение к делу; затем (с 1503) evidence стало обобщающим термином, включающим и показания очевидцев, и документы. «Evidence (Evidentia), – пишет Джон Коуэлл в «Толкователе» (1607), словаре юридических терминов, – обычно используется в нашем судопроизводстве для обозначения любого доказательства, будь то свидетельские показания человека или документ»{878}. Для этого юридического значения слова evidence в латинском языке нет единого термина; документы – это instrumenta, а свидетельские показания – testimonium. Назовем этот обобщенный термин «юридическим свидетельством». Чарлтон в книге «Триада парадоксов» также использует evidence именно в этом, юридическом значении: «Теперь, к вашему сведению, мы сделаем своей задачей защищать магнетизм и благодаря свидетельству меридианных истин победить невежество и упрямство его противников»{879}.
Еще раньше слово evidence означало все, что дает основание для веры или согласия («свидетельство-согласие»). Поэтому Коуэлл расширяет свое определение evidence: в процессе суда, отмечает он, обвиняемого допрашивают. Он «говорит то, что может сказать: после него все те, у кого есть подозрения относительно обвиняемого, или те, кто может дать любые признаки или указатели, которые мы называем на нашем языке (Evidence), против злоумышленника». Он цитирует сэра Томаса Смита (ум. 1577). Смит и Коуэлл понимают, что данное значение слова evidence характерно только для английского языка. В латинском языке признаки и указатели – это signa или indicia; во французском – preuves. Таким образом, мы получаем четвертое значение слова evidence – «свидетельство-признак». В английских судах «свидетельства-признаки» рассматривались только в том случае, если они были представлены в виде свидетельских показаний или документов, как часть «юридического свидетельства».
Именно «свидетельства-признаки» мы имеем в виду, когда говорим, что наука опирается на свидетельства. Так, оставленный на месте преступления отпечаток пальца является «свидетельством-признаком», указателем, или знаком, присутствия конкретного человека. Коуэлл приводит пример, объясняя слово «банкрот»:
Bankrupt (или brankrowte) происходит от французского (banque route) и (faire banqueroute), а также от латинского (foro cedere, solum vetere). Я полагаю, что состав французского слова (banque, то есть mensa) и (route, то есть vestigium) метафорически отсылает нас к оставшемуся на земле следу от стола, ранее стоявшего на этом месте, а затем убранного. Таким образом, оно, по всей видимости, происходит от тех римских менял (mensarii), которые, как свидетельствуют многие авторы, ставили столы (tabernas et mensas) в общественных местах, а затем могли обмануть людей, которые доверили им свои деньги, и убежать, но в этих местах оставались следы от их столов{880}.
Вы доверяете деньги тому, кто поставил стол на рынке. Однажды вы идете на рынок и видите на месте стола только след на земле, vestigium. Это указатель, или знак, что стол убрали; факт исчезновения стола служит признаком, что меняла вышел из бизнеса, а тот факт, что он вышел из бизнеса, подразумевает, что вы лишились своих денег.
Чарлтон также использует слово evidence в этом значении. Он пишет, что если обвести вокруг опухоли сапфиром, то опухоль исчезнет, и утверждает, что сапфир действует на опухоль на расстоянии (магнетически): «Само место даст более уверенные и удовлетворительные свидетельства действия магнетизма; оно не становится черным и горячим за одну минуту после соприкосновения с сапфиром, а много минут спустя… болезнь успешно изгоняется благодаря магнетическому притяжению отсутствующего камня»{881}.
Такого рода аргументы были хорошо знакомы древним римлянам. Эти аргументы начинаются с вещей (того, что мы называем фактами) и подробно обсуждаются в книге 5 «Риторических наставлений» Квинтилиана, труда, датируемого I в. Например: А найден мертвым, и в его теле остался нож, принадлежащий Б. Это признак, что А убит Б, – если только нож не был украден у Б или А напал на Б и Б просто оборонялся. Таким образом, подобные признаки не могут быть исчерпывающими доказательствами; это всего лишь указатели, и их следует интерпретировать в соответствии с контекстом. У Квинтилиана признаки называют приметами или следами, «…через кои другая вещь означается, как, например через кровь открывается смертоубийство. А как кровь может попасть на одежду и при заклании жертвы, и от течения ея из носу, то окровавленная одежда не всегда показывает смертоубийство. Но сие, будучи само по себе недостаточно, если присоединится к прочим признакам, служит вместо доказательства [ceteris adiunctum testimonii loco ducitur], когда доказано, например, что обвиняемый был враг убитому, что грозил ему прежде, что находился на том же месте. Тогда благодаря сему признаку то, о чем сомневались, покажется уже несомнительным, верным»[274]{882}.
Такие доказательства-признаки мы называем косвенными доказательствами, что в юридическом смысле означает «контекстуальные». Самим этим термином, circumstantial, (буквально: связанные с обстоятельствами) мы обязаны Квинтилиану, единственному из латинских авторов, использовавших circumstantia не для указания положения в пространстве (овцы, сгрудившиеся вокруг пастуха), а в значении «спорный вывод, зависящий от контекста». Квинтилиан приводит вымышленный пример обращения к обстоятельствам. Предположим, существует закон, согласно которому верховный жрец может помиловать осужденного на смерть преступника, а также другой закон, гласящий, что если одного виновного в супружеской измене приговорили к смерти, то и его партнер также должен быть казнен. Верховного жреца уличают в супружеской измене и приговаривают к смерти. «Никаких проблем, – говорит он. – Я помилую самого себя». «Вовсе нет, – отвечают ему. – Если ты помилуешь себя, то твой партнер не будет казнен, и таким образом ты помилуешь двух человек, на что не имеешь права. Поэтому ты должен умереть». В конкретных обстоятельствах супружеской измены право верховного жреца на помилование не может быть применено{883}.
Из латыни Квинтилиана circumstance и circumstantial вошли в английский язык как указатель на неполные (однако важные) аргументы, которые следует рассматривать в контексте. Вот что писал иезуит Роберт Парсонс в 1590 г.:
Несмотря на утверждение апостола Павла, вещи, в которые мы верим, существуют не сами по себе, как может показаться очевидным из человеческих рассуждений. Но таковы доброта и благие деяния нашего милосердного Господа, что он не оставляет себя без достаточного свидетельства, внутреннего и внешнего, как свидетельствует в другом месте тот же апостол. Что касается внутреннего, оно свидетельствует истину тех вещей, в которые мы верим, давая нам свет и понимание вместе с внутренней радостью и утешением веры в них. А внешне он дает свидетельства того же с таким множеством удобств, вероятностей и аргументов убедительности (как называют их святые), хотя сама суть того, во что мы верим, все еще остается не совсем ясной. Тем не менее существует столько обстоятельств правдоподобности, порождающих в человеке веру, что было бы неразумно отрицать их или не доверять им{884}.
Вероятность, аргументы достоверности, обстоятельства правдоподобия – все это производные от «свидетельств-признаков». Сами они не являются «свидетельскими показаниями», письменными или устными, но когда мы находим их в Библии, как будто организованные Богом, то они становятся эквивалентом свидетельских показаний. Именно Библия и традиции церкви являются источником текстовых свидетельств; обстоятельства помещают свидетельства в определенный контекст и сопровождают их. Внутренний свет, понимание и радость действуют аналогично свидетельствам: для Парсонса именно они свидетельствуют об истинности наших убеждений.
Эти четыре типа свидетельств (ясность, юридическое, согласие и признак) оставляют много простора для путаницы и зачастую противоречат друг другу. Джон Уилкинс в изданной после его смерти работе «О принципах и устоях естественной религии» (Principles and Duties of Natural Religion, 1675) максимально расширил дискуссию о свидетельствах основания для веры (свидетельство-согласие); в понятие «свидетельства» он включает чувство, демонстрацию [то есть дедукцию], свидетельские показания и опыт. Первые два являются свидетельствами чего-либо, вторые два – свидетельствами для чего-либо{885}. Свидетельство для веры (юридическое свидетельство, свидетельство-признак) может быть лучше или хуже, сильнее или слабее, а также вызывает разную «степень согласия» или «степени правдивости, уверенности или достоверности){886}. Аналогичным образом, свидетельство веры (свидетельство ясности) может быть больше или меньше, яснее или туманнее, производить разные степени знания. Локк различает «следующие три ступени познания: интуитивное, демонстративное и чувственное, причем для каждого из них существуют особые степени и виды очевидности и достоверности»{887}. По мнению Локка, свидетельства-признаки – и он использует слово «свидетельства» именно в этом значении, когда рассуждает о вероятности, – являются не формой познания (которое ограничено интуицией, демонстрацией и чувствами, всеми типами свидетельства чего-либо), а мнением, которое измеряется «степенями согласия». Тем не менее некоторые свидетельства-признаки могут рассматриваться как «надежное знание»{888}.
Совершенно очевидно, что разные типы профессиональной деятельности имеют дело с разными типами знания, или «свидетельствами ясности». Приверженцы философии Аристотеля считали, что все истинное знание может быть выражено в силлогистической форме, от бесспорных предпосылок к неопровержимым выводам, и все оно основано на «свидетельствах ясности». С другой стороны, юристов и богословов интересовали юридические свидетельства и свидетельства-признаки. С 1400 г. богословы обсуждали концепцию «внутренней убежденности» – свидетельства, на которое можно опираться, даже если речь идет о важных вещах. Например, я могу быть внутренне убежден, что этот город называется Римом, даже если я там никогда не был. Можно привести рассказы других людей, документы, карты, фотографии и много других свидетельств, подтверждающих существование места под названием «Рим». Подделать такое количество свидетельств абсолютно невозможно, и поэтому я твердо уверен, что Рим существует. Но это уверенность другого рода, отличающаяся от знания того, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, что может быть строго доказано; свидетельства в пользу существования Рима основаны на опыте, а значит, на вероятности[275]. Стандартный аргумент богословия состоял в том, что христианину необходима внутренняя убежденность в истинности своей веры, поскольку на кону стоит судьба его души.
Некоторые богословы не довольствовались внутренней убежденностью: в 1689 г. пресвитерианский проповедник Ричарт Бакстер подробно рассмотрел понятие свидетельства и пришел к выводу, что следует принимать во внимание лишь свидетельство ясности. Не следует опираться, утверждал он, на опыт в любой из его форм. «Даже наши философы-экспериментаторы и врачи находят, что эксперимент, который многократно удается, впоследствии не получается на других предметах, и они не знают почему. Ход внешних событий может быть определен неизвестными причинами»{889}. Истинная вера требует уверенности, а уверенность требует самоочевидности, или свидетельства-ясности. (Нас не должны смущать попытки Бакстера доказать самоочевидность Библии.)
На данном этапе становится ясно, что одна из характеристик научной революции – замена свидетельства-ясности свидетельством-признаком по мере того, как люди учились доверять косвенным и вероятностным доказательствам, а не интуитивным и демонстративным. Например, в опыте Торричелли невозможно увидеть давление воздуха, но высота ртутного столба указывает на это невидимое давление. Если вы смотрите на Луну в телескоп, то не видите горы, но неровная граница света и тени указывает на присутствие гор. Когда Галилей заметил спутники Юпитера, он не мог увидеть, что это луны, но их движение указывало, что они вращаются вокруг Юпитера. В каждом случае увиденное дает основания для надежного вывода. Математики начали обращаться с доказательствами так же, как юристы и богословы обращались с ними на протяжении многих столетий.
До сих пор мы рассматривали понятие «свидетельства», опираясь лишь на английские источники. В английском праве суждение в вопросах факта принимала коллегия присяжных: ее задача состояла в том, чтобы оценить свидетельства и решить, виновен подсудимый или нет{890}. Однако не существовало формальных правил, как следует принимать это решение. Правило «отсутствия обоснованного сомнения» было сформулировано только в XVIII в., и суть его состоит в том, что коллегия должна сама решать, что оно означает. Таким образом, присяжные могли – при желании – принимать решения на основе косвенных улик. Один из персонажей пьесы, написанной в 1616 г. и не без сарказма названной «Честный законник» (The Honest Lawyer), говорит:
- Когда бы при убийстве
- мы судили не по косвенным уликам и основаниям,
- то загубили б много жизней{891}.
В странах, где руководствовались римским правом, ситуация, как мы уже видели, была совсем иной. Там существовали четкие правила обращения со свидетельствами{892}. Судья собирал свидетельства, применял законы и выносил приговор. В случае смертного приговора вердикт требовал полного доказательства вины, например, показаний двух свидетелей, видевших, как было совершено преступление, или признания обвиняемого[276]. Квинтилиан говорит, что косвенное доказательство может заменить свидетеля, и впоследствии юристы ссылались на него, утверждая, что оно может считаться половиной полного доказательства. Когда обвиняемому грозил смертный приговор, но полное доказательство отсутствовало, стандартной процедурой была пытка, позволявшая получить признание, но пытку разрешалось применять только при наличии веских оснований для подозрений, составлявших половину полного доказательства. В английском языке мы используем слово proof (доказательство) для обозначения демонстрации (или математического доказательства), и поэтому понятие половины доказательства не имеет смысла, однако судьи в континентальной Европе и в Шотландии суммировали доказательства до тех пор, пока не получали полное доказательство или достаточное основание для применения пытки. Например, слухи составляли одну семьдесят вторую часть полного доказательства[277].
Таким образом, французы следовали латинским источникам и использовали слово preuve, или «доказательство», а не слово «свидетельство», однако они рассматривали доказательства как нечто, что могло суммироваться, подобно тому, как могут накапливаться свидетельства – пока доказательство не станет бесспорным. Но если в английском языке можно говорить о «свидетельстве» как едином целом – «свидетельство его вины неопровержимо», – то во французском необходимо использовать множественное число, les preuves. Стандартный перевод на французский термина «доказательная медицина» – mdecine fonde sur les faits. Французы были не единственными, у кого слово, обозначавшее свидетельство-признак, совпадало со словом, обозначавшим доказательство; это было характерно для всех современных европейских языков, за исключением английского и португальского (в котором evidencia часто использовалось во множественном числе, как в английском XVIII в.){893}.
Таким образом, существует (или кажется, что существует) фундаментальная связь между рассуждениями Квинтилиана о признаках и указателях и тем, как в XVIII в. смотрели на доказательства в юриспруденции англичане и жители континентальной Европы. Тем не менее некоторые специалисты утверждали, что концепция свидетельства появилась лишь около 1660 г. (именно поэтому я уделил столько внимания примерам свидетельства-признака, предшествовавшим этой дате){894}. Это утверждение было основано на различии трех типов свидетельств: свидетельств очевидцев, свидетельств чувств и свидетельств (за неимением лучшего термина) улик{895}. Ян Хакинг разделяет два последних типа, цитируя Дж. Л. Остина:
Например, я могу с полным основанием утверждать, что некое животное является свиньей, в ситуации, когда самого животного не видно, но на земле имеется множество следов, похожих на следы свиньи. Если я найду несколько ведер свиного корма, это будет дополнительным свидетельством, а издаваемые животным звуки и его запах станут еще более убедительным свидетельством. Но если затем появится само животное, то вопрос о дальнейшем сборе свидетельств отпадает; появление животного не добавляет свидетельств, что это свинья. Теперь я просто это вижу{896}.
Утверждается, что эта концепция свидетельства (свидетельство-признак) отсутствовала в эпоху Возрождения. Ее место занимала концепция знаков{897}.
Это утверждение включает ряд ошибок. Во-первых, в нем «знаки» (то есть указатели, следы или признаки) путаются с «сигнатурами»{898}. Согласно теории сигнатур, распространенной в эпоху Возрождения, в природе суть некоторых объектов выражается в их форме. Так, например, фасоль, имеющая форму человеческой почки, может быть полезна для лечения болезней почек. Эта доктрина, которой придерживались сторонники Платона и Парацельса, не имеет ничего общего с теорией знаков (также известных как указатели, следы или признаки). Во-вторых, утверждается, что эта теория знаков/сигнатур принадлежит к «низшим» дисциплинам, таким как медицина и алхимия, а юриспруденция и богословие не упоминаются вообще. В-третьих, утверждается, что знаки «читаются» наподобие текста и, следовательно, невозможно указать различие между свидетельствами очевидцев и свидетельствами улик. Здесь дискуссия становится интересной, поскольку, как было отмечено выше, Квинтилиан, а вслед за ним и Парсонс не считают признак эквивалентом свидетельства очевидца. Для них свидетельство очевидца является главной формой свидетельства (юридическое свидетельство), а свидетельство-признак должно ему соответствовать.
Тем не менее Квинтилиан проводил четкую границу между тем, что он называл «формальными» и «неформальными» доказательствами{899}. К неформальным доказательствам относятся документы, показания свидетелей и признания, данные под пыткой: они говорят сами за себя. Формальные доказательства должны быть выстроены защитником. Как мы уже видели, Квинтилиан отмечает, что некоторые признаки могут в буквальном смысле говорить за себя – залитая кровью одежда, крик, – однако другие в значительной степени зависят от интерпретации. Indicia, vestigia и signa (признаки, следы и знаки), таким образом, отличаются от документов или показаний свидетелей, даже если могут использоваться для тех же целей, что и документ или показания свидетеля. Считается, что утверждение, что знаки можно читать как текст, происходит из убеждения эпохи Возрождения, что Вселенная – это книга, книга природы, однако это помещает теорию знаков в неверный контекст. Корни теории знаков следует искать в юриспруденции, и знаки считаются говорящими, потому что судебные заседания представляют собой дискурсивные действия. Задача обвинителя – превратить кровь на одежде подозреваемого в эквивалент свидетельских показаний против него; то есть он должен заставить кровь говорить.
Пьер Гассенди в своем труде «Система философии» (Syntagma philosophicum, 1656) развил классическую доктрину признаков в сложную теорию познания{900}. Он выделяет два типа признаков. Одни позволяют нам узнать то, что мы могли бы узнать путем непосредственного чувственного восприятия, если бы находились в данном месте в нужное время. Это следы: стол менялы, ноги свиньи или палец преступника оставляют след, или отпчаток. Например, мы можем утверждать, что кратеры на Луне являются следами прошлых столкновений с астероидами. Знак «ведет нас к знанию чего-либо скрытого, подобно тому, как следы [vestigium] являются знаками, указывающими собаке, в какую сторону бежать, чтобы поймать дичь»{901}. Под «следами» Гассенди понимает свидетельства-признаки. С другой стороны, говорит он, существуют знаки, указывающие на то, что увидеть невозможно. Например, невозможно увидеть поры на коже, но капельки пота свидетельствует, что они там есть. Мы не можем видеть ног чесоточного клеща, но из того факта, что он двигается, мы можем сделать вывод, что у него есть ноги – или нечто подобное. Фактически, указывает Гассенди, после изобретения микроскопа и поры на коже, и ноги клеща стали видимыми, таким образом подтвердив достоверность предыдущих аргументов, свидетельствующих об их существовании. Такие аргументы зависят от аналогий: например, кожа сравнивалась с пористой глиняной посудой. Эта концепция аргументов, построенных на аналогии, была позаимствована последователями Эпикура из медицины, однако с ней были знакомы и юристы. Например, Квинтилиан полагает, что юрист должен апеллировать к тому, что мы назвали бы стереотипами: «Легче поверить, что мужчина – разбойник, а женщина – отравительница». Это аргументация по аналогии, основанная на обстоятельствах дела{902}.
Гассенди, конечно, прав, подчеркивая важность аргументации по аналогии. Когда в 1660 г. Роберт Бойль хотел объяснить новую теорию упругости воздуха, он сравнил воздух с овечьей шерстью, которую можно спрессовать, но которая снова расправляется, как только давление исчезает: эта аналогия, полагал он, делает правдоподобной теорию упругости. Торричелли сравнивал вес и давление воздуха с весом и давлением воды. Разница между двумя радикально отличающимися друг от друга типами умозаключения, следами и аналогиями по-прежнему важна для Локка. Никто не сомневался в надежности следов (например, не может быть шрама без раны), однако аналогии выглядели гораздо более туманными. Совершенно очевидно, что если в основе большей части нашего знания лежат аналогии, то такое знание не может быть надежным и от нас могут ускользать реальные причины явлений.
Гассенди не видел необходимости проводить четкую границу между свидетельством следов и свидетельством очевидцев, однако он явно не считал, что шрам является «очевидцем» раны{903}. Он различал показания очевидцев и свидетельства. Но если вы ошибочно полагаете, что ключевая проблема заключалась в различении признаков и свидетельских показаний, то должны прийти к выводу, что разделил их только Арно в «Логике Пор-Рояля», поскольку определил разницу между «внутренним свидетельством» и «внешним свидетельством». Внутреннее свидетельство – это свидетельство улик (его нож был в жертве); внешнее свидетельство – это показания очевидцев (жена говорит, что он все время был рядом с ней). Разумеется, Арно не использовал слово evidence (свидетельство), поскольку писал на французском, а не на английском. Он пользовался термином circonstances (обстоятельства). Например: «Чтобы вынести суждение о подлинности некоторого события и решить, стоит ли в него верить, надо рассматривать его не отвлеченно, само по себе, как рассматривают положения геометрии, а принимая в соображение все сопутствующие ему обстоятельства, и внутренние [улики], и внешние [показания свидетелей]»{904}.
Как мы уже видели, термин «обстоятельства» был введен Квинтилианом. Квинтилиан также отличает свидетельства признаков, или улик, от свидетельств очевидцев; и действительно, как в «Логике Пор-Рояля», свидетельства признаков у него «внутренние», а свидетельства очевидцев «внешние». В «Логике Пор-Рояля» довольно сложно понять, по отношению к чему свидетельства признаков являются внутренними. Нож может находиться в теле, но внутри чего находятся отпечатки пальцев? Как мы уже видели, у Парсонса разница проста: внутреннее свидетельство состоит из моих чувств, которые находятся внутри меня. У Квинтилиана все несколько сложнее: очевидцы и документы приходят к юристу снаружи, а формальные доказательства составляются им самим, в рамках риторики. Формальные доказательства – это вклад юриста в свидетельства. Арно не копирует Квинтилиана, а поправляет его, чтобы пойти еще дальше[278].
Можно ли считать «Логику Пор-Рояля» (1662) первым текстом, где проводится четкая граница между показаниями очевидцев и свидетельством-признаком? Как мы уже видели, в более ранних работах предполагалось, что одно может заменяться другим, а иногда (у Парсонса) эти понятия объединились. Тем не менее вот что писал Ричард Хукер (ум. 1600): «Достоверность вещей определяется либо известным состоянием и добросовестностью свидетельствующего, либо проявлением подобия истины, которую они содержат в себе»{905}. Точно такая же разница между внутренним («в себе») и внешним (показания очевидца) свидетельством отмечена в «Логике Пор-Рояля». Хукер неявным образом признает, что оба типа свидетельства должны рассматриваться в зависимости от обстоятельств. У обвиняемого кровь на одежде, но по профессии он мясник; свидетельские показания однозначны, но свидетель ненадежен. Тот факт, что одно свидетельство можно заменить другим, не означает, что Хукер не различает их; совершенно очевидно, что они разные по своей сути – одно основывается на закономерностях природы, другое на правдивости людей. Еще один пример: в 1648 г., задолго до публикации «Логики Пор-Рояля», Уилкинс уже утверждал, что открытия Архимеда (такие, как знаменитое зеркало, с помощью которого он поджег вражеский флот) могут показаться настолько удивительными, что возникает сомнение в их истинности («такие странные деяния, как… вряд ли покажутся достоверными даже в наши, более просвещенные времена»; то есть если мы на это не способны, каким образом это удавалось ему?), «не будь они описаны столь многочисленными и столь благоразумными авторами», и прежде всего Полибием, который либо был очевидцем, либо имел возможность побеседовать с очевидцами{906}. Здесь внутреннее свидетельство противопоставляется внешнему, как это часто происходит в суде. (У подозреваемого кровь на одежде, но жена говорит, что он все время был с ней.)
Таким образом, утверждение, что новая концепция свидетельства появлялась в 1660-х гг., ошибочно; куда ни посмотри, везде обнаруживаются переосмысленные рассуждения Квинтилиана. Новым был перенос понятий из одной дисциплины в другую. Раньше свидетельства-признаки занимали только юристов и богословов, а в 1660 г. они стали предметом обсуждения Королевского общества. Термин «внутреннее убеждение» раньше встречался только в богословских трактатах, но в 1662 г. его использовали первые статистики, Граунт и Петти{907}. Подобно фактам, которые переместились из зала судебных заседаний в лабораторию, свидетельства примерно в то же время проделали тот же путь; в процессе формирования нового типа знания внутреннее убеждение переместилось из богословия в науку. В том, что касается свидетельства, новая наука не изобретала новые понятия, а использовала старые.
Поиск новой концепции свидетельства в середине XVII в. обречен на неудачу из-за классического контекста, в котором на протяжении столетий обсуждался вопрос надежности выводов, сделанных на основе фактов. Контекстом была дискуссия об эпициклах Птолемея. По мнению последователей Аристотеля, эпициклы не обязаны существовать в действительности: всякое движение небесных дел должно представлять собой круговое движение вокруг центра Вселенной. Они рассматривали эпициклы как полезные инструменты, с помощью которых можно вычислять положение планет. Но математики интерпретировали видимое неравномерное движение планет по небу как свидетельство некой невидимой реальности, которая вызывает такое движение. Свои наблюдения за движением планет они считали свидетельством реальности эпициклов. Вот как описывал позицию математиков Клавий:
Как в натурфилософии мы приходим к пониманию причин через их следствия, так и в астрономии, которая имеет дело с небесными телами, находящимися очень далеко от нас, мы должны достигать знаний о них, о том, как они расположены и из чего составлены, при помощи наших чувств… Поэтому приемлемо и в высшей степени рационально, что из конкретных движений разных планет и их появления астрономы должны определять количество окружностей, по которым движутся планеты, совершая такие сложные движения, а также размер этих окружностей и их взаимное расположение… Однако наши противники пытаются ослабить этот довод, утверждая, что согласны, что все явления могут быть объяснены постулированием эксцентрических окружностей и эпициклов, однако из этого не следует, что упомянутые эпициклы существуют в природе; наоборот, они являются воображаемыми, а все явления, возможно, могут быть объяснены более простым способом, хотя еще нам неизвестным… Однако предположение о эксцентрических окружностях и эпициклах не только объясняет все известные явления, но и предсказывает будущие явления, время для которых в целом неизвестно. Так, если я сомневаюсь, будет ли в январе 1582 г. затмение полной Луны, то могу проверить это с помощью вычислений, основанных на эксцентрических окружностях и эпициклах, и таким образом развеять сомнения… Но неразумно предполагать, что мы должны заставлять небесные тела (но именно так мы и поступаем, если эксцентрические окружности фиктивны, как утверждают наши противники) подчиняться нашим фантазиям и двигаться так, как мы пожелаем, или согласно нашим правилам{908}.
Здесь аргументы Клавия совпадают с аргументами современных реалистов, которые утверждают, что наука должна приближаться к истине, поскольку в противном случае она не сможет делать успешные предсказания. Однако Роберт Бойль присоединился к философам и представил аргументацию, которая берет начало от Аверроэса и которой придерживаются современные прагматики и инструменталисты:
С какой бы уверенностью многие атомисты и другие натуралисты ни заявляли о своем знании истинных и реальных причин вещей, которые они пытаются объяснить, очень часто в своих объяснениях они могут лишь показать, что объясняемое явление может происходить так, как они говорят, но не продемонстрировать, как это происходит в действительности: точно так же часовщик может привести в движение все шестеренки часов и пружиной, и грузами, а пуля может быть вытолкнута из ружья не только посредством пороха, но также сжатого воздуха и даже пружины. Таким образом, одни и те же следствия производятся самыми различными причинами, и зачастую бывает очень трудно и даже невозможно нашему слабому уму с уверенностью определить один из нескольких возможных путей, тогда как природа может производить те же явления, которые она использовала, чтобы показать их{909}.
Часы на батарейке и часы с пружинным заводом выглядят одинаково: факт кругового движения стрелок ничего не говорит о механизме, приводящем их в движение. В терминах схоластики это была дискуссия о надежности апостериорного рассуждения; для нас это дискуссия о свидетельствах вещей, или свидетельствах-признаках. Ни сами споры, ни выдвигавшиеся в ходе их аргументы не были новыми во второй половине XVII в. Вот что писал в 1558 г. философ-гуманист Алессандро Пикколомини:
Предположим, что мы видим камень, с огромной силой ударяющийся о стену, и, не зная причины такой стремительности, воображаем, что камень выпущен из лука или арбалета. И предположим, что наша теория неверна, и камень мог быть выпущен из пращи. Тем не менее он ударил в стену с такой же силой, словно был выпущен из воображаемого лука. Но вышеупомянутая стремительность камня могла быть вызвана несколькими причинами. Точно так же, когда мы наблюдаем многочисленные движения планет в небе, и несмотря на то что истинные причины этих движений от нас скрыты, тем не менее этого нам достаточно для предположения, что если наши теории верны, то эти движения происходят из них так, как мы их видим. Этого более чем достаточно для вычислений, предсказаний и сведений, которые нам нужны, чтобы знать местоположение, величину и движение планет{910}.
Если этот спор между реалистами и инструменталистами похож на нашу дискуссию о природе научного знания невидимых сущностей, таких как электрон, причина этого заключена в использовании одной и той же концепции свидетельства. В этом споре отсутствует только слово, которому мы уделили столько внимания и в котором они не испытывали нужды: «свидетельство». Их словарь – проявления, предсказания и причины – прекрасно справлялся с задачей.
Начиная с 1640-х гг., после триумфа эксперимента, свидетельства, которые считали достаточными юристы, врачи и астрономы, – свидетельства улик или фактов – начали удовлетворять таких математиков, как Паскаль, при изучении физических явлений. Апостериорные рассуждения от явлений к причинам начали вытеснять априорные рассуждения геометров и философов-схоластов, которые настаивали, что единственная надежная форма рассуждений – это рассуждения от определений к следствиям. Точно так же, как астрономы признавали, что в принципе разные гипотезы одинаково хорошо могут справляться с задачей (Клавий не сомневался, что система Коперника дает верные предсказания, но был уверен, что Земля неподвижна, а не вращается вокруг Солнца), многие продолжали утверждать, что существует несколько превосходных, но не совпадающих объяснений опыта Торричелли. Паскаль не соглашался с ними.
Именно эту новую разновидность знаний имел в виду Спрэт, когда защищал Королевское общество от критиков, настаивая на исключительной надежности исходного пункта нового знания, экспериментального свидетельства. И действительно, Спрэт использует (что необычно для автора XVII в.) то же самое слово «свидетельство», что и мы:
Не существует какой-то одной вещи, одобряемой и практикуемой в нашем мире, которая подтверждена более убедительным свидетельством, чем то, которое требует Общество, за исключением лишь священных таинств религии. Почти во всех остальных вопросах веры, мнения или науки уверенность, посредством которой направляется человек, по твердости не сравнится с этой. И я беру на себя смелость обратиться ко всем благоразумным людям; во всех странах, управляемых законами, им достаточно согласия двух или трех свидетелей в вопросах жизненных и государственных; однако они не думают, что с ними обращаются справедливо в том, что касается знания, если они имеют совпадающие свидетельства числом шестьдесят или сто?{911}
Однако большинство новых ученых избегали слова «свидетельство», поскольку оно неизбежно несло в себе намек на суды – намек, который Спрэт хотел сделать явным. Так, в 1660 г. Бойль описывает один из экспериментов «как правдоподобное, но не демонстративное доказательство, что вода может быть трансмутирована в воздух»{912}. В данном случае он использует слово «доказательство», как будто пишет preuve на французском, вместо «свидетельства» в значении свидетельства-признака. В современном английском языке «правдоподобное доказательство» так же невозможно, как «фальшивый факт», но у Бойля «доказательство» используется в другом значении.
Кроме того, Бойль, как и все ученые XVII в., понимает, что большинство его читателей будут составлять математики. И он считает, что должен «…извиниться перед читателями из числа математиков. Некоторым, боюсь, не понравится, что я предложу в качестве доказательств такие физические эксперименты, которые не всегда демонстрируют вещи с математической точностью и аккуратностью; и еще в меньшей степени они одобрят, что я присовокуплю такие эксперименты для подтверждения толкований, как будто гипотез и предположений, должным образом осмысленных, недостаточно для убеждения любого рационального человека в вопросах гидростатики»{913}. Другими словами, он полагает, что должен извиниться за обращение к свидетельствам-признакам в области, где кажется возможной математическая демонстрация (свидетельство-ясность). Это стремление к демонстрации не ограничивалось тем, что мы называем эмпирическими науками, но было распространено и в богословии. Так, в 1593 г. математик Джон Непер представил свою интерпретацию Апокалипсиса как «некой формы предположения, настолько близкой к аналитическому или демонстративному методу, насколько позволяют слог и природа Священного Писания»{914}.
Работа математиков эпохи Возрождения шла в двух направлениях. Аристотель проводил границу между геометрией, арифметикой (которая занималась чисто теоретическими вопросами) и оптикой, с одной стороны, и гармонией и астрономией (она имела дело с физической реальностью) – с другой. Бэкон дал название этому различию: «чистая математика» и «смешанная математика». (Бэкон расширяет список разделов смешанной математики, включая в него перспективу, инженерное дело, архитектуру, космографию и «разные прочие»{915}.) Чистая математика имеет дело с доказательствами и демонстрациями, а смешанная – с явлениями. Но статус у чистой математики выше, результатом чего было стремление подражать языку и аргументации чистой математики.
Например, Галилей старался держаться как можно ближе к геометрии. Он измерял длину теней на Луне и использовал геометрию для демонстрации высоты гор, которые отбрасывали эти тени; он использовал геометрию для доказательства (довольно изящного), что пятна на Солнце должны располагаться вблизи поверхности{916}. Но эти доказательства включали рассуждения, которые шли от вещей (теней и фигур) к применимости геометрических теорем. И действительно, они начинались как аналогии. Галилей считал, что чередование ярких и темных пятен вдоль границы света и тени похоже на горный хребет на восходе Солнца, если смотреть на него сверху, – поэтому, делал вывод он, это могло быть именно горным хребтом. Пятна на Солнце напоминали ему облака; он знал, что это не облака, однако пятна были так же связаны с поверхностью Солнца, как облака с поверхностью Земли. Новая наука часто представала в виде системы аксиом и демонстраций – например, в «Двух новых науках» Галилея или в «Началах» Ньютона, – но всегда опиралась на факты и (с меньшей уверенностью) на аналогии.
Это помогает объяснить, почему в текстах XVII в. редко употреблялось слово «свидетельство» (которое содержало ассоциацию с согласием или несогласием, наблюдаемым в судебном конфликте). Оно всего три раза (один раз в форме глагола) встречается в «Истории Королевского общества» Спрэта. В «Оптике» (1704), величайшем триумфе новой экспериментальной науки, Ньютон использует его один раз. В первых томах «Философских трудов» оно появляется всего один или два раза в год. Даже в такой поздней работе, как «Курс экспериментальной философии» (Course of Experimental Philosophy, 1734–1744) Дезагюлье, слово «свидетельство» в двух объемных томах появляется всего два раза. Как мы уже видели, после 1660 г. сторонники новой науки бесконечно рассуждали о «фактах» (хотя Ньютон избегал этого термина, считая его неподходящим для математика), «опыте», «экспериментах», «гипотезах», «теориях» и «законах природы». Но слово «свидетельство» они использовали, как правило, небрежно и непреднамеренно, зачастую (как показывает приведенная выше цитата из Спрэта) из желания провести параллели с юриспруденцией и/или богословием.
Если и существовало одно слово, символизировавшее новую науку для тех, кто создавал и практиковал ее, то этим словом был «опыт», а не «свидетельство». Паскаль не ограничился простым заявлением о значимости опыта, но утверждал, что наше познание природы способно на бесконечный прогресс, потому что оно основано на опыте, а опыт со временем накапливается{917}. Таким образом, повышенное внимание к опыту ассоциировалось с понятиями прогресса и открытия. Конечно, было нечто глубоко сомнительное в том, что теоретическое понимание природы заменялось измерением высоты ртути в трубке: измерение есть частное событие, производимое при помощи определенного оборудования в определенный день, при определенных условиях, тогда как теория должна быть универсальной. Первые экспериментаторы, например Галилей, пытались преуменьшить эту проблему, сообщая об эксперименте в общих терминах, как многократно повторяющемся, но начиная с Паскаля эксперимент становится локальным событием и описывается именно как локальное событие. Такие описания не смягчают эпистемологическую проблему, смещая фокус от конкретного к общему, а, наоборот, подчеркивают ее{918}. Один из способов обойти проблему – разработать серию экспериментов, которые исследуют явление с разных сторон: Паскаль стремился выйти за рамки эксперимента Торричелли и придумать новые именно для того, чтобы заполнить этот пробел.
Соответствие между теориями и фактами считалось таким важным, что Галилей и Ньютон были готовы исказить факты, чтобы они согласовывались с теориями, – даже несмотря на то, что настаивали на верховенстве факта по отношению к теории. Во всяком случае, Мерсенн был уверен, что эксперименты Галилея с падением тел невозможно повторить в точности, а Ньютон подправлял цифры, чтобы его теоретические расчеты совпадали с измеренной скоростью звука{919}. Мы можем утверждать, что наука Галилея и Ньютона была чисто эмпирической, но тогда это слово используется в значении, которое оно приобрело в XIX в., – в XVII в. эмпириками считали людей, не умевших логически рассуждать, а не тех, чьи теории опирались на свидетельства[279]. Гассенди и Локк не считали себя основателями эмпирической философии, хотя с нашей точки зрения именно такова была их роль.
Новые ученые по возможности стремились к математической демонстрации и заявляли о точном соответствии теории и факта, когда это было им нужно, и поэтому в английском языке они всеми способами избегали слова «свидетельство», которое неизбежно ассоциировалось с юриспруденцией. В результате мы можем выявить «источник» для языка фактов (глава 7), законов природы (глава 9), а также гипотез и теорий (глава 10), но не для языка свидетельств – если он и существует, то находится вне науки.
Язык свидетельств-признаков (в отличие от концепции) стал развиваться к концу XVII в. не в научных трудах, а в работах по естественной теологии, таких как «О принципах и устоях естественной религии» Джона Уилкинса (1672; встречается 75 раз) и «Древнее происхождение человечества» (The Primitive Origination of Mankind) Мэттью Хейла (1677; встречается 280 раз, но Хейл был председателем суда). Термин укоренился в философии: Юм в своем «Трактате о человеческой природе» (1739–1740) использует его 48 раз. На судьбу слова «свидетельство» повлияла работа Уильяма Пейли «Естественная теология» (Theology; or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, 1802). Мы можем видеть, как медленно, но уверенно свидетельства-признаки перемещались из юриспруденции, богословия и философии в науку, но язык еще значительно отставал от концепции, поскольку эксперимент – это не что иное, как обращение к свидетельствам-признакам.
Тем не менее было бы неверным сосредоточиться только на самом слове «свидетельство», а не на концепции, которую оно отражает, поскольку в таком случае мы упускаем очень важный аспект. Для Локка и всех его предшественников знание эквивалентно истине. Знание, которое может быть отменено или исправлено в свете новых наблюдений, считалось всего лишь мнением или вероятностью. Внутреннее убеждение представлялось как «твердое», надежное мнение, но суть внутреннего убеждения состояла в том, что его можно придерживаться, не меняя; оно не опровергается практикой, даже если его невозможно доказать, как доказываются математические теоремы. Концепция свидетельства (означавшего соответствующий опыт) перешла в науку из юриспруденции. В английском законодательстве после того, как коллегия присяжных вынесла решение, вердикт мог быть оспорен в части закона, но не в части факта. Например, до 1907 г. не существовало процедуры для представления новых свидетельств{920}. Таким образом, коллегия должна была быть уверенной в принятом решении. Внутреннее убеждение, основанное на вероятности, в работах Уилкинса и Локка присоединялось к дедуктивному или самоочевидному знанию как еще одна форма истины. Это соответствовало судебной практике.
Локк описывал случай, когда знание, выглядевшее достоверным, было отвергнуто: сиамский король не поверил рассказу голландского посла, который убеждал его, что в холодное время в Голландии вода становится твердой, так что по ней может ходить даже слон. Однако Локк не считал подобные случаи характерным примером надежности эмпирического знания (как мы его теперь называем). Он сформулировал общий принцип следующим образом: «Положение само по себе будет более или менее вероятным в зависимости от того, более или менее ему соответствует (или не соответствует) надежность нашего знания, достоверность наблюдений, частота и постоянство опыта, число и правдивость свидетельств»{921}. Это означает, что со временем изменения возможны; однако Локк так и не осмелился сделать следующий шаг и заявить, что со временем изменяется и само знание. С одной стороны, он говорит о «нашем знании», которое может меняться. С другой стороны, знание есть истина.
В Оксфордском словаре проводится разграничение между «знанием» в значении «факта знания или знакомства с явлением, человеком и т. д.» и «знанием» в значении «обоснованное истинное убеждение». В словах Локка «наше знание», которое должно соответствовать наблюдению, опыту или показаниям очевидцев, это знание понимается как знакомство, но Локк по-прежнему жаждет знания как обоснованного истинного убеждения. В этом отношении он согласен с Гоббсом, который писал:
Это познание знаков, приобретенное путем опыта, есть то, в чем, согласно ходячему представлению, кроется разница между более и менее мудрыми людьми, причем под мудростью обыкновенно подразумевают всю сумму человеческих способностей, или познавательную силу. Но это ходячее представление ошибочно, ибо такие знаки только предположительны и в зависимости от того, часто или редко они нас обманывали, бывают достоверны в большей или меньшей степени, но никогда не обладают несомненностью и очевидностью. Ибо, хотя человек до настоящего времени постоянно наблюдал, что день и ночь чередуются, он, однако, не может заключить отсюда, что они чередовались таким же образом всегда или будут чередоваться таким же образом во веки веков.
Из опыта нельзя вывести никакого заключения, которое имело бы характер всеобщности. Если знаки в двадцати случаях оказываются верными и только в одном обманывают, то человек может биться об заклад, ставя двадцать против одного, что предполагаемое явление наступит или что оно имело место, но он не может считать свое заключение безусловной истиной[280]{922}.
Радикальный отход от позиции Гоббса (который ясно формулирует вопрос Юма об индукции и отвергает свидетельство-признак как основание для уверенности) и даже Локка (который четко определяет выбор между свидетельством-ясностью и свидетельством-признаком, но затем увиливает от ответа) наблюдается в работе Уильяма Уоттона «Размышления о древнем и современном знании» (1694):
Новые философы, как их обычно называют, воздерживаются от общих выводов, пока не соберут большое количество экспериментов и наблюдений относительно рассматриваемой вещи; и при появлении нового света старая гипотеза рушится без шума и суматохи. Поэтому выводы, сделанные из любых исследований природы вещей, даже если они выражены в общем виде, все равно (как бы с общего согласия) содержат скрытую оговорку: насколько это подтверждено уже выполненными экспериментами и наблюдениями{923}.
«Скрытая оговорка» Уоттона, отражающая идею, что все научные доводы могут быть опровергнуты, имеет фундаментальное значение[281]. Она преобразует науку из знания истины, почитаемой и неоспоримой, в форму прогрессивного знания, в котором общепринятые истины всегда могут быть оспорены и в котором абсолютная истина недостижима. Откуда Уоттон знал о понятии «скрытой оговорки»? Сама фраза относится к этике, где традиционно любое обещание сопровождалось невысказанной оговоркой: «Если я могу», «Если я должен», «Если ничего не изменится», «При изменении обстоятельств я откажусь от своих обязательств»{924}. Но сам принцип, что интеллектуальные системы являются лишь временными конструкциями, которым может потребоваться пересмотр и улучшение, заимствован непосредственно из языка гипотез и теорий, который и использует Уоттон, когда пишет о «старой гипотезе», которая «рушится без шума и суматохи».
Теперь, с формулировкой Уоттона о скрытой оговорке, внутренняя уверенность должна была уступить новой разновидности временного знания, временному пониманию. Об этой скрытой оговорке раньше не заявляли столь явно. У Локка в рассказе о сиамском короле скрытая оговорка была бы к месту, но Локк не сформулировал ее. Уоттон понимает, что ученые могут соглашаться («как бы с общего согласия») в данный момент считать знание (в смысле знакомства) или опыт истинным убеждением и что это не ошибка, а скорее способ, посредством которого идеальное, неизменное знание-истина, окончательный и не подлежащий пересмотру вердикт превращается в прогрессивную форму знания, в знание как неполное знакомство. Индукция всегда несовершенна, свидетельства всегда неполны, но их может быть достаточно, чтобы двигаться дальше. Формулировка Уоттона, что в науке любое знание сопровождается скрытой оговоркой, позволяет утверждать, что он был первым, адекватно понимавшим концептуальные основы современной науки; или, если вам так больше нравится, он был первым, кто понимал современную науку и признавал ее ограничения. Только на этом этапе современная теория свидетельств становится полной (хотя, конечно, Уоттон пишет об опыте и наблюдениях и не использует слово «свидетельство»). Таким образом, когда мы наконец приходим к формулировке Уоттона о скрытой оговорке, то впервые сталкиваемся с глубоким пониманием природы научного знания{925}.
Тем не менее поиск концепции свидетельства оправдывает себя неожиданным образом. И действительно, оно подводит нас к открытию, странному и непредсказуемому. Когда ученые начали оценивать надежность свидетельств, им пришлось иметь дело с тем, что все они называли «суждением» (например, у Локка: «Так как познавать можно только явную, достоверную истину, то заблуждение есть не погрешность нашего познания, а ошибка нашего суждения, соглашающегося с тем, что не есть истина»){926}. Для того чтобы вынести суждение, необходимо обладать набором достоинств, которые мы надеемся найти в коллегии равных: беспристрастностью, усердием, искренностью. Эти качества мы находим при любом обсуждении свидетельства-признака, но они не имеют значения в дискуссии о свидетельстве-ясности. Вот, например, как в 1677 г. один из богословов объясняет разницу между уверенностью и верой, между свидетельством-ясностью и свидетельством-признаком:
Математическая демонстрация проливает столь сильный свет, что разум не может воспрепятствовать ее одобрению, но в настоящее время ее побеждает чистое предположение о предмете. Поэтому в вопросах математики нет ни неверных, ни еретиков. Но вопросы веры таковы, что, несмотря на большую определенность предмета, свидетельства в них не столь ясны и неоспоримы, как те, что исходят от наших чувств или демонстрации. И согласно превосходному замечанию Гроция, Бог мудро назначил этот способ убеждения человека в истинности Писания, так что вера может быть принята как акт смирения разумного существа. Что касается аргументов, вызывающих веру, то, несмотря на их достаточную надежность, они не так ограничивают возвышение разума и в них есть благоразумие и выбор{927}.
Математикам не требуется благоразумие – в отличие от христиан, юристов и ученых. Спрэт так описывает идеального философа: «Истинная философия должна прежде всего начинаться с досконального и строгого исследования частностей; из них могут быть с большой осторожностью выведены некоторые общие правила», «Представим нашего философа, обладающего недоверчивостью и безжалостностью судьи, которые иногда неверно называют слепотой ума и бессердечием»{928}. Ученый должен быть нетороплив, скрупулезен, строг и безжалостен. А вот что говорит Уилкинс: «Слово «сдержанность» – это качество, привычка и пристрастие интеллектуальной добродетели, посредством чего мы озабочены истиной в должной мере, не более и не менее, чем требуют ее свидетельство и значимость, чему противостоят неуместная крайность, неукротимость и фанатизм»{929}. Ученый должен быть сдержан: это новый тип интеллектуальной добродетели. Уилкинс со всей ясностью заявляет о его новизне: у нас нет выбора, говорит он, кроме как принять точку зрения, которая наилучшим образом поддерживается свидетельствами, «…но она к тому же должна быть особым достоинством и даром, дабы поддерживать разум в равновесии беспристрастного суждения. Некоторые люди способны увидеть истинную разницу между вещами, но вследствие порочных страстей и необоснованных предубеждений не желают признавать истинности некоторых вещей; из-за невнимательности или пренебрежения совместным рассмотрением и сравнением вещей они отвергают простые аргументы – не потому, что свидетельств недостаточно, а по причине некоего дефекта или недостатка способности судить о них. Нежелание поддерживать разум в состоянии равновесия, неспособность применить свои мысли для рассмотрения насущных проблем, которые волнуют того, кто знает о них, должны считаться грехом. И хотя никто из (известных мне) философов не числит такого рода веру (если можно так выразиться), эту способность к обучению и равновесию ума в размышлениях и суждениях о важных вещах, среди других интеллектуальных добродетелей, мне кажется, что она достойна бороться за место среди них»{930}. Теперь беспристрастность тоже считается интеллектуальной добродетелью. А вот что пишет Локк:
Тем не менее я говорю лишь о том, что человеческое познание при данных условиях нашего существования и строения могло бы расшириться гораздо больше, чем до сих пор, если бы люди искренне, с полной свободой ума направили на усовершенствование средств к открытию истины все то усердие и труд мысли, которые они применяют для подкрашивания и поддержки лжи{931}.
Искренность и усердие также входят в число интеллектуальных добродетелей.
Таким образом, когда знание перестает быть вопросом свидетельства-ясности и становится вопросом свидетельства-признака, то от исследователя требуется новый набор интеллектуальных качеств. В конечном итоге принцип скрытой оговорки из этики переносится прямо в эпистемологию, устанавливая границы претензий на знания. Возможно, у нас возникнет мысль, что эти качества и эта граница могут быть объединены в слове «объективность», но объективность – это концепция XIX в., предполагающая новые способы наблюдений за природой и записи информации{932}. Было бы неверно относить ее к научной революции; до появления точного инструментария промышленной революции беспристрастность и рассудительность были достоинствами, а не способами переопределения профессиональной компетентности.
Открытие предполагает индивидуализм и конкуренцию. Ученые должны быть авантюристичными и предприимчивыми людьми. Но, как постоянно напоминает Роберт К. Мертон, наука – это не только личный успех. Культура профессии требует от ученого верности совсем другим добродетелям, которые он кратко определил как коммунизм (затем его переименовали в «коммунализм» – знание должно быть общим; мы уже видели, что первое сообщество ученых-экспериментаторов появилось во Франции в 1640-х гг.), универсализм (знание должно быть обезличенным и беспристрастным), справедливость (ученые должны помогать друг другу) и организованный скептицизм (идеи должны многократно проверяться и перепроверяться){933}. Этот набор ценностей иногда обозначают акронимом CUDOS. Таким образом, любой ученый находится под воздействием двух конкурирующих и конфликтующих императивов: он должен одновременно конкурировать и сотрудничать. Ученые должны уподобиться двуликому Янусу, быть скромными и самоуверенными одновременно. Мертон видит свою задачу (как социолога науки) в том, чтобы выяснить, как ученые разрешали данный конфликт, который он считает основным для науки как общественного явления[282].
Как же возник этот конфликт? Ответ чрезвычайно прост. Это результат соединения открытия с нравственными достоинствами, которые ассоциировались со свидетельством-признаком. Так возник структурный конфликт в природе науки, конфликт с историческими корнями. Ни Коперник, ни Кеплер, ни Галилей не превозносили скромность, беспристрастность и усердие, но Коперник, Кеплер и Галилей были в первую очередь математиками. Поколение, сменившее Галилея, должно было признать зависимость от свидетельства-признака и поэтому волей-неволей признать достоинства беспристрастности.
Широко обсуждалась идея, что Королевское общество уделяло такое внимание выявлению фактов, беспристрастности и сдержанности потому, что оно было основано непосредственно после Реставрации{934}. Двадцать лет люди убивали друг друга во имя истины; теперь им предстояло учиться разрешать противоречия другими способами. И новую науку следует рассматривать в этом локальном контексте. Я не отрицаю, что в данном утверждении содержится определенная доля истины, но это не объясняет, почему Мертон обнаружил, что одни и те же достоинства были предметом восхищения ученых и в 1940-х, и в 1660-х гг. Новые ценности коренятся глубже, чем в непосредственной обстановке Реставрации.
Где еще можно найти подобный конфликт между конкуренцией и сотрудничеством? В профессии юриста. Соревновательная система означает, что юристы стремятся победить, и чем лучше им это удается, тем больше им платят. С другой стороны, каждый адвокат является представителем судебной власти. Он связан кодексом профессиональных норм. Он не имеет права лгать ради клиента. Он не имеет права скрывать свидетельства от другой стороны. Он должен одновременно соперничать и сотрудничать. Когда свидетельства-признаки переместились из зала суда в лабораторию, противоречивые характеристики любой основанной на свидетельствах юридической системы (существуют и другие юридические системы – например, предполагающие испытание подсудимого физическим воздействием, – у которых эти характеристики отсутствуют) были перенесены в науку, и ученые разделились, как всегда были разделены юристы в соревновательных судебных системах, начиная с Квинтилиана, который все время стремился найти как хорошие аргументы, так и аргументы, обеспечивающие победу, прекрасно понимая, что они не всегда совпадают.
После того как в эпоху Возрождения вспомнили о стоицизме, слово «философский» приобрело новое значение: утверждалось, что философы способны усмирять свои страсти и оставаться безразличными к ударам судьбы[283]. Они могут отвлечься от своего непосредственного опыта и размышлять над общей картиной. Уилкинс, Спрэт и Локк ищут совсем другого человека, того, кто олицетворяет CUDOS. Эта глава началась с поиска нового типа свидетельства, а заканчивается описанием нового типа интеллектуала, похожего на двуликого Януса, – он появился потому, что новым философам пришлось иметь дело со старым типом свидетельства, косвенными уликами.
В этой аргументации был сделан еще один шаг. В 1976 г. Томас Кун опубликовал статью «Математические и экспериментальные традиции в развитии физической науки» (Mathematical versus Experimental Traditions in the Development of Physical Science){935}. В Англии, утверждал Кун, экспериментальная наука расцвела в конце XVII в., и в ней возобладали традиции Бэкона. На континенте предпочитали дедуктивный стиль, приверженцем которого был Декарт. Англичан больше занимали факты, французов (он имел в виду в основном французов) – теории. По утверждению Куна, эта аргументация, противопоставляющая экспериментаторов математикам, неверна. У англичан были Галлей, Ньютон, экспериментаторы и математики. У французов – Паскаль, Кассини и Гюйгенс (Кассини и Гюйгенс были французами не по происхождению, а по желанию)[284]. И именно француз, а не англичанин Клод Бернар написал «Введение в изучение экспериментальной медицины» (Leons de physiologie exprimentale applique la mdecine, 1865).
Но мы должны сформулировать аргумент Куна немного иначе. У англичан было общее право, основанное на суде присяжных. В суде присяжных важную роль играли косвенные улики, если они присутствовали в свидетельских показаниях. Это давало обвинителям широкие возможности аргументировать, опираясь на аналогию. Когда ученые реорганизовали науку, сосредоточившись на свидетельствах-признаках, они привнесли в нее достоинства суда присяжных, по крайней мере, в его идеализированной форме: стремление выслушать обе стороны, желание сочетать доказательство с убеждением, обращение к здравому смыслу. (Конечно, Ньютон был в этом смысле исключением.) Во Франции существовала система римского права. Их новая наука была организована вокруг достоинств судебного следствия: строгость рассуждений, набор формализованных процедур, поиск полного доказательства и уверенность, что отвечать нужно только перед другими профессионалами. Если, как утверждал Кун, существовали две разные научные традиции, то они, по всей видимости, должны были отражать перенос в науку двух разных традиций права, двух разных традиций обращения со свидетельствами-признаками, а не конфликт между математиками и экспериментаторами. И поэтому, наверное, нельзя утверждать, что допустимо переводить английское evidence французским preuve, поскольку два этих термина отражают две разные и несопоставимые судебные культуры, суд присяжных и судебное следствие. Французское юридическое свидетельство отличалось от английского, и точно так же французское свидетельство-признак было другим, непохожим на английское[285].
Один мой друг однажды попал в больницу в Париже. Врачи сказали ему, что у них есть гипотеза относительно причин его болезни, которую они собираются доказать; в Англии врачи сообщили бы, что у него присутствуют определенные симптомы, предполагающие определенный диагноз, для подтверждения которого необходимо провести обследование. Две культуры: одна подчеркивает разницу между свидетельством-признаком и свидетельством-ясностью, а другая минимизирует ее. Тем не менее цель у них одна – преобразовать признаки и симптомы в знания.
В данном случае я предложил то, что Бойль назвал бы правдоподобным доказательством – убедительный (я надеюсь) аргумент, но не решающий. Надеюсь, мне удалось показать, что внимание к свидетельству-признаку новая наука позаимствовала у судебного процесса, причем она изо всех сил старалась сгладить различия между свидетельством-признаком и свидетельством-ясностью. Даже Дэвид Юм в своем очерке «О чудесах» (1748) все еще путает два значения этого слова[286].
Я также хотел подчеркнуть два аспекта, которые легко пропустить, поскольку мы привыкли к свидетельствам-признакам и считаем их убедительными. Во-первых, существовало много систем знания, отвергавших свидетельства-признаки и опиравшихся на что-то другое – геометрические доказательства, сигнатуры или выявление скрытого смысла (например, астрология). Свидетельства-признаки могут неосознанно использоваться людьми в повседневной жизни, но для того, чтобы они превратились в надежную основу теоретического знания, как это произошло в Англии в середине XVII в., требовалось заявление, необычное с точки зрения культуры и далеко не очевидное.
Во-вторых, даже теперь далеко не очевидно, что опора на свидетельство-признак неизбежно вела к успеху. Суть сформулированной Юмом проблемы индукции состоит в том, что мы не в состоянии объяснить, почему индукция обычно оказывается эффективной, почему природа кажется чрезвычайно упорядоченной в своих проявлениях (или, по крайней мере, кажется упорядоченной нам, обученным искать закономерности). Даже если мы хотим опираться на доказательство-признак, то как определить, что именно является убедительным аргументом? Врачи считают лекарство эффективным, если результаты испытаний лучше, чем случайные, в девятнадцати случаев из двадцати; специалисты по ядерной физике говорят о наличии свидетельства в случае вероятности ложного положительного результата, не превышающей 1 к 741, а доказанным считают что-либо при вероятности 3,5 миллиона к 1. Первые ученые даже не знали, как выполнить проверку на статистическую значимость.
Дело не в том, что свидетельство было естественным типом аргументации, и не в том, что эта аргументация не могла не оказаться успешной; опора на свидетельство просто оказалась эффективной. Когда свидетельство-признак сменило свидетельство-ясность, успехи представителей новой науки начали множиться (эксперимент на Пюи-де-Дом, закон Бойля, новая теория света Ньютона), и эти успехи, в свою очередь, подчеркивали преимущества свидетельства-признака. Инструменты мышления новой науки – факты, эксперименты, теории, законы природы, свидетельства – не доказывали свою ценность с помощью философских аргументов; их успех основывался на том, что они давали хорошие результаты на практике. Вполне возможно, существуют обитаемые миры, в которых культура не опирается на свидетельства-признаки; насколько нам известно, могут существовать Вселенные, где поиск свидетельств просто не оправдывается – в которых скептики не только выигрывают споры, но также имеют в своем распоряжении факты. Но так получилось, что в некоторых областях физики реальность и новая наука совпали. В сущности, это была удача. Локк сомневался, достаточно ли возможностей наших чувств, чтобы сформировать адекватное знание о материальном мире{936}. Выяснилось, что Локк ошибался, однако он вполне мог оказаться прав.
Часть IV
Рождение современного мира
Натурфилософия молода.
Томас Гоббс. Начала философии. 1656
Часть IV посвящена двум разным следствиям научной революции. В первой и последней главе анализируются корни промышленной революции, которые уходят глубже, чем предполагалось ранее. Средняя глава посвящена вере в сверхъестественное – в ведьм, демонов, полтергейст. Изначально ключевые фигуры новой науки надеялись, что она поможет доказать реальность сверхъестественного, но публикация «Начал» Ньютона (1687) привела к противоположному результату: новая наука, похоже, стала осноой для нового скепсиса.
12. Машины