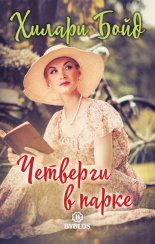Изобретение науки. Новая история научной революции Вуттон Дэвид
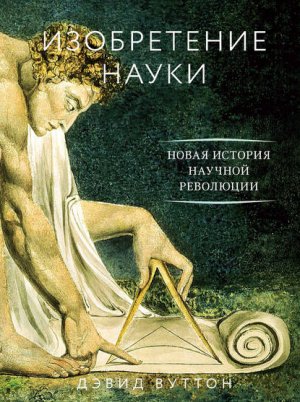
В эпоху Возрождения взгляд на природу как на машину… основывался на человеческом опыте конструирования и изготовления машин. Греки и римляне не пользовались машинами, за очень небольшим исключением: катапульты и водяные часы занимали не такое важное место в их жизни, чтобы влиять на то, как они представляли взаимоотношения между собой и миром. Печатный станок и ветряная мельница, рычаг и насос, полиспаст, часы и тачка, а также множество механизмов, использовавшихся шахтерами и инженерами, были привычными аспектами повседневной жизни. Все понимали природу машины, и опыт конструирования и использования таких вещей стал частью общего сознания европейцев. От этого было легко перейти к предположению: отношения Бога и Природы такие же, как отношения часовщика и часов, монтажника и механизма.
Р. Дж. Коллингвуд. Идея природы (1945){937}
Великий философ и археолог Р. Дж. Коллингвуд предложил довольно откровенный технологический детерминизм: новые машины подталкивают к новому мышлению. У его аргументации есть две проблемы. Во-первых, только одна машина из его списка была новой в эпоху Возрождения – это печатный станок. Как известно, в Средние века произошла технологическая революция: изобретение часов, широкое распространение водяных мельниц и тачек, совершенствование различных блоков и лебедок, необходимых для строительства соборов; поэтому взгляд на природу как на машину должен был появиться не в XVI столетии, а в XIV{938}. Вторая проблема еще серьезнее: Коллингвуд посвящает объемную главу идее природы в эпоху Возрождения и возвращается к утверждению, что в те времена природу рассматривали как машину, но не приводит ни одного примера, когда кто-либо сравнивал природу с машиной. Коллингвуд настолько уверен, что в эпоху Возрождения природа мыслилась машиной, что не замечает, что он не привел ни единого свидетельства в пользу своего утверждения.
Помня об этом, попробуем задать вопрос, который кажется слишком очевидным, но который тем не менее важен в качестве предисловия. Что такое машина? Во-первых, существуют (по крайней мере, с точки зрения понятий) «простые механизмы». Архимед изучал три простейших приспособления, которые можно использовать для перемещения тяжестей: рычаг, блок и винт. Герон Александрийский (10–70) прибавил к ним лебедку и клин, а в конце XVI в. Симон Стевин включил в этот список наклонную плоскость. Все эти простые механизмы дают выигрыш в силе при перемещении груза. Современная наука механика оформилась в трактате Галилея «Механика» (1600 в рукописи, впервые опубликован Мерсенном в 1634){939}. Галилей первым продемонстрировал, что работа, выполняемая машиной, не может быть больше приложенной к ней, и поэтому машины не способны обмануть природу, нарушив естественные законы. (Например, рычаг позволяет легкому грузу поднимать тяжелый, но при этом легкий груз перемещается дальше тяжелого, и работа, совершаемая на противоположных концах рычага, одинакова.) Таким образом, Галилей установил новое соответствие между естественными и искусственными процессами. Галилей рассматривал машины в узком, техническом смысле и поэтому никогда не сравнивал Вселенную с часами, хотя мог бы, если бы хотел.
Галилей обсуждал атомизм. Атомизм Демокрита, Эпикура и Лукреция предполагал, что Вселенная состоит из «кирпичиков», главными характеристиками которых являются размер, форма и твердость. Как выразился Демокрит, «лишь в общем мнении существует сладкое, в мнении – горькое, в мнении – теплое, в мнении – холодное, в мнении – цвет, в действительности же существуют только атомы и пустота»{940}. В мире, состоящем из атомов и пустоты, все естественные процессы являются результатом взаимодействия атомов. В 1618 г. в процессе спора с Исааком Бекманом юный Декарт придумал альтернативу атомизму древних: если они представляли атомы, сталкивающиеся друг с другом в пустоте, то Декарт отверг возможность пустого пространства и предложил корпускулы, которые заполняют все имеющееся пространство, как вода заполняет океан. На следующий год Декарт сформулировал свою знаменитую доктрину cogito ergo sum, «я мыслю, следовательно, я существую»; таким образом, существует по меньшей мере одна вещь, в которой я уверен. На этом прочном фундаменте он намеревался построить новую философию, призванную заменить философию Аристотеля, и в 1637 г. начал публиковать элементы своей новой системы. Со времени публикации в 1952 г. объемной статьи Мэри Боас стало привычным называть эти две альтернативы теории Аристотеля о формах и качествах – атомистическую философию древних (возрожденную Галилеем, Гассенди и другими) и корпускулярную философию Декарта – «механической философией»{941}. Этот термин широко использовался в конце XVII в., однако он скорее сбивает с толку, чем помогает.
Декарт, которого называли основателем механической философии, никогда не называл себя сторонником механицизма; он говорил, что все законы механики являются физическими, или естественными, законами (что показал Галилей), но не все законы природы механические – он не описывал природу как механическую систему. Декарт один раз в письме (1637) использовал этот термин, упоминая «довольно грязную механическую философию» – другими словами, такую философию, которая подходила бы каретных дел мастеру. Он отвечал критику, который описывал его философию как «грубую и довольно грязную», «чрезмерно грубую и механическую» – то есть слишком приземленную (как выразились бы мы), чтобы ее вообще можно было считать философией. Он писал: «Если моя философия кажется ему чрезмерно грубой, поскольку рассматривает формы, размеры и движения, как в механике, то он осуждает то, что я считаю заслуживающим похвалы в первую очередь и чем я особенно горжусь»{942}. (Леонардо тоже решил, что называться философом-механицистом – это предмет гордости){943}.
Термин «механическая философия» придумал Генри Мор (преподаватель Кембриджа, последователь Платона) в 1659 г., уже после смерти Декарта, когда критиковал картезианство, восторженным сторонником которого раньше был он сам{944}. Мор хотел защитить идею души и цели природы и отвергнуть утверждение картезианцев, что естественные процессы лишены души, что материя пассивна и что все происходящее в мире (за исключением свободного выбора Бога, ангелов и людей) определяется необходимостью. За пределами Англии этот термин приживался медленно: на латыни он впервые встречается в 1678 г. в «Рассуждениях» (Disputationes) Сэмюэла Паркера, а на французском – в 1687 г. в журнале «Новости республики ученых» (Nouvelles de la rpublique des lettres) Пьера Бейля{945}. В английском языке существовала альтернатива этому термину: в 1662 г. Роберт Бойль изобрел термин «корпускулярная философия», который включал как атомизм древних, так и новую корпускулярную теорию Декарта{946}. Таким образом, «корпускулярная философия» и «механическая философия» были двумя соперничающими терминами, обозначавшими одно и то же явление: и действительно, впервые оба термина встречаются во французском языке как ссылка на la philosophie mcanique ou corpusculaire (1687; два года спустя при переводе Бойля использовалось словосочетание la philosophie des corpuscules){947}.
Именно так Уолтер Чарлтон в 1654 г. определил то, что потом станут называть механической философией. Все, что он говорит, мог бы сказать Декарт:
Мы считаем, что общие законы природы, посредством которых она производит все явлния, действием одной и стремлением другой вещи, что может быть выведено из разных предшествующих рассуждений, таковы: (1) каждое явление должно иметь свою причину; (2) ни одна причина не может действовать иначе, как движением; (3) ничто не может действовать на удаленный объект или на тот, который не присутствует, кроме как непосредственно или при помощи некоего инструмента, соединенного с ним или переданного; и следовательно, ни одно тело не может двигать другое иначе, чем посредством контакта, непосредственного или опосредованного, то есть либо посредством некоего продолженного инструмента, тоже материального, либо только себя.
Сформулировав это определение, Чарлтон переходит к атаке на традиционные концепции симпатии и антипатии, настаивая, чтобы на них взглянули по-новому, с точки зрения механики:
По размышлении будет трудно не признать необходимым, что, когда говорят, что две вещи притягивают или принимают друг друга благодаря взаимной симпатии или отталкивают и избегают друг друга из-за взаимной антипатии, это происходит теми же путями и средствами, какие мы наблюдаем, когда одно тело притягивает и удерживает другое или одно тело отталкивает и избегает контакта с другим во всех ощущаемых и механических действиях. Допустима лишь та небольшая разница, что в сильных и механических действиях притяжение и отталкивание выполняются посредством ощущаемых инструментов, но в тех более слабых проявлениях природы, называемых симпатией и антипатией, притяжение и отталкивание слабы и неощутимы.
Это означает, что Чарлтон теперь понимает принципы действия симпатии и антипатии:
Средства, используемые в любом ощущаемом влечении и соединении одного тела с другим, которое может наблюдать каждый, есть крючки, веревки или другие подобные промежуточные инструменты, протянутые от притягивающего к притягиваемому, а в любом отталкивании и отсоединении одного тела от другого либо используется некий шест, рычаг или другой промежуточный инструмент, либо что-то, что отталкивается или отрывается от двигающего к движимому. Почему в таком случае мы не можем заключить, что в любом загадочном и неощущаемом притяжении одного тела другим природа не использует определенные тонкие крюки, веревки, цепи или иные промежуточные инструменты, протянутые от притягивающего к притягиваемому, или, точно так же, что при любом отталкивании или разъединении она использует определенные палки, шесты, рычаги или иные протяженные инструменты, идущие от отталкивающего к отталкиваемому телу? Из-за того, что все ее инструменты невидимы и неощутимы, мы не должны делать вывод, что их вовсе не существует{948}.
Эта механическая философия, описанная Чарлтоном, показалась бы весьма разумной Лукрецию, однако он был бы озадачен самим названием, поскольку римляне, подобно нам, не считали шесты и крючки машинами – это простые механизмы математиков. Но римское понятие машины отличалось и от понятия Чарлтона, и от нашего. Главный источник наших знаний о машинах римлян – это трактат Витрувия «Десять книг об архитектуре», в котором описаны машины, использовавшиеся в строительстве и военном деле. Когда Витрувий пишет о машине (латинское machina), то использует слово, значение которого значительно отличается от современного. Строительные леса – это машина. Штурмовая лестница – машина. Башня на колесах, сооруженная для преодоления стен вражеских крепостей, – машина. Платформа, на которой стояли зрители, – тоже машина. Римские машины не обязательно должны были перемещать предметы или иметь движущиеся части. Общим у них было то, что они представляли собой прочные и устойчивые конструкции. Таким образом, грузоподъемный блок относится к машинам, но лишь потому, что он надежно закреплен. Катапульта – машина, но не потому, что она предназначена для метания огромных камней, а потому, что изготовлена из больших бревен, связанных вместе. Ближайшим синонимом machina было слово fabrica, которое часто переводят как «структура». Когда Лукреций говорит о машине мира (machina mundi), то делает это в рамках дискуссии о разрушении нашей Вселенной. В конце дней ее структура распадется. Таким образом, машина мира – это устойчивая структура нашей Вселенной: небо, земля и четыре элемента. Все это исчезнет, когда старая Вселенная умрет, а из нее родится новая{949}.
Фраза machina mundi появлялась у Тертуллиана (160–225) и Августина (354–430), а затем и во всей средневековой философии (например, у Сакробоско), несмотря на то что текст Лукреция был утерян и найден лишь в 1417 г.[287], но означала она вовсе не конструкцию из взаимосвязанных движущихся частей, наподобие шестереночного механизма или трансмиссии. Поэтому ее перевод как «машина мира» неверен. Вероятно, лучше всего перевел (на английский) эту фразу Джон Уилкинс в 1675 г. – «видимая структура, которую мы называем миром»{950}.
Конечно, со временем изначальное значение фразы Лукреция было утеряно; машины менялись, а вместе с ними менялось значение слов Лукреция. Ключевую роль в этом сыграли часы. Одна из главных задач первых часов – моделировать движение неба, а не просто указывать время. Так, в 1364 г. (приблизительно через шестьдесят лет после изобретения анкерного механизма, сделавшего возможным механические часы) Джованни де Донди построил в Падуе astrarium (астрономические часы), которые показывали время, отображали движение Солнца, Луны и других планет, а также указывали дни религиозных праздников. Еще одна цель – доказать, что система Птолемея не просто математическая модель, а что она точно отображает все происходящее на небесах{951}. Поэтому вполне естественным выглядел следующий шаг: поскольку часы моделируют небо, то небо подобно часам. Насколько нам известно, впервые эту мысль высказал Николай Орезмский в 1377 г., через семь лет после установки часов в королевском дворце в Париже: движение сфер, говорил он, «подобно тому, как человек делает часы и предоставляет им ходить и двигаться самим»{952}. Коллингвуд был прав: «От этого было легко перейти к предположению: отношения Бога и Природы такие же, как отношения часовщика и часов». Однако ни один из средневековых авторов не сравнивал Вселенную с такой грубой конструкцией, как мельница, а сравнение Орезмского очень аккуратно и ограниченно – он сравнивает круговое движение небес с вращением шестеренок часов, а не всю Вселенную с часами; он не считает часы машинами и не использует сравнение с часами для доказательства существования Бога. Орезмский не стремился развить механическую философию, поскольку жил в мире форм Платона и Аристотеля; и действительно, в конечном итоге он соглашается со всеми в том, что небесными сферами управляют духовные силы.
Как бы то ни было, приблизительно в 1550 г. комментаторы Витрувия (они писали на латыни) начали выражать недовольство его определением машины{953}. Они хотели включить в список машин водяные колеса и часы (впервые), а также выделить механизмы с приводом. (У греков и римлян было очень мало водяных колес и не было часов, что объясняет отсутствие интереса к механизмам с приводом.) Таким образом, современное понятие машины родилось путем придания нового значения римскому термину machina. Это новое понимание машины привело к тому, что автоматы – то есть устройства, которые приводят в движение сами себя (в том числе часы), – стали считаться машинами.
Часы снабжались маленькими фигурками, которые выходили из них или двигались, указывая время: очень часто часы отбивались фигуркой человека с молоточком, ударявшей по колоколу, – это jacquemart, или «джек». Иногда появлялась фигурка Богоматери с Младенцем в сопровождении трех волхвов или механические герольды трубили в трубы. Часы в Страсбургском соборе (изготовленные в 1352–1354) считались самыми сложными из сконструированных в то время. Сверху у них, например, стоял золотой петух, который хлопал крыльями, открывал клюв, высовывал язык и кукарекал, возвещая, что наступил полдень{954}. Современные часы с кукушкой – это упрощенный вариант этих «автоматических» механизмов. Одним из самых сложных был репетир, изобретенный в 1676 г.: если потянуть за шнурок, часы отбивали время с точностью до четверти часа. Другими словами, часы отвечали вам, если вы спрашивали время (функция, которая могла пригодиться в темное время суток).
Важный пример нового представления о машине можно найти в трактате французского протестанта Саломона де Косса «Взаимоотношения движущих сил» (Les Raisons des forces mouvantes avec diverses machines, 1615){955}. Де Косса интересовали только движущиеся механизмы, независимо от того, что приводит их в движение – давление воздуха (он изобрел примитивную паровую машину), текущая вода или опускающиеся гири. Он изобрел, например, механический орган, который, подобно механическому пианино, автоматически проигрывал музыку согласно информации, записанной с помощью штырьков вращающего барабана. Он строил сложные фонтаны и гроты, в которых пели механические птицы. Но Косс также описывал машины для подачи воды, распилки дерева и выполнения других промышленных работ. В изготовлении изящных фонтанов и поющих птиц он следовал классической традиции, но греки и римляне ничего не могли сказать по поводу автоматических молотков и пил, а также об автоматах, которые выполняли механические действия, непосильные для человека.
Работа де Косса важна потому, что, когда Декарт писал о машинах, это были в основном воображаемые машины; кроме того, именно де Косс перевел новую терминологию с латыни на французский язык, а через Декарта и на английский{956}. До того как в 1637 г. англичане прочли Декарта, они называли сложные механизмы engines, а не machines{957}. (Слово engine происходит от латинского ingenium, что означает «ум»; от этого же корня произошло слово ingenious – изобретательный.) Поэтому когда Мор изобрел термин «механическая философия», он способствовал приходу новой терминологии в английский язык{958}. В результате влияния Декарта значения слов engine и machine во многом совпадают.
Сам Декарт конструировал и, возможно, изготавливал автоматы: он усовершенствовал механизм часов и придумал канатоходца, приводимого в движение магнитами, а также инсталляцию, в которой собака прыгает на куропатку, но птица улетает. Рассказывают даже, что он изготовил себе женщину, но, когда корабль, на котором плыл Декарт, был застигнут штормом, капитан приказал бросить за борт живую машину, убежденный, что в нее вселился дьявол{959}.
В «Рассуждениях о методе» Декарт впервые высказал необычную и новую мысль о том, что животные являются автоматами, то есть сложными, самодвижущимися машинами. На первый взгляд, они обладают дополнительным свойством, которое мы называем «жизнь» или «ум», но на самом деле просто выполняют заранее установленные действия, подобно петуху на часах в Страсбургском соборе. По утверждению Декарта, душа есть только у рациональных человеческих существ; животные не обладают душой и способностью мыслить. (Сторонники Аристотеля различали три разных вида души – растительная, животная и разумная, – и у них не было проблем с признанием того, что у животных есть душа.) Когда Декарт описывает некое природное явление как машину, то всегда имеет в виду биологических существ. Он отрицает, что животные были сконструированы; тем не менее они движутся (подобно машинам де Косса) и воспроизводят себя, и поэтому после того, как они появились, их сложное строение не нужно каждый раз воспроизводить с нуля.
Если животные не более чем машины, то для картезианцев это должно означать, что человеческое тело, имеющее явное сходство с телом человекообразной обезьяны, тоже машина, и врачи-картезианцы с готовностью изучали анатомию человека как пример не механической, а гидравлической системы, похожей на те, что приводили в движение фонтаны и механические органы де Косса. Если человеческое тело – это машина, то она должна иметь некий источник питания, и, возможно, именно поэтому Декарт считал сердце машиной, а не насосом (де Косс приводил в действие фонтаны, нагревая воду солнечными лучами, фокусируя их с помощью линз); если назвать сердце насосом, неизбежно возникает вопрос о том, что приводит его в действие. Но, признав животных машинами, мы делаем маленький шаг к тому, чтобы считать машинами и человеческих существ, то есть к признанию системного материализма того рода, который осуждали Гассенди, Декарт, Бойль и Ньютон. Работа Жюльена Офре де Ламетри «Человек-машина» (L’homme machine, 1748) – это логическое развитие такого бескомпромиссного механистического мышления{960}. Таким образом, Декарт бросил вызов – сконструировать автомат, поведение которого было бы неотличимо от поведения животного. Сто лет спустя Жак де Вокансон (1709–1782) изготовил механическую утку, которая умела ходить, крякать, есть и испражняться{961}.
Декарт не мыслит Вселенную как часы, потому что, по его мнению, космическое пространство заполнено не хрустальными сферами из астрономии Птолемея и не шестеренками и рычагами машин де Косса, а вихрями жидкости, которые увлекают за собой планеты, движущиеся по своим орбитам вокруг звезд{962}. Тем не менее он говорит, что понимание устройства Вселенной сравнимо с пониманием устройства часов. Если вы смотрите на стационарные или наручные часы снаружи, то можете сказать, что у них есть механизм, приводящий в движение стрелки. Вы можете сделать вывод, что стрелки приводит в движение опускающийся груз. Но с равной вероятностью они могут приводиться в движение пружиной (или маятником – хотя Декарт умер раньше, чем были изобретены маятниковые часы). Точно ответить на этот вопрос можно только после разборки часов{963}. Декарт полагает, что наше понимание природы имеет по большей части следующий вид: мы можем составить убедительное описание того, как это устроено, но достоверно этого не знаем, поскольку механизм остается для нас невидимым; невидим он не потому, что спрятан в какой-то коробке, а лишь по причине своей миниатюрности. Поначалу надежды возлагались на микроскоп, который сделает невидимое видимым, и отчасти он эти надежды оправдал, показав, например, каким образом муха ползает по стеклу. Но микроскоп не мог показать механизм отражения и преломления света или частиц, благодаря которым мы чувствуем запахи{964}. Декарт считал, что можно спланировать эксперименты, позволяющие сделать обоснованный выбор между вероятностями (так, например, можно экспериментировать со сферическим сосудом, наполненным водой, и продемонстрировать, как образуется радуга), но не всегда: по мнению Декарта, эксперименты Паскаля с пустотой не исключают возможности непустого пространства. Таким образом, сравнение с часами он использует в качестве эпистемологического аргумента, указывающего на границы нашего понимания, а не как аналогию с действительным устройством Вселенной[288].
После того как часы заведены, они выполняют свою работу автоматически, но регулировать свой ход не умеют. Они не могут замедлиться, когда спешат, или ускориться, когда отстают. Но у одного из автоматов де Косса имелся сложный механизм обратной связи{965}. Автомат был сконструирован для того, чтобы, используя вес воды, поднять половину резервуара с водой, в то время как вторая половина уравновешивает первую, опускаясь вниз. Он состоит из трех резервуаров, расположенных на разных уровнях. Чтобы машина работала, оба ее клапана должны закрываться, когда нижний резервуар полон; это достигается при помощи перелива, через который наполняется воронка; когда воронка опорожняется, вес воды закрывает клапаны. В XVII в. саморегулирующиеся машины были очень редки (через несколько лет Корнелиус Дреббель сконструировал инкубатор для куриных яиц с термостатом для регулировки температуры), и автомат де Косса, вероятно, был первым таким устройством, после того как Герон Александрийский изобрел поплавковый регулятор, который мы до сих пор используем в водяных баках и туалетных сливных бачках{966}. Широкое распространение саморегулирующиеся машины получили только в конце XVIII в.: способы открытия и закрытия клапанов в нужный момент времени впоследствии стали основой для работы паровой машины (еще один простой пример – шкив, с помощью которого мельница поворачивается в соответствии с направлением ветра). Саморегулирующийся механизм – это не просто важный шаг к созданию более совершенной техники. Это фундаментальное понятие современной науки: теория торгового баланса Дэвида Юма и теория рынка Адама Смита основаны на механизме обратной связи{967}. Среди специалистов давно идут споры, почему греки и римляне не смогли разработать общую теорию экономического поведения; один из возможных ответов состоит в том, что у них не было машин с механизмами обратной связи, что привело к отсутствию важного инструмента для анализа социальных процессов{968}.
Недатированная афиша XVII в. о демонстрации трех автоматов Вокансона: флейтиста, барабанщика и утки, которая умеет переваривать пищу. Механизм утки не разгадан, несмотря на многочисленные попытки изготовить ее копию
Классический атомизм, исправленный и реконструированный в XVII в. Гассенди, Декартом и другими, объяснял природу в терминах взаимодействия частиц. После 1659 г. англичане обычно называли подобные взгляды «механической философией», хотя Бойль вскоре предложил гораздо более понятный термин, «корпускулярная философия». (В конечном итоге термин «механическая философия» перешел во французский язык, сбивая с толку картезианцев.) Атомы и корпускулы – это не машины, но их взаимодействие определялось размером, формой и твердостью, как и взаимодействие деталей часового механизма. Ученики Гассенди (например, Чарлтон в Англии) и Декарта (такие как Генри Пауэр) не соглашались друг с другом по многим вопросам, но в главном были едины – при объяснении природных процессов следует отдавать предпочтение корпускулярной теории. Бойль и Ньютон соглашались с ними, хотя не настаивали, что эта теория объясняет все явления (исключением стала теория тяготения Ньютона, которая в конечном счете разрушила корпускулярную философию, из которой вышла сама).
Саморегулирующаяся машина де Косса для подъема воды. Из La Raison des forces mouvantes, 1615
Еще одним предметом споров стало утверждение, что Вселенная, подобно часам или другой сложной машине, создана для определенной цели, и это доказывает существование Бога. Декарт не использует этот аргумент. Его Вселенную вряд ли можно описать словом «сконструированная»; наш мир есть результат выполнения на практике самых общих законов, и он не более механистичен, чем жидкость, – в нем существуют вихри и другие потоки, как в жидкости, а не колеса и шестеренки. Высказывалось мнение, что современный аргумент замысла впервые высказал Джон Уилкинс, один из основателей Королевского общества, в трактате «О принципах и устоях естественной религии», опубликованном после его смерти, в 1675 г.{969} Согласно этому аргументу, у Вселенной должен быть создатель, поскольку только внешняя сила могла задумать и построить ее таким образом, чтобы разные части выполняли конкретные функции. Последователям Аристотеля была чужда подобная аргументация: сам Аристотель не верил, что у Вселенной есть творец, а его последователи в Средние века полагали, что наличие цели есть неотъемлемое свойство природы[289]. Однако Уилкинс не был первым, кто использовал этот аргумент, – в 1668 г. его можно найти у Генри Мора, а до Мора – у голландского иезуита Леонарда Лессиуса, жившего в начале XVII в. и интересовавшегося вероятностью (1631){970}.
При знакомстве с этими текстами становится очевидным, что данный аргумент представляет собой разновидность еще более старого, который теперь иногда называют теоремой о бесконечных обезьянах – обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки в течение неограниченно долгого времени, рано или поздно напечатает все произведения Шекспира. Опровержение этого утверждения можно найти у Цицерона – разумеется, без пишущей машинки и Шекспира. Цицерон не соглашался с атомистами, настаивавшими, что наш мир есть результат случайности:
Не понимаю, почему бы человеку, который считает, что так могло произойти, не поверить также, что если изготовить из золота или из какого-нибудь другого материала в огромном количестве все двадцать одну букву, а затем бросить эти буквы на землю, то из них сразу получатся «Анналы» Энния, так что их можно будет тут же и прочитать. Вряд ли по случайности может таким образом получиться даже одна строка[290]{971}.
Аналогичным образом, Лессиус и его последователи говорили, что, если бросить на землю кирпичи, из них никогда не составится дворец. Книга требует автора, дворец – архитектора, часы – часовых дел мастера, а Вселенная требует творца. Вспомним утверждение Кеплера, что даже салат нуждается в поваре{972}. (Этот аргумент впоследствии, конечно, был оспорен Юмом и Дарвином, но долгое время считался почти неопровержимым.)
У Бойля была собственная версия этого аргумента, которую он использовал не против атомистов, а против схоластов. У них, утверждал Бойль, нет адекватной концепции всемогущего Бога. Говоря об этом, он, вероятно, имел в виду Аквинского:
Разница между их мнением о присутствии Бога в мире и тем, что предложу я, в общих чертах может быть такова: они представляют мир наподобие куклы, чье создание искусственно, и при этом почти каждое конкретное ее движение вызывается мастером (который дергает то за одну нитку или струну, то за другую), зачастую превосходя действия машины, тогда как, на наш взгляд, мир подобен редким часам, какие можно увидеть в Страсбурге и в которых все детали так искусно задуманы, что машина, будучи один раз приведена в движение, выполняет все действия согласно первоначальному замыслу мастера, и движения маленьких фигурок, которые в определенный час выполняют те или иные действия, не требуют, в отличие от кукол, вмешательства мастера или любой разумной силы, используемой им; в каждом случае они исполняют свои функции в силу общего и простого замысла всей машины{973}.
В отличие от версии Уилкинса в версии Бойля невозможно заменить часы текстом или дворцом, поскольку тексты и дворцы статичны, а детали часов движутся. Необычность его аргумента состоит в утверждении, что в нашей Вселенной все происходит в соответствии с одними и теми же общими законами – без вмешательства для наладки испортившегося механизма и без лучника, направляющего стрелу. Для этого механизм должен быть не только чрезвычайно сложным, но и пребывающим в вечном движении. В качестве аналогии подходят лишь часы, причем только маятниковые, поскольку более ранние модели нуждались в регулярной настройке. В этом отношении аргумент Бойля является новым и явно механическим.
Однако механическая философия оставила после себя не только современные версии аргумента о замысле, которые до сих пор широко распространены в виде теории разумного замысла. Будущее принесло с собой не только новые философские доктрины, механические или ньютоновские, но и новые машины. В 1615 г. де Касс экспериментировал с простейшей паровой машиной, но работоспособные паровые машины требовали простых механизмов обратной связи. Вокансон не только изготовил механическую утку, но также изобрел ткацкий станок для парчи. Фридрих фон Кнаус (1724–1789) изобрел механическую руку, которая писала на листе бумаги, как живая рука, а также первую пишущую машинку{974}. Промышленная революция будет опираться на мастерство таких людей – мастерство, которым обладали ремесленники, изготовившие первые часы Страсбургского собора. Научная революция началась как революция математиков, но в конечном итоге превратилась в революцию механиков. От часов в Страсбурге пролегает прямая дорога к прядильному станку.
Это возвращает нас к вопросу, с которого мы начали. Часы Страсбургского собора были изготовлены в середине XIV в., а механическая философия появилась три столетия спустя. За это время машины изменились не слишком сильно – в отличие от философов. После того как стали доступными тексты Лукреция (их заново открыли в 1417), его концепцию machina mundi можно было превратить в совсем новую идею – идею Вселенной как часов. Но, чтобы это произошло, одних текстов Лукреция недостаточно. Требовались не только новые машины, но и новый язык для их обсуждения. Пока не появился этот новый язык, часы можно было использовать для понимания небесной механики, но не земной физики или биологии. Именно инженеры, такие как де Косс, обобщившие понятие движущегося механизма, сделали возможным подобную часам Вселенную и механического человека.
Географию переписали мореплаватели в начале XVI в., а философию – «математики и инженеры»{975} в XVII в. Натурфилософия перестала быть делом, для которого достаточно лишь пера и бумаги. Воздушный насос Бойля и маятниковые часы Гюйгенса были философскими машинами – машинами, изготовленными философами (разумеется, с помощью мастеров). Первая решала научную проблему, а вторая воплощала научную теорию. Они помогли изменить взгляд философов на машины, подобно тому как увлечение Декарта автоматами привело к появлению новой, механической философии. Уже в XVII в. революция математиков становится неотличимой от революции механиков. Утверждение Коллингвуда, что промышленная революция развернулась уже в XVI в., представляется мне неверным, поскольку в те времена не появилось новых источников энергии, но в главе 14 я покажу, что она началась в конце XVII в. благодаря появлению специалистов нового типа – инженеров-ученых.
Теперь уже не подлежит сомнению, что и философия Декарта, и философия Бойля носит общее название механистической, однако их взгляды существенно различались. Из трех главных пунктов – корпускулярная философия, животные как автоматы и Вселенная, подобная часам, – они соглашались только по первому, а по двум другим их мнение было противоположным. Признание животных автоматами ведет к атеизму, если допустить, что человек не слишком отличается от животных, но не в том случае, если доказать (Декарт считал, что он может это сделать) существование нематериальной души. Корпускулярная философия также ведет к атеизму, если сопровождается утверждением о том, что Вселенная есть результат случайности, но не в том случае, если воспрепятствовать следующему шагу с помощью аргумента замысла, к чему стремился Бойль. Декарт и Бойль были уверены, что они способны защитить себя от атеизма; первый проводил границу между материей и сознанием, а второй считал мир природы доказательством замысла Бога{976}. Аргумент Бойля оказался довольно стойким; он лег в основу длинной традиции христианских теологов, таких как Уильям Пейли (1743–1805); до Дарвина не существовало его удовлетворительного опровержения, хотя такую попытку предпринял Юм в изданных посмертно «Диалогах о естественной религии» (Dialogues Concerning Natural Religion, 1779). Аргумент Декарта оказался менее стойким; даже Локк допускал существование мыслящей материи{977}. Ньютон был прав, когда спрашивал:
Но, если мы вместе с Декартом говорим, что протяженность есть тело, не открываем ли мы тем самым путь атеизму? …Протяженность не была сотворена, но существовала извечно, и, поскольку мы обладаем ее концепцией, не нуждаясь для этого в обращении к Богу, постольку мы можем считать, что она существует, одновременно воображая, однако, что Бога нет. И это тем более верно, что если деление субстанции на протяженную и мыслящую является законным и совершенным, то Бог не будет содержать в себе протяженность даже в превосходной степени, и, следовательно, не будет способен ее сотворить… И поэтому неудивительно, что атеисты приписывают материальным субстанциям то, что принадлежит исключительно божественному{978}.
Многие атеисты XVIII в., например Гольбах и Дидро, черпали вдохновение в механицизме Декарта, превращая его в систематический материализм, в котором нет места Богу.
Корпускулярная философия была очень важна в том смысле, что предлагала альтернативу доктрине Аристотеля о формах, или субстанциях, и нематериальных сущностях, исключая теологию из природы вещей{979}. Она оказалась полезной для целого поколения теоретических моделей, объяснявших давление воздуха и пустоту, даже если эти модели были неприемлемы для Декарта. Но ньютоновская революция (к которой мы подойдем в главе 13) привела к тому, что механистическая философия быстро перестала быть основой науки, которую унаследовали XVIII и XIX столетия. Современная физика, химия и биология возникли не из корпускулярной философии, а в результате ее разрушения. В конечном счете корпускулярная философия оказалась промежуточным звеном между схоластикой и ньютонианством.
Ньютонианство разрушило корпускулярную философию, но в то же время существенно укрепило аргумент замысла. Только всемогущий Бог, создавший законы природы и сделавший их обязательными в нашем мире, мог объяснить действие тяготения, постольку оно не могло быть объяснено ни сторонниками Аристотеля, ни корпускулярной теорией. Бог Ньютона не направляет отдельные стрелы в цель; он установил законы, которые определяют полет каждой стрелы. Таким образом, ньютонианство могло возникнуть только в культуре, которая развила аргумент замысла и опиралась на него. Эта была именно английская культура, поскольку, как мы уже убедились, Декарт упорно уклонялся от обращения к замыслу. В этом отношении Бойль является наследником Ньютона, и экспорт ньютонианства на континент зависел не только от способности убедить иностранных ученых в возможности действия на расстоянии, но и от способности убедить их принять аргумент замысла.
В 1733 г. Вольтер писал, что англичанин и француз живут в двух разных мирах, мире Ньютона и мире Декарта:
Француз, прибывающий в Лондон, замечает в философии, как и во всем прочем, сильные перемены. Он покинул заполненный мир, а прибыл в пустой; в Париже Вселенную считают состоящей из вихрей тончайшей материи – в Лондоне не усматривают ничего подобного; у нас давление Луны вызывает морские приливы, у англичан же, наоборот, море тяготеет к Луне… Самая сущность вещей здесь совершенно меняется: вы не согласитесь ни со здешним определением души, ни с понятием о материи… Нам не дано усмирить столь великие ваши раздоры{980}.
Вольтер напоминает нам, что ученые могут жить не в одном мире.
Однако и в мире Декарта, и в мире Ньютона законы природы были неумолимы, и человеческие существа обитали во Вселенной, которая вовсе не отражалась в них как макрокосм в микрокосме, а казалась абсолютно безразличной к их существованию. Для обоих Солнце было рядовой звездой из неисчислимого множества звезд, Вселенная если не была бесконечной, то, по крайней мере, не имела известных границ. «Когда я размышляю о мимолетности моего существования, погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет после, о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мною, растворенного в безмерной бесконечности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне, я трепещу от страха… Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств», – писал Паскаль, который помогал рождению этого нового мира{981}. Смысл, начертанный Богом в форме вещей, великая цепь бытия, симпатия и антипатия, естественная магия – все это заменили слепые механизмы и неумолимые законы. По мнению Декарта, даже животные были просто автоматами. Блейк описывал Ньютона, играющего с Богом, измеряющего Вселенную; увлеченный упрощенным, математическим языком законов природы, он больше не видел окружавшие его сложность и разнообразие; свойство было сведено просто к количеству. Это было началом процесса, о котором Вебер сказал, что «мир расколдовывается»{982}.
13. Мир расколдовывается
Следовательно, возрастающая интеллектуализация и рационализация не означают роста знаний о жизненных условиях, в каких приходится существовать. Она означает нечто иное: люди знают или верят в то, что стоит только захотеть, и в любое время все это можно узнать; что, следовательно, принципиально нет никаких таинственных, не поддающихся учету сил, которые здесь действуют, что, напротив, всеми вещами в принципе можно овладеть путем расчета. Последнее, в свою очередь, означает, что мир расколдован[291].
Макс Вебер. Наука как призвание и профессия (1918){983}
В марте 1661 г. мировой судья по имени Джон Момпессон из города Тедуорт в Уилтшире постановил арестовать уличного музыканта (попрошайки были обязаны иметь лицензию, но лицензия музыканта оказалась поддельной) и конфисковать его барабан. На протяжении следующих двух лет в его доме наблюдался полтергейст{984}. Слышались барабанная дробь и пугающие звуки, по воздуху летали разные предметы. Вот типичное сообщение о происшедшем:
Утром 5 ноября, когда шум в комнате с детьми стал особенно сильным, слуге показалось, что лежавшие там две доски задвигались, и он произнес вслух: «Дай мне эту доску». Одна из них вдруг сама собой приблизилась к нему на ярд. Ободренный успехом, он сказал: «Этого мало, пусть она придвинется так, чтобы я смог взять ее в руки», – и доска приблизилась почти к самым его ногам. Так она по его требованию двигалась туда-сюда раз двадцать, пока судья не пресек столь непозволительную вольность. Все это было днем и на глазах множества собравшихся. Наутро в той комнате чувствовался очень едкий запах серы. Вечером же в дом судьи пришел пастор Крэг с подкреплением в лице соседей. Священник и домочадцы «нехорошего» дома, преклонив колена у постели детей, где стуки выбивались особенно громко, стали молиться. На это время стуки оставили детей и перешли в светелку, но немедленно возвратились на прежнее место, едва закончилась молитва. И тут произошло поистине чудо: на глазах у всех пошли гулять стулья и все, что могло двигаться, тут же пришло в движение. У детей сорвало с ног и перебросило через головы башмаки. Одновременно брус, вырванный из кровати, был запущен прямо в священника и задел его по ноге, но мягко, будто клок шерсти. Все удивились, когда пущенный со страшной силой брус остановился точно там же, где упал, ни на волос не сдвинувшись с места{985}.
Люди всегда рассказывали истории о необычных и чудесных явлениях. Эта история взята из трактата «Триумф саддукеев» (Saduscismus triumphatus), написанного священником Джозефом Гленвиллом, одним из главных пропагандистов новой науки и членом Королевского общества с 1664 г. Гленвилл начал писать в защиту реальности колдовства в 1666 г., и его первый вариант истории о Момпессоне появился в следующем году в сочинении «Удар по современным саддукеям» (A Blow at Modern Sadducism); под саддукеями он подразумевал тех, кто отрицает реальность духов. (Приведенный выше отрывок взят из другой версии под названием «Триумф саддукеев» (1681), которую после смерти автора издал его друг, философ-платоник Генри Мор, и которая выдержала еще пять изданий.) Цель «Триумфа саддукеев» проста: Гленвилл искал убедительные свидетельства (в том числе собственные) тому, что он называл «избранной коллекцией современных историй», которые сделали бы ведьм, полтергейст и демонов вопросом факта (я сознательно пользуюсь языком современной науки). Так он доказал бы реальность потустороннего мира и опроверг атеистический материализм{986}. Врач по имени Джон Уэбстер в 1677 г. написал трактат «Проявление предполагаемого колдовства» (Displaying of Supposed Witchcraft), критикующий взгляды Гленвилла, но долго не мог добиться разрешения на публикацию, пока не получил его от вице-президента Королевского общества. В конфликте Гленвилла и Уэбстера Королевское общество предпочло не принимать ничью сторону; тем не менее Уэбстер так и не стал его членом. Гленвилл и ему подобные хотели, чтобы новая наука служила защитой от материализма и атеизма; современные взгляды и вера в колдовство не противоречили друг другу{987}.
Слово modern (modernus) – современный – датируется VI в.[292] Оно появилось после разграбления Рима вестготами (410) и установления нового, христианского порядка при Теодорихе (493–526). Тогда современная эпоха была эпохой восстановления после долгого периода разрухи, кризиса и упадка. Затем значение слова modern менялось – от века к веку и от дисциплины к дисциплине. На протяжении приблизительно тысячи лет проводилась граница между древними и современными людьми, под которыми обычно понимали язычников и христиан. Еще в 1382 г. флорентийский хроникер Филиппо Виллани упоминает о «древних, средних и современных временах»; в 1604 г. появился термин medium aevum (предшественник «Средневековья»), и тем самым было обозначено разделение между древней, средневековой и современной историей, которое остается стандартом и в наши дни{988}. Появлялись и исчезали другие термины: «Ренессанс» и «Просвещение» были терминами XIX в. и последние пятьдесят лет они вытесняются «ранней современностью»; все три отражают нежелание считать историю после 1453 г. (падения Константинополя) «современной»{989}. Путешественник XIX в. с путеводителем Бедекера в руках, садившийся в поезд на одном из огромных железнодорожных вокзалов Европы, больше не сравнивал себя с Эразмом Роттердамским, который пересек Европу верхом; в эпоху Просвещения единственным усовершенствованием по сравнению с временами Эразма была карета. Для историка конца XIX в. «современность» (слово XVIII столетия) начиналась не с падения Рима или падения Константинополя, а с появления железнодорожного расписания[293]. И так оно, похоже, и осталось, поскольку мы изобрели термин «постмодерн», чтобы обозначить разницу между нашим миром (приблизительно последние пятьдесят лет) и миром наших родителей, дедов и прадедов.
Шекспир использовал слово modern в значении ordinary (обычный) и contemporary (одновременный). У него отсутствовало достаточно сильное чувство исторических перемен, и поэтому он не подчеркивал необычные явления современного мира, а о самом необычном явлении, известном ему, – Реформации – был вынужден говорить только намеками, поскольку опасался обвинений в католицизме. Поэтому, когда Лафе в пьесе «Все хорошо, что хорошо кончается» заявляет: «Говорят, что чудес больше не бывает; и есть у нас философы, которые стараются сделать обыденным и естественным все сверхъестественное и не имеющее видимых причин. Вследствие этого мы превращаем ужасные вещи в сущие пустяки, загораживаясь мнимым знанием, тогда как следовало бы покоряться неисповедимому страху» (II.iii.891), – он атакует новую протестантскую доктрину, согласно которой чудеса остались в прошлом. Однако Лафе использует modern как синоним ordinary (обыденный), что скорее затрудняет, чем облегчает восприятие его слов. В V в. разграбление Рима означало конец одного мира и начало другого; то же самое можно сказать о железной дороге в XIX в. Шекспир не осознавал, что живет в новом мире, – несмотря на компас, печатный станок, порох и открытие Америки. Он стремился сгладить различия между Древним Римом и современным ему Лондоном, как и между Вероной и Кентербери.
В отдельных дисциплинах понятие современности существовало уже в эпоху Возрождения: в живописи, музыке, военном деле, литературе (современная литература, ярчайшим представителем которой был Данте, писалась на разговорном итальянском, а не на латыни)[294]. Но идея того, что можно было бы назвать «современной эпохой», «современным миром» или «современностью», оформилась только после смерти Шекспира (1616)[295]. Возьмем, например, объемный труд Алессандро Тассони, который был опубликован в 1620 г. и в котором сравнивались достижения древности и современности. Тассони прекрасно знал о всех тех вещах, которых не было у древних, – например, соколиной охоты, шелка или живописи с использованием законов перспективы. Он считал, что некоторые современные технологии – часы, компас, телескоп – отражают реальный прогресс по сравнению с минувшей эпохой. Однако, по его мнению, история в основе своей циклична: достижения любой эпохи могут быть утеряны в следующей. Кроме того, он не понимал решающих перемен, произошедших в естественных науках. В рассуждениях о натурфилософии он восхваляет современных ученых за то, что они не считают достаточным одного лишь авторитета Аристотеля, а также за многочисленные открытия (в основном побочные продукты открытия Нового Света), но считает неоспоримым превосходство греков над современниками. В рассуждениях об астрономии Тассони демонстрирует знакомство с доказательствами Браге, что кометы принадлежат надлунному миру, и с открытиями Галилея, сделанными с помощью телескопа, но считает современным не только Коперника, но и Сакробоско (как относит к современным изобретениям и часы, и телескоп). Он также восхваляет Кремонини, отказывавшегося смотреть в телескоп Галилея. Утверждалось, что Тассони выражает чувство освобождения от древности, преподававшейся в школе, но он лишь считал, что современники должны найти свое место в аудитории вместе с древними. Мысль о замене одних другими просто не приходила ему в голову{990}.
Эта глава посвящена появлению двух аспектов современности. И первым из них было другое значение слова modern (современный), которое в 1660-х гг. стало указанием на науку после Галилея. Так, в «Высшей точке» Гленвилла первая глава была названа «Современные усовершенствования полезного знания», и автор часто использует слово «современный» (современный мир, современность, современное направление философии, современные эксперименты, современные открытия) применительно к постколумбовой эпохе[296]. В том же значении слово «современный» встречается в названии книги Баттерфилда «Происхождение современной науки», отражая устоявшееся значение термина для современников Ньютона. Таким образом, наше понимание слова «современный», когда речь идет о науке, осталось таким же, как в те времена, когда оно использовалось для признания того, что мы называем научной революцией.
Кроме того, наблюдалось ослабление веры в магию и колдовство, о чем намекает в своей речи Лафе, если принять, что modern означает нечто большее, чем «обыденный». В то время такое отношение к сверхъестественному считалось новым и беспрецедентным – то есть тоже современным. Англия начала XVIII в. играла ключевую роль в том, что мир, как выразился Вебер, был расколдован. Именно концепция современности Вебера привлекает наше внимание к этому аспекту научной революции{991}.
В 1704 г. Джонатан Свифт, впоследствии сочинивший «Путешествия Гулливера», опубликовал небольшой памфлет под названием «Битва книг». В нем описано сражение между хранившимися в библиотеке книгами – древними и современными. Свифт написал этот памфлет в 1697 г., и ко времени публикации конфликт, послуживший предметом сатиры, был уже исчерпан. В тексте специально оставлены пробелы, чтобы читатель не знал, кто победил в битве. Конфликт в его английской версии разразился в 1690 г., когда известный политик и дипломат сэр Уильям Темпл (Свифт время от времени работал у него секретарем с 1688 по 1699) опубликовал эссе, в котором защищал древних писателей от современных{992}. Темпл отреагировал на спор, который начался во Франции несколькими годами раньше: утверждалось, что произведения французских писателей XVII в. (который французы теперь называют l’ge classique; этот термин появился в XX столетии) превосходят все, что было написано в древности греками и римлянами. В Англии эти споры вылились в дискуссии об относительных достоинствах таких авторов, как Мильтон и Драйден, с одной стороны, и Вергилий и Гомер – с другой (Шекспир еще не успел заявить о себе как о величайшем из поэтов). «Современники» обрели уверенность в себе.
В этом споре вопрос об относительных достоинствах древней и современной науки поначалу был второстепенным. Темпл в своем очерке лишь упомянул о нем, и в памфлете Свифта «Битва книг» он тоже остается на заднем плане{993}. Однако он стал центральной темой, когда Фонтенель во Франции принялся защищать современников (1686{994}), а затем снова в ответе Темплу, «Размышления о знаниях древних и новых» (1694 г., второе расширенное издание 1698), молодого священника Уильяма Уоттона, который был избран членом Королевского общества, хотя наука не была его главным занятием. (Уоттону поручили составить первое жизнеописание Роберта Бойля; он приступил к работе, но так и не закончил ее, поскольку предался таким порокам, как пьянство и чревоугодие){995}. Темпл почти ничего не знал о науке, гораздо меньше Уоттона, и не испытывал никакого желания восполнить этот пробел. Он умер в 1699 г., оставив после себя неоконченный ответ Уоттону – там отсутствовали рассуждения о науке, которые должны были стать его основным аргументом. Очевидно, он надеялся, что кто-то – возможно, Свифт, – напишет для него недостающий раздел.
После его смерти Свифт опубликовал неоконченный текст (1701){996}. По словам Свифта, следующий фрагмент был написан рукой Темпла, но содержащаяся в нем информация, которая предполагает знакомство с работами Годвина, Уилкинса и других, была явно предоставлена Свифтом, который разбирался не только в вопросах науки, но и почти во всем, что происходит в мире{997}:
Признаюсь, я искал и был бы рад найти то, что было произведено для пользы, удобства и развлечения человечества всеми пустыми предположениями тех, кому приписывали великие достижения в знаниях и учености последних пятидесяти лет (таков возраст наших современных притворщиков). Я действительно слышал о чудесных притязаниях и фантазиях людей, одержимых идеей необыкновенного усоершенствования знаний и наук, которое произошло в наше время, и прогресса, который их ожидает в будущем – универсальное средство, способное исцелить все болезни, философский камень, который будет найден людьми, безразличными к богатству, переливание молодой крови в жилы стариков, которое сделает их игривыми, словно ягнята, всеобщий язык, способный послужить всем людям, когда они забудут собственный, чтение мыслей друг друга, чтобы обойтись без тяжкой необходимости речи, искусство полета, чтобы человек не упал и не сломал себе шею, корабли с двойным дном, которые не тонут при кораблекрушении, восхитительные достоинства того благородного и необходимого сока, который мы называем слюной и который будет очень дешево продаваться в каждой аптеке, открытие новых миров на планетах и путешествия к ним и к Луне, которые станут такими же регулярными, как путешествия между Йорком и Лондоном, – что такие простые смертные, как я, считают столь же необузданными, как фантазии Ариосто, но лишенными их остроумия и нравоучительности. Эти современные мудрецы надеются, что время сохранит в пробирках их безумные фантазии, как сохранило «Неистового Роланда»{998}.
Все это (переливание крови, корабли с двойным дном, коммуникация без слов и даже исцеление слюной) описывается довольно точно. Об этом знал Свифт, но не Темпл.
Уоттон не стал отвечать на публикацию неоконченного произведения Темпла в 1701 г., поскольку его противник умер, а в его эссе отсутствовал глубокий анализ современной науки, который мог поддержать аргументацию автора. Однако появление «Битвы книг» Свифта, в которой содержались язвительные намеки на его сочинение, возмутило его – возможно, потому, что теперь он подозревал, что вклад Свифта в эссе Темпла больше, чем казалось ранее. Поэтому в 1705 г. он опубликовал свой «Ответ», а также яростную критику «Сказки бочки» Свифта (которая была издана вместе с «Битвой книг»), аллегории, воспринятой Уоттоном как атака на основы христианства.
Темпл происходил из знатной семьи и относился к выскочке Уоттону с едва скрываемым презрением{999}. Даже Свифт, чье происхождение было достаточно скромным, считал Уоттона безродным{1000}. Темпл был бы неприятно удивлен, узнав, что его имя будут помнить в основном потому, что он какое-то время был работодателем Свифта, а и он, и Уоттон останутся в истории лишь как люди, подтолкнувшие Свифта к сочинению «Битвы книг»[297]. Об Уоттоне вспоминают еще реже, чем о Темпле. Никто не читает его научных изысканий о Вавилонской башне или о книжниках и фарисеях. Однако, в отличие от Темпла, он не заслуживает такого забвения. Уоттон осознавал приход научной революции и был первым, кто исследовал эту область. Он понимал, что должен описать разницу между древней и современной наукой, должен проанализировать влияние печатного станка, телескопа и микроскопа на новую науку и объяснить, как новый критический подход в сочетании с лучшим распространением информации привел к большей достоверности и фактов, и теорий[298]. Его исследования предыстории теории кровообращения заложили основы истории науки как отдельной дисциплины{1001}. Считалось, что он ошибается, не упоминая о Копернике, но теперь, когда слава основателя современной астрономии постепенно переходит к Тихо Браге, книги Уоттона выглядят не такими уязвимыми[299]{1002}. Именно Уоттон первым высказал мнение, что основание Королевского общества знаменует истинное начало современной науки, поскольку считал достижения XVI в. в первую очередь разрушительными («работой эпохи было убрать мусор»), тогда как только последние сорок или пятьдесят лет «новая философия обосновалась в мире»{1003}.
В заключение Уоттон приходит к выводу, что теперь:
(1) Никакие аргументы не считаются вескими, никакие принципы не принимаются среди знаменитых философов нашей эпохи, кроме тех, которые постижимы умом… Материя и движение с их несколькими свойствами единственно рассматриваются в современных решениях физических задач. Субстанциальные формы, оккультные свойства, умственные образы, индивидуальные особенности, симпатии и антипатии вещей – все они уничтожены… поскольку являются лишь пустым звуком, словами, из которых никто не может сформировать определенную и точно очерченную идею.
(2) Образование сект и партий в философии… полностью осталось в прошлом. Декарту в его собственном мире верят не больше, чем Аристотелю: вес имеет лишь вопрос факта…
(3) Математика объединилась с физиологией [то есть с естественными науками] не только для помощи в понимании и для ускорения ее частей; она абсолютно необходима для постижения устройства природы во всех ее проявлениях.
(4) Новые философы, как их обычно называют, воздерживаются от общих выводов, пока не накопят большое количество экспериментов и наблюдений относительно рассматриваемой вещи; и при появлении нового света старая гипотеза рушится без шума и суматохи{1004}.
Таким образом, Уоттон выполнил глубокий анализ научной революции, хотя и не использовал этот термин. Она стала возможной благодаря печатному станку и изобретению телескопа; она опиралась на математику и механическую философию, а также на новый экспериментальный метод и на установление факта. Новая наука отличалась от всего, что было раньше, поскольку ее основой были эксперимент и наблюдение, а не только теоретизирование, а также из-за признания, что научное знание будет со временем изменяться. В 1694 г. уже были опубликованы «Начала» Ньютона, и Уоттон начал понимать значение этой работы; в 1705 г. он мог говорить о ньютоновской «Оптике» как о образцовом тексте новой науки. У него уже была возможность оглянуться назад, чтобы выявить истоки научной революции и ее основных действующих лиц, очертить ее главные характеристики. Данная книга строго придерживается традиций, установленных моим однофамильцем, Уильямом Уоттоном.
Последнее предложение – вовсе не шутка, поскольку к 1700 г. полностью сформировалась концепция науки, сохранившаяся в основном неизменной до наших дней, а вместе с ней пришло достоверное описание того, что изменилось за предшествующие две сотни лет. В 1650 г. никто не знал, как изучать материальный мир. В 1700 г. уже ни у кого не вызывала возражений идея, что изучение материального мира связано с фактами, экспериментами, свидетельствами, теориями и законами природы. Последующие научные революции преобразовали наши знания, но не расплавили и не отлили в другую форму нашу концепцию науки.
Тем не менее идея современной науки вызывает к жизни целый ряд вопросов, которые нашли свое выражение в фразе Вебера о том, что мир был «расколдован». Уоттон считал, что именно Свифт, критиковавший современность, был недоверчивым скептиком, тогда как сам Уоттон изображал себя традиционным протестантом{1005}. Его нисколько не беспокоит, что наука может ассоциироваться с неверием. Читая Уоттона, мы можем понять, что нет никакого конфликта между философией и христианской верой, но не видим природы их взаимоотношений, а также отношений между наукой и рядом верований, которые мы теперь отвергли как несовместимые с наукой, особенно магией и колдовством. Один из вопросов, которого касается Уоттон, – это алхимия, и здесь явственно проявляется его скепсис, хотя он выражается очень осторожно – возможно, потому что знает, что Бойль и Ньютон являются ее сторонниками; таким образом, Темпл получил возможность осуждать Уоттона за чрезмерную симпатию к алхимикам{1006}. Простительно считать, что в расколдованном мире жили именно Темпл и Свифт, критики современной науки, а не ее защитник Уоттон.
Как это ни странно, работы последнего поколения историков по такой теме, как наука и магия, по большей части бесполезны. Во многих отношениях ключевым текстом остается «Религия и упадок магии» Кита Томаса (1971){1007}. Томас был убежден, что у магии есть две основные составляющие. С одной стороны, магия представляла собой попытку получить власть над природой, и такая попытка была неизбежна в обществах, которые не могли защитить себя от неурожаев, пожаров, болезней, боли и внезапной смерти. Таким образом, вера в магию в принципе должна ослабляться по мере совершенствования технологий, особенно с развитием медицины, появлением страхования и методов смягчения последствий непредвиденных катастроф. По этой причине вера в магию должна была сохраняться вплоть до XIX в. и даже позже. (Конечно, компания Николаса Барбона, специализировавшаяся на страховании от пожара, была основана в 1680 г., но ее услугами могли воспользоваться немногие; точно так же разнообразные братства, например масоны, возникли в начале XVIII столетия, но до XIX в. они были немногочисленными.)
С другой стороны, Томас утверждал, что людей обвиняли в колдовстве и занятиях демонической магией в результате социальной напряженности, особенно по поводу распределения благотворительности. В таком случае вера в демоническую магию должна была сохраняться вплоть до радикального улучшения условий жизни, поскольку в обществе начала XVII в. были сильны и вера в магию, и социальная напряженность. Джозеф Аддисон в своем журнале «Наблюдатель» (Spectator, 1711) утверждает, что в каждой деревне есть женщины, которых считают ведьмами, и это убеждение напрямую отражает социальную напряженность:
Когда женщина становится немощной телом и умом и все больше зависимой от прихода, она обычно превращается в ведьму и распространяет по всей округе нелепые выдумки, воображаемую порчу и пугающие сны. Тем временем бедное и жалкое существо, невинная причина множества бед, начинает бояться самой себя и иногда признает тайные связи и отношения, которые являются порождением ослабленного старостью разума. Зачастую это лишает милостыни тех, кто больше всего заслуживает сострадания, и возбуждает в людях злобу в отношении несчастных, дряхлых существ, в которых человеческая природа уничтожена немощью и слабоумием{1008}.
Тем не менее совершенно очевидно, что в начале XVIII в. среди образованной элиты вера в колдовство стремительно ослабевала. Сам Аддисон называл себя нейтральным в этом вопросе: в принципе он верил в колдовство, но не в обоснованность конкретных обвинений в колдовстве. Такую двойственность отражает случай Джейн Уэнхем, которую в 1712 г. обвинили в колдовстве, но затем помиловали и отпустили. Однако она была не последней, кому грозила смертная казнь: в 1716 г. Мэри Хайкс и ее девятилетнюю дочь казнили за то, что они вызвали бурю. Как бы то ни было, в 1736 г. были отменены законы, направленные против колдовства{1009}. Удивительно, но современники Аддисона (включая его самого) настаивали, что именно священники были в первых рядах новых скептиков относительно обвинений в колдовстве{1010}.
Вполне возможно, существует простое решение этой загадки. Возможно, действительно нет технологического или социологического объяснения тому, что в начале XVIII в. начала ослабевать вера в колдовство, но есть альтернативное объяснение. Причина в новой науке. Томас, обычно избегающий интеллектуалистических объяснений, на этот раз обращается к ним. Его критиковали за такой подход – на том основании, что это вовсе не объяснение, поскольку новая наука и скепсис относительно колдовства просто-напросто являются двумя сторонами одной медали{1011}. Я не согласен с такой критикой. Представим лодки на реке, которые во время отлива застревают в грязи. Подъем лодок можно с уверенностью объяснить приливом, хотя сам по себе подъем лодок является лучшим свидетельством того, что вода прибывает.
Но если причиной и является новая наука, то механизм ее влияния довольно сложен{1012}. После основания Королевского общества в 1660 г. для влиятельной группы его членов, и прежде всего для Бойля, было очень важно доказать, что новая философия не враждебна, а дружественна христианству. Это стало одной из главных целей так называемой «Истории» Спрэта (которая появилась всего семь лет спустя после основания Королевского общества; священник и будущий епископ Спрэт писал под руководством Уилкинса, который получил епископат через год после публикации «Истории»), а также главной целью «Благочестивой философии» (Philosophia pia) Гленвилла (1671 г., на английском, несмотря на латинское название) и «Христианского виртуоза» (Christian virtuoso) Бойля (1690){1013}. Причину понять нетрудно. Как мы уже видели, «корпускулярная философия», как называл ее Бойль, была основана на идеях Эпикура и Лукреция, противников любой религии. Томас Гоббс, не будучи атомистом, разработал материалистическую, эпикурейскую философию, которую все считали враждебной религии. Вероятно, атеистические настроения были широко распространены в лондонских кофейнях (число которых резко увеличивалось после Реставрации в 1660), хотя почти не нашли отражения в печати. Очевидно, среди членов Королевского общества были и неверующие: говорили, что Галлей «даже не притворяется, что верит в христианство», и именно поэтому в 1691 г. ему не дали кафедру астрономии в Оксфорде; вероятно, его немного раздражало, что репутация атеиста не помешала Николасу Сондерсону (впоследствии он стал прототипом слепого атеиста в «Письме о слепых» Дидро) в 1710 г. получить должность лукасовского профессора математики в Кембридже{1014}.
Более того, поскольку с самого основания университетов в XII в. христианскую теологию преподавали в рамках философии Аристотеля, защитники Аристотелевой натурфилософии естественным образом обвиняли новую философию во враждебности правильной теологии, а также правильной философии. Поэтому члены Королевского общества считали своей стратегической целью продемонстрировать, что новая философия полезна христианской вере; разумеется, для многих это был не просто расчет. Бойль был глубоко верующим человеком, жертвовавшим на богоугодные дела, а согласно его завещанию были основаны Бойлевские лекции для неверующих. Он настаивал на совместимости новой науки и христианства, руководствуясь своими убеждениями{1015}.
В первые же годы после основания Королевского общества были выдвинуты две новые группы аргументов в защиту христианской веры. Прежде всего это аргументы картезианцев о том, что разум должен быть нематериален и поэтому разумные существа должны иметь бессмертную душу, а наше знание Бога как существа, превосходящего нас, должно идти извне. В остальном картезианство противоречило традиционной вере, поскольку Декарт был готов представить, что Вселенная полностью стихийна после того, как были установлены фундаментальные законы природы; картезианство также стало источником разных форм атеистической аргументации, в первую очередь Спинозы. Однако основой философии Декарта был набор аргументов в защиту веры. Вторую группу составляли аргументы замысла: сторонники механической философии, сравнивавшие Вселенную с часами (см. главу 12), утверждали, что она представима только как творение всемогущего часовщика. Бойль всячески подчеркивал важность этого аргумента, который противоречил взглядам последователей Эпикура и Лукреция, считавших Вселенную результатом случайного отклонения, которое привело к соприкосновению двух атомов, вызвавшему цепную реакцию.
Обе эти группы аргументов были абсолютно новыми. В традиционной медицине «жизненные силы» выполняли в человеческом теле ту работу, которую мы сегодня приписываем электрическим импульсам, передаваемым по нервам; эти жизненные силы вряд ли можно было назвать материальными. А в теологии пространство населяли ангелы и демоны, даже если у них не было тел в нашем привычном понимании. Таким образом, потусторонний мир представлял собой промежуточную зону между материальным и нематериальным{1016}. Вот как описывал это в 1677 г. Джон Уэбстер:
Как не знаем мы внутреннего устройства тела, так не знаем и высшей степени чистоты и духовности тел, не знаем, где они заканчиваются, и поэтому не можем сказать, откуда отсчитывать начало духовного и нематериального существа. Во Вселенной столько сотворенных тел, самых разных, столько сортов и степеней чистоты и красоты, превосходящих друг друга, что мы не можем сказать, которое из них ближе всего к бестелесности, или природе духа… Поэтому жизненную силу в человеческих телах врачи называют духом, в отличие от костей, связок, мускульной плоти и тому подобного… но мы все равно остаемся заключенными в границах своего тела, такими же материальными, как все остальное, как воздух и эфир. И тем видимым разновидностям других тел, которые перемещаются в воздухе и предстают перед нашими глазами, посредством которых мы различаем форму, цвет, местоположение и сходство одних тел с другими, науками было отказано в качествах, будто они были просто ничем или бестелесными вещами, хотя в действительности они материальны… Так что если мы обладаем телами великой чистоты и готовы постичь природу духа, то мы не можем сказать, где должен начинаться дух, поскольку не знаем, где заканчиваются чистейшие тела{1017}.
Картезианство проводило четкую границу между материальным и нематериальным, но не разъясняло, как ангелы или демоны могут присутствовать в нашем мире. Реджинальд Скот задолго до Декарта пришел к выводу, что в материальном мире нет места (за исключением человеческого разума) для нематериальных существ. Но Уэбстер, считавший себя последователем Декарта, заявлял, что ангелы и демоны есть материальные существа, которых можно видеть и с которыми можно общаться, но, подобно воздуху, слишком эфемерные, чтобы прикоснуться к ним или схватить{1018}. Даже человеческие существа обладают не только нематериальным разумом, но и материальной чувствующей душой, которая может физически присутствовать после смерти. Более того, серьезный удар по декартовскому аргументу о нематериальном разуме нанес Джон Локк в работе «Опыт о человеческом разумении» (1690), признав логическую возможность идеи думающей материи{1019}. Таким образом, картезианское разделение разума и материи оказалось не таким резким и решительным, как казалось.
Что касается аргумента замысла, он радикально отличался от аргумента Фомы Аквинского, утверждавшего, что Вселенная ведома целью и что конечная цель должна быть найдена в Боге. Новые философы считали материю пассивным объектом божественного созидания и отрицали существование Аристотелевых форм. Для них, как мы убедились в главе 9, аргумент творения состоял в том, что они представляли Вселенную созданной, а не в том, что у самой природы имеется цель. Этот аргумент был сильнее, чем разделение на разум и материю, и подвергся систематической критике только в «Диалогах» Юма, изданных после его смерти. Оба этих аргумента основаны на предварительном признании механической или корпускулярной философии, согласно которой материя пассивна, а ее действия всегда направляются извне.
Вместе с этими двумя аргументами в период с 1653 по 1691 г. выдвигался и третий аргумент, опирающийся на язык «фактов»{1020}. Идея была проста: в основе христианства лежит вера в существование духовного мира наряду с материальным. Отрицание духов в форме ангелов и демонов было важным шагом к отрицанию бессмертной души; таким образом, доказательство существования духов станет доказательством реальности духовного мира. Хотя битва должна была разгореться вокруг вопроса о существовании духов, все понимали, что речь идет о существовании Бога. Как выразился Гленвилл, «те, кто не осмеливается прямо сказать БОГА НЕТ, ограничиваются (дабы избежать лжи) отрицанием того, что существуют ДУХИ или ВЕДЬМЫ»{1021}. Это стремление обосновать веру неоспоримыми фактами было привычным в протестантском мире и появилось раньше, чем в науке укоренился новый язык фактов. В Риме роль advocatus diaboli, или адвоката дьявола, была введена еще в 1587 г. для проверки свидетельств о чудесах людей, которых предлагалось канонизировать.
Новая стратегия опровержения атеизма начинается с работы Генри Мора «Противоядие от атеизма» (Antidote against Atheism, 1653), в которой подробно рассматриваются случаи колдовства. Гленвилл, ученик Мора, стал главным выразителем этой стратегии. Благодаря ему некоторые случаи получили широкую известность, и в первую очередь «барабанщик из Тедуорта»{1022}. Свой вклад в распространение подобной литературы внес и Бойль, которому предложили перевести с французского «Дьявола из Маскона» (1658), а Мерик Казобон опубликовал запись бесед Джона Ди с ангелами – или, как считал сам Казобон, с демонами (1659). Бойль много времени посвящал исследованию такого явления, как ясновидение, что можно считать зачатком парапсихологии{1023}. Последней значительной работой этого направления мысли стал труд Ричарда Бакстера «О несомненном существовании мира духов» (The Certainty of the World of Spirits, 1691).
У этой стратегии доказательства существования мира духов путем сбора свидетельств надежных очевидцев была одна главная проблема. Предполагалось, что свидетельства, которые были бы убедительными в отчете о лабораторном эксперименте или в суде, где рассматривается убийство или кража, также могут быть убедительными, когда речь идет об одержимости дьяволом или левитации. Эту точку зрения разделял главный оппонент Гленвилла, Джон Уэбстер. И действительно, можно только удивляться (с учетом того, как редко встречается слово «свидетельство» в текстах Бойля), насколько часто они используют слово «свидетельство»: тридцать два раза у Уэбстера, шестьдесят шесть в издании Гленвилла 1681 г. Уэбстер отрицал существование надежных свидетельств сделки с дьяволом, соития с дьяволом, а также духов в виде черных кошек, присосавшихся к выростам на коже ведьмы, и ведьм, летающих по воздуху или превращающихся в волков или зайцев. Он считал надежными свидетельства, которые можно предъявить в суде: более одного очевидца, причем в здравом уме и непредвзятого. Основываясь на этом критерии, он признавал достоверность свидетельств о привидениях, о том, что тело убитого кровоточит в присутствии убийцы, об алхимии и т. д. Таким образом, споры между Гленвиллом и Уэбстером шли не о реальности демонов, а лишь о границах их присутствия в мире; Уэбстер верил во множество вещей, которые показались бы нам нелепыми, причем на основе свидетельств, которые, по мнению Бойля и Гленвилла, были ничуть не надежнее свидетельств колдовства{1024}.
Фронтиспис второй части трактата Джозефа Гленвилла «Триумф саддукеев», 1681. По часовой стрелке с верхнего левого угла: барабанщик из Тедуорта, ведьма из Сомерсета Джулиан Кокс, встреча ведьм у ворот Тристера, небесное видение в Амстердаме, шотландская ведьма Маргарет Джексон, левитация Ричарда Джонса в Шептон-Маллете
Как бы то ни было, в «Логике Пор-Рояля» (1662) признавалось, что чем менее вероятно событие, тем убедительнее должно быть свидетельство в его пользу, чтобы доказать, что ложность свидетельства менее вероятна, чем отсутствие самого события. Совершенно очевидно, в данном контексте возникает проблема со свидетельствами чудес, которая была быстро затушевана и в самой «Логике», и Локком; видимо, по этой причине аргумент медленно пробивал себе дорогу. Но в первые годы XVIII столетия этот аргумент, связанный с вероятностью, применялся все чаще. Он был центральным в работе Фрэнсиса Хатчинсона «Исторический очерк о колдовстве» (Historical Essay Concerning Witchcraft, 1718, хотя Хатчинсон, будущий епископ, настоятельно подчеркивал свою веру в ангелов), а затем был позаимствован Тренчардом и Гордоном, издавшими в 1722 г. «Письма Катона» (Cato’s Letters){1025}. Он же использовался в одном из памфлетов, вызванных случаем Мэри Тофт, которая в 1726 г. заявила, что родила семнадцать кроликов:
Допустим, у нас есть письмо из Баттерси, сообщающее, что женщина родила пять огурцов, или даже сотня писем, но это не заставит разумного человека поверить во все, что угодно, а скорее предположить, что люди, написавшие эти письма, либо обманывают себя, либо намерены обмануть его. И то и другое может произойти и происходит каждый день, но еще не было такого, что какое-либо существо породило другое существо, во всех отношениях отличное от себя, не говоря уже о пяти или семнадцати таких существах; и поэтому здравомыслящий человек, не говоря уже о проницательном анатоме, должен смотреть на все подобные письма с величайшим презрением{1026}.
В более сложной форме этот аргумент приводится в эссе Дэвида Юма «О чудесах» в «Исследовании о человеческом познании» (1748){1027}.
Христианские церкви не могли отказаться от веры в чудеса и ангелов, но христиане, вне всякого сомнения, могли не настаивать на реальности колдовства, одержимости демонами, полтергейста, левитации и ясновидения. И действительно, мы уже видели, что священники, составлявшие авангард армии тех, кто защищал веру в духов, первыми начали это отступление, которое уже шло полным ходом во время суда над Джейн Уэнхем в 1712 г. Такое отступление сделал возможным новый, убедительный аргумент в пользу религии.
В 1687 г. Ньютон опубликовал «Начала», где были заложены основы его теории тяготения. Гравитация предполагала действие на расстоянии, что механическая философия считала невозможным. В континентальной Европе сопротивление ньютонианству продолжалось до 1740-х гг. и в нем участвовали ключевые интеллектуальные фигуры, такие как Гюйгенс, Лейбниц и Фонтенель{1028}. В Англии значение «Начал» осознавалось медленно просто из-за сложности книги: говорили, что за период с публикации книги до смерти Ньютона в 1727 г. должным образом понять ее могли только десять человек{1029}.
Переломным моментом для широкого распространения открытия Ньютона стал 1692 г., когда Ричард Бентли прочел первый курс Бойлевских лекций. Бентли был выдающимся ученым своего времени, стоявшим на классических позициях, но его также избрали членом Королевского общества{1030}. Он вступил в битву между древностью и современностью на стороне своего друга Уоттона, предоставив для второго издания «Размышлений» пространные доказательства того, что письма Фалариса, которые Темпл считал одной из жемчужин классической литературы, были более поздней подделкой. Он не стремился к духовной карьере, но в 1690 г. получил сан диакона, а впоследствии стал священником. Готовясь к лекциям, он написал Ньютону, который ответил: «Когда я писал свой трактат о нашей системе мира, я имел в виду такие принципы, которые применительно к людям могли бы способствовать вере в Бога, и ничто не может обрадовать меня больше, чем известие о том, что мой труд оказался полезен именно для такой надобности»[300]{1031}.
Восемь лекций Бентли были опубликованы под названием «Неразумность и нелогичность атеизма, продемонстрированные преимуществами и радостями религиозной жизни, способностями человеческих душ, строением живых тел, а также происхождением и строением мира» (Folly and Unreasonableness of Atheism Demonstrated from the Advantage and Pleasure of a Religious Life, the Faculties of Human Souls, the Structure of Animate Bodies, & the Origin and Frame of the World, 1693). Первая лекция была посвящена социальным и психологическим преимуществам религии, вторая – картезианскому аргументу против мыслящей материи, третья, четвертая и пятая – строению человеческого тела, а последние три – ньютоновскому описанию Вселенной. Вслед за Ньютоном Бентли приводит простой довод: гравитация необходима для того, чтобы Бог постоянно «направлял и приводил в движение» Вселенную; гравитация была «непосредственным указом и перстом Божьим, исполнением божественного закона… который, будучи доказанным, сразу пошатнет и разрушит все башни и батареи, возведенные атеистами против небес». Это был «новый и неоспоримый аргумент в пользу существования Бога»{1032}. Более того, наша Солнечная система не могла возникнуть случайно, а требовала преднамеренной расстановки своих частей в определенном порядке, чтобы оставаться стабильной. Таким образом, можно показать, что и Вселенная, и человечество были созданы милосердным Богом.
Именно эти новые аргументы стали предпосылкой серьезного культурного сдвига после 1692 г. и среди ученых, и среди богословов. Старая аргументация, основанная на мире духов, была отброшена (во всех опубликованных Бойлевских лекциях, начиная с XVIII в., я смог найти лишь одно упоминание о колдовстве), а их место заняла новая, рационализированная (как мы бы ее назвали) теология. Ньютонианское христианство Бентли, если не открыто, то косвенно, преподносилось как альтернатива не только вере в демонов, но также чрезмерному рационализму картезианцев. Мишенью Бентли в данном случае был Томас Бернет, которой в своей «Священной истории Земли» (Sacred Theory of the Earth, на латыни 1681–1689; на английском 1684–1690) стремился дать научное объяснение Всемирному потопу.
Как мы уже видели, последователи Аристотеля полагали, что сфера воды в десять раз больше сферы земли, и поэтому для них загадкой был не тот факт, что во время потопа вся земля была покрыта водой, а почему этого не происходит постоянно. После того как землю и воду объединили в одну сферу, стало очевидно, что воды недостаточно, чтобы покрыть всю поверхность сферы. Более того, картезианцы утверждали, что Вселенная представляет собой заполненное веществом пространство, в котором нет места пустоте. Поэтому, если Бог решил временно сотворить дополнительную воду, он должен был одновременно разрушить материю, которая занимала место, предназначенное для воды. Бернет считал это неправдоподобным. Он предположил, что в прошлом Земля была идеально гладкой оболочкой, которая полностью окружала воду; некая катастрофа привела к тому, что оболочка растрескалась и часть ее опустилась под воду, в результате чего возникла та Земля, какую мы видим сегодня. Аргументация Бернета вызвала у широкой публики неподдельный ужас. Как выразился Герберт Крофт, епископ Херефордский, «этот метод выводить все из естественных причин, боюсь, превращает весь мир в насмешников»{1033}. Бентли, опираясь на такие работы, как «Мудрость Божия, явленная в деле творения» Джона Рея (The Wisdom of God Manifested in His Works of Creation, 1691), настаивал на том, что Земля с самого начала была создана такой, какой мы ее видим, со всеми океанами и заливами, – для пользы человечества. Следовательно, Всемирный потоп нужно рассматривать как истинное чудо, а не как естественное событие, которое просто совпало с широким распространением людских пороков{1034}.
Такими образом, с одной стороны, аргумент Бентли был повторением традиционных доводов христианства, гораздо более консервативным, например, чем книга Уильяма Уинстона «Новая теория Земли» (A New Theory of the Earth, 1696), которая развивала ньютоновское представление о космосе утверждением, что Всемирный потоп стал результатом приближения кометы. Но в спорах о демонах и ведьмах Бентли был на стороне радикалов, что можно понять из его последующей критики одного из величайших нерелигиозных текстов XVIII в., «Рассуждение о свободомыслии» (Discourse of Freethinking, 1713) Энтони Коллинза. В своем эссе «Замечания о рассуждении о свободомыслии» (Remarks upon a Late Discourse of Freethinking, 1713) Бентли, укрывшийся под псевдонимом Филелефтерос (любящий свободу), ясно дает понять, что верит в колдовство не больше, чем Коллинз, и доброжелательно отзывается о книге Балтазара Беккера «Заколдованный мир» (The Enchanted World, 1691), серьезной атаке на веру в колдовство и одержимость демонами, первоначально опубликованной на голландском языке, а также о работе Сэмюэла Харснета, вероятно «Заявлении о вопиющих папистских мошенничествах» (A Declaration of Egregious Popish Impostures, 1605). Харснет испытал сильное влияние Реджинальда Скота и стремился показать, что случаи предполагаемой одержимости дьяволом – это умышленный обман. Таким образом, Бентли – на что указывает и выбор псевдонима – готов признать нечто общее со сторонниками свободомыслия, по крайней мере, в том, что касается колдовства, одновременно защищая традиционную церковь.
Для нас главная ценность «Замечаний» Бентли заключается в его объяснении, почему ослабела вера в колдовство:
В мрачные времена – не потому, что они были папистскими, а вследствие невежества – до Реформации любая необычная болезнь, сопровождавшаяся странными симптомами, бессвязным бредом или конвульсиями, поеданием несъедобных вещей или противоестественными выделениями, из-за незнания естественных причин приписывалась действиям дьявола. Это суеверие разделялось всеми, от деревни до королевского двора, и, хотя не навязывалось духовными лицами, было свойством человеческой природы. Ни один народ не избежал ее, даже рай в Нью-Джерси нашего автора, куда еще не ступала нога священника. И если следующая эпоха будет невежественной, то суеверие… я бы не сказал, что вернется, но возникнет снова. Что же стало причиной ослабления веры в колдовство в Англии? Не растущая секта [свободомыслящих], а развитие философии и медицины. Благодарить нужно не атеистов, а Королевское общество и коллегию врачей, Бойля и Ньютона, Сиденхема и Рэтклиффа. Когда люди видят, что болезни, которые они приписывали колдовству, излечиваются медициной, они также излечиваются от своей ошибки: благодаря событию, а не ложным априорным представлениям они познают истину, что это были не ведьма, не дьявол и не Бог{1035}.
Обратите внимание, с какой осторожностью Бентли излагает свои взгляды: систематическое отрицание веры в ведьм, дьявола или Бога – это ложные воззрения атеиста, а отказ от суеверного представления, что болезни вызываются колдовством, – правильная позиция философа. Атеист рассуждает «априорно», а философ – «благодаря событию», то есть на основе опыта. Конечно, Бентли не думал, что Бойль, Ньютон, Сиденхем и Рэтклифф непосредственно боролись с верой в колдовство, и, вероятно, знал, что Бойль одобрял такую веру. Скорее он хотел сказать, что, независимо от своих намерений, новая наука разрушала суеверия. Новый подход к свидетельствам, который Спрэт восхвалял как «пытливый, дотошный и скептический», поощрял общий скепсис в отношении чудес, ясновидения и колдовства. По мере того как крепло убеждение, что Бог действует посредством «известных и неизменных законов», а не чудес, дьявол тоже начинал действовать с помощью обычных греховных искушений, а не сверхъестественной одержимости и заклинаний{1036}. Таким образом, Бентли защищал тезис Фомы Аквинского: совершенствование методов лечения болезней в сочетании с накоплением научных знаний подрывает веру в магию и колдовство. Он противопоставлял знания и суеверия. (Конечно, никаких усовершенствованных методов лечения болезней тогда не было, но Бентли, очевидно, полагал, что медицина делает огромные успехи, хотя теперь это утверждение можно назвать неоправданным.)
Бентли не был одинок в своем убеждении, что прогресс науки уничтожит суеверия. И действительно, ослабление традиционных верований уже началось. Первой подверглась атаке вера в фей и домовых (по свидетельству Реджинальда Скота, большинство образованных людей перестали в них верить уже в 1580-х гг.), затем пришла очередь концепции симпатии и антипатии[301], а за ней последовала вера в приметы – необычная форма облаков, двойное или тройное солнце, кометы, рождение уродцев – предвещавшие, как считали еще в Древнем Риме, катастрофу. В «Рассуждениях о знаках» (Discourse Concerning Prodigies, 1663) Джон Спенсер утверждал, что натурфилософия является действенным средством против суеверий:
Человеческий ум укрепляет природа всякого знания, но особенно философии: она предохранит нас как от камней атеизма, поскольку обратит к пониманию первопричины, к которой постепенно сводится и в которой разрешается все второстепенное, а также от отмелей суеверия, поскольку знакомит нас с побочной причиной. Фантазия с готовностью предлагает нам страшные и сверхъестественные объяснения тех вещей, причины и природа которых неизвестна и которые рассеиваются (как тени сумерек) под лучами знания. Философия подводит нас (как человек лошадь) близко к первопричинам и дает нам ясное и четкое видение того, что нас пугало прежде, заставляет стыдиться глупости и слабости наших прежних страхов{1037}.
Атака на приметы была частью более общей тенденции, которая возникла после Реформации и была направлена на подрыв «энтузиазма» (особенно веры в непосредственное вдохновение Святым Духом) – на том основании, что он может привести лишь к конфликту в обществе{1038}. Так, например, Спрэт хотел подчеркнуть склонность новой науки смягчать «причуды» тех, кто верит в ясновидение и чудеса:
Представим нашего философа, обладающего недоверчивостью и безжалостностью судьи, которые иногда неверно называют слепотой ума и жестокосердием. Представим, что он решительно отказывается признавать что-либо превосходящее силу природы, но убедительное свидетельство убеждает его. Пусть он всегда будет настороже, всегда исполнен внимания к любому чудесному событию, и пусть его суждения не будут застигнуты врасплох уловками веры{1039}.
По мнению Спрэта, энтузиазм своими ложными заявлениями о божественном вмешательстве в мир просто предлагает заложников атеизму. Чтобы веру можно было защитить, ее необходимо свести к набору основополагающих убеждений.
Главной ценностью, занявшей место легковерного благочестия, стала вежливость, которой были озабочены авторы конца XVII и начала XVIII в. У Спенсера уже отражается эта новая тенденция, когда он по-новому описывает христианство:
Но те, кто говорит о таких сильных проявлениях божественного в наши дни [подобных тем, что описаны в Ветхом Завете] и ищет их, неверно понимают характер и состояние той ситуации, в которую поставило нас появление Спасителя; во всех делах следует проявлять больше степенности, спокойствия и немногословия, что согласно и отражает нрав, проявленный в миру нашим Спасителем, который не закричит и не пожалуется, но глас Его будет услышан на улицах, а также состояние разумного существа, руководимого настойчивыми и спокойными доводами, словами мудрых, высказанными спокойно. Таинства Евангелия преподносятся в степенных и обстоятельных речах, умы людей теперь не вводятся в исступленный восторг такими неистовыми и великими примерами божественной силы и справедливости, как при более примитивном и рабском состоянии мира. Чудеса, совершенные нашим Спасителем, имеют спокойную и благовоспитанную природу [он исцелял слепых, хромых и увечных, не вызывал гром и дождь, как Самуил, а усмирял их]{1040}.
Таким образом, колдовство было легко отнести к примитивным явлениям, неуместным для новой эпохи – спокойной, неторопливой, тихой и рассудительной. Но Спенсер не дает – и не может – ответа на вопрос, когда же закончилось это «примитивное и рабское состояние мира». С приходом Спасителя? А может, после Реформации или Реставрации?
В период с 1653 по 1692 г. многие новые философы стремились подтвердить свою приверженность традициям, демонстрируя веру в ангелов и демонов, несмотря на то что это не соответствовало спокойному и вежливому миру, к которому они стремились во всех других аспектах. После 1692 г. ньютонианство предложило жизнеспособный альтернативный аргумент в пользу веры, основанный на соотношении вероятностей, который сначала был использован против колдовства, но затем и против чудес (вместе со «Свободным исследованием» (Free Enquiry) Мидлтона 1747 г. и эссе Юма 1748). Аргументы в пользу существования магии и колдовства почти не выдвигались. Но со временем промежуточная позиция между суевериями и рационализмом, которую стремились занять умеренные мыслители вроде Спрэта и Бентли, все чаще подвергалась критике, и маятник качнулся в другую сторону. Когда нападкам стали подвергаться евангельские чудеса (хотя и не в открытую), то, что еще недавно считалось суеверием, снова стало достойным уважения. Этот новый мир изобразил Хогарт на своей гравюре «Доверчивость, суеверие и фанатизм» (1762), которая не только высмеивает текущее положение дел, но и обращается к началу века, когда в последний раз высказывались подобные взгляды: Мэри Тофт производит на свет кроликов, на стопке с экземпляром книги Гленвилла и проповедями Уэсли стоит термометр для измерения градуса фанатизма, а на самом термометре – барабанщик из Тедуорта. Эпоха скепсиса отступала перед новыми разновидностями религиозного энтузиазма.
Таким образом, в целом Бентли был прав: новая наука подрывала веру в магию и колдовство, как она подрывала веру в астрологию и алхимию. Но этот процесс не был гладким. В 1653–1692 гг. вера в колдовство и занятия алхимией часто шли рука об руку с новой наукой, и если новая наука в конечном итоге оказалась несовместимой с ними, то это произошло благодаря непредвиденным, а не предсказанным последствиям новой философии. Рационализм начал укореняться только после 1692 г.; а когда потом он подвергся систематическим нападкам Джона Уэсли, результатом стало не его поражение, а появление – впервые – двух культур, науки и веры.
Примечательно, что и Уоттон, и Бентли были одновременно богословами и защитниками новой науки, а Свифт, высмеявшей обоих в «Битве книг», был священником, разбиравшимся в науке гораздо больше их. В Англии священники и ученые все еще принадлежали к одной культуре, и между ними не было различий в том, что касалось веры или неверия в магию и колдовство. Священнослужители, интересующиеся наукой, Уоттон и Бентли были типичными первыми сторонниками ньютонианства. Многие из последователей Ньютона имели духовное звание: первый королевский астроном Джон Флемстид, Сэмюэл Кларк, участник Бойлевских лекций и сторонник Ньютона в его споре с Лейбницем, Джеймс Бредли, савильянский профессор астрономии в Оксфорде и королевский астроном, Уильям Дерем, автор «Физикотеологии» (Physico-Theology, 1713), выдержавшей множество изданий и переводов, Уильям Уистон, преемник Ньютона в должности лукасовского профессора математики в Кембридже и т. д. Атеисты – а их было много – обычно больше интересовались классическими знаниями, чем современной наукой. Они публиковали работы с такими названиями, как «Первые две книги Филострата, рассказывающие о жизни Аполлония Тианского, написанные изначально на греческом языке и теперь опубликованные на английском, вместе с философскими примечаниями к каждой главе» (Two First Books of Philostratus, Concerning the Life of Apollonius Tyaneus: Written Originally in Greek, and now Published in English: Together with Philological Notes upon each Chapter, Charly Blount, 1680). Массированная атака Бентли на Коллинза уступила место спору о толковании цитаты из Цицерона. Линия фронта XIX в. еще не была обозначена.
Формирование общей культуры, связывающей священнослужителей, математиков, изготовителей инструментов и аристократов, таких как Джеймс Бриджес, герцог Чандос, и Джордж Паркер, второй граф Маклсфилд, требовало постоянных усилий{1041}. В этом процессе можно выделить четыре составляющих. Во-первых, существовала потребность преподавания ньютонианства в университетах: первым ньютонианским учебником физики была работа Джона Кейла «Введение в физику» (1701), которая конкурировала с адаптацией Сэмюэла Кларка «Физики» Роо (1697), где в процессе многочисленных переизданий картезианство Роо постепенно тонуло в ньютонианских комментариях Кларка. В упрощенном виде взгляды самого Ньютона были изложены Вильгельмом Гравезандом сначала на английском (1720), а затем на латыни (1723); еще доступнее они стали в книге Джона Пембертона «Обзор философии сэра Исаака Ньютона» (1728). Во-вторых, ньютонианское христианство требовалось защищать от критиков, например, такими работами, как «Геометрия не друг безбожию» (Geometry No Friend to Infidelity, 1734). Кроме того, ньютонианство следовало сделать доступным для широкой публики. «Новая теория» (New Theory, 1696) Уистона стала первой книгой, в которой просто и подробно были изложены аргументы «Начал» Ньютона, но за ней быстро последовали такие работы, как «Священная космология» (Cosmologia sacra, 1701) Неемии Грю, «Астрономия джентльмена» (Young Gentleman’s Astronomy, 1718) Эдварда Уэлса Младшего, «Беседы об астрономии между джентльменом и дамой» (Astronomical Dialogues between a Gentleman and a Lady, 1729) Джона Харриса, «Основы философии Ньютона» (Elments de la philosophie de Newton, 1738) Вольтера и «Ньютонианство для дам» (Newtonianismo per le dame) Франческо Альгаротти (1739, книга выдержала тридцать изданий на шести языках).
Уильям Хогарт. Доверчивость, суеверие и фанатизм. Гравюра, 1762. Изображен десяток примеров колдовства и суеверий, в том числе в правой части гравюры барабанщик из Тедуорта, стоящий на термометре для измерения градуса фанатизма (сам термометр водружен на экземпляр книги Гленвилла, а на переднем плане Мэри Тофт, которая производит на свет кроликов
Кажущаяся одержимость образованием дам отчасти объясняется подражанием «Диалогам» (Dialogues) Фонтенеля (французские женщины играли центральную роль в культуре салона), а отчасти примером Эмили дю Шатле, музы и вдохновительницы Вольтера, которая была квалифицированным математиком и перевела «Начала» на французский язык (1756){1042}. Даже Вольтер, избегавший бесед между философом и дамой – формы, популяризированной Фонтенелем, – любил представлять, как его книгу читает утонченная женщина, сидящая за туалетным столиком. И конечно, у него были такие читательницы; Вольтер переписывался с Лаурой Басси, первой женщиной, получившей ученую степень в Болонском университете и ставшей преподавателем. Басси заведовала кафедрой физики и, естественно, преподавала физику Ньютона{1043}. В Англии это были Афра Бен, переводившая Фонтенеля, и поэтесса Элизабет Картер, которая перевела книгу Франческо Альгаротти. Таким образом, женская аудитория не была выдумкой{1044}.
Эти три составляющих кампании в защиту ньютонианства со временем усиливались. Очевидным показателем процесса может служить количество книг, в названии которых упоминалось имя Ньютона. Когда Сэмюэл Джонсон в своем эссе «Тщеславие писателей» (The Vanity of Authors, 1751) писал: «Каждая новая система мира порождает массу толкователей, дело которых – объяснить и проиллюстрировать ее и которые могут надеяться просуществовать не дольше, чем основатель их секты сохранит свою репутацию», – он считал естественной ситуацию, которая была абсолютно новй{1045}. Никто не популяризировал системы мира до появления «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля (1686); сторонники Ньютона переняли и приспособили приемы картезианцев, чтобы сделать гораздо более серьезную и сложную интеллектуальную систему доступной для массовой аудитории. В процессе они стремились не только сохранить идею общей культуры, разделяемой всеми образованными людьми, но также приспособить эту идею к новой эпохе дешевых книг, массовой коммуникации и почти всеобщей грамотности.
Но это еще не все. Лучший способ распространения экспериментальной философии – дать людям возможность наблюдать за экспериментами. В Лондоне с 1698 по 1707 г. Джон Харрис давал публичные лекции, иллюстрируя их опытами и объясняя «принципы истинной механической философии». Вскоре он уже соперничал с Джеймсом Ходжсоном, Фрэнсисом Хоксби-старшим и Хэмфри Диттоном. В 1713 г. Уильям Уистон (который был изгнан из Кембриджа в 1710 г. за еретические взгляды) начал читать лекции и демонстрировать опыты в Лондоне. В январе он читал лекции дома, а также совместно с Фрэнсисом Хоксби Старшим, весной с Фрэнсисом Хоксби Младшим (племянником Фрэнсиса Хоксби Старшего) в Крейн-Корте, а также лекции по математике в Douglas’s Coffee House и в Marine Coffee House. Самым знаменитым из популяризаторов науки был Джон Теофил Дезагюлье (еще один священнослужитель с ньютонианскими взглядами, хотя он по большей части пренебрегал своими обязанностями пастора и не выказывал признаков религиозных убеждений), который начал читать лекции и демонстрировать опыты в Лондоне весной 1713 г., а в 1717 г. опубликовал «Физико-механические лекции» (Physico-Mechanical Lectures). К 1734 г. он прочел 121 курс лекций не только в Лондоне, но также в провинции и в Нидерландах, и мог похвастаться, что из дюжины действующих лекторов он подготовил восьмерых. Лекции были доступны для широкой публики – в Ньюкасле и Сполдинге, в Скарборо и Бате{1046}.
Напрашивается вывод, что Ньютон – благодаря высокому интеллектуальному уровню его работ – способствовал новому профессионализму в науке, так что она превратилась в занятие для посвященных, доступное только элите{1047}. На самом деле все наоборот. С конца XVII столетия новая наука при помощи проповедей и лекций, доступных учебников и драматических диалогов впервые в истории распространялась среди широкой публики. Если она внесла вклад в то, что мир был расколдован, то именно благодаря внедрению в среду образованных людей, духовного звания и светских, мужчин и женщин. Настоящей исторической загадкой является не это ослабление веры в ведьм и демонов в XVIII в., а поступательный процесс расколдовывания мира в XIX.
14. Знание – сила
Я никогда бы не поставил физиологию так высоко, как теперь, если бы думал, что она может лишь научить человека понимать природу, но не управлять ею, и что она служит лишь для того, чтобы приятными догадками услаждать его разум, не повышая его силу.
Роберт Бойль. Размышления (1663){1048}
Каковы взаимоотношения между научной революцией и промышленной революцией, между революцией математиков и революцией механиков? Заявление, с которого начинается эта книга, – о том, что научная революция стала самым значительным событием со времен неолитической революции, – зависит от ответа на этот вопрос. Если научная революция была событием лишь в мире идей, ее значение довольно ограниченно, но если она открывает путь к власти над природой, то промышленную революцию можно рассматривать просто как продолжение научной революции, распространение процедур, языка и культуры новой науки на более широкие социальные слои техников и инженеров. Нет никакого сомнения, что Бэкон и его последователи стремились преобразовать мир при помощи новой науки. В середине XVIII в. «История Королевского общества» Берча начиналась с эпиграфа, цитаты из Бэкона: «Натурфилософия, как я ее понимаю, не соскальзывает в возвышенные и утонченные спекуляции, но практически применяется для облегчения неудобств человеческого состояния»{1049}. Девиз Французской академии наук, основанной в 1666 г., «Naturae investigandae et perficiendis artibus» («Исследование природы и совершенствование техники»), в 1699 г. был изменен на более звучный, «Invenit et perficit» («Прогресс через открытия»).
Теперь нам легко найти проявления наивного энтузиазма у некоторых первых ученых: например, Амброзио Саротти, который приехал в Англию со своим отцом Паоло, венецианским послом (1675–1681), а после возвращения домой организовал научное сообщество, проводившее эксперименты с вакуумом[302]. Через год он с гордостью объявил коллегам: «Если бы с начала времен все люди объединились и каждый год делали бы то, что вы одни сумели сделать за этот год, то теперь жили бы так счастливо, как в земном раю»{1050}. И это несмотря на то, что они не открыли ничего полезного. Неудивительно, что не все были убеждены в полезности новой науки{1051}. Джонатан Свифт написал третью книгу «Путешествий Гулливера» (1726) с единственной целью – отрицания этой полезности. В то же время его нападки свидетельствовали, что он сомневался в своей правоте и пытался определить природу врага. Лапута – это летающий остров, которым управляли ученые, настолько одержимые математикой, что не обращали внимания на мир, который их окружает: они прибегали к услугам пажей с пузырями, которые хлопали их по губам и ушам, чтобы напомнить о том, когда нужно слушать, а когда говорить. Но на земле, в Бальнибарби, колонии лапутян, была создана академия в подражание той, что существовала на летающем острове, и ученые в ней преследовали практические цели в высшей степени непрактичными методами, такими как извлечение солнечных лучей из огурцов и получение ткани из паутины. И только губернатор не одобрял все эти изобретения:
Он рассказал мне, что на расстоянии полумили от дома у него была отличная мельница, которая работала водой, отведенной из большой реки, и удовлетворяла потребности как его семьи, так и большого числа его арендаторов. Около семи лет тому назад к нему явилась компания прожектеров с предложением разрушить эту мельницу и построить новую на склоне горы, по хребту которой они собирались прорыть длинный канал в качестве водохранилища, куда вода будет подниматься при помощи труб и машин и приводить в движение мельницу, так как ветер и воздух, волнуя воду на вершине, сделают ее будто бы более текучей и при падении по склону ее понадобится для вращения мельничного колеса вдвое меньше, чем в том случае, когда она течет по почти ровной местности. Его превосходительство сказал, что, будучи в несколько натянутых отношениях с двором и уступая увещаниям друзей, он согласился привести этот проект в исполнение; после двухлетних работ, на которых было занято сто человек, предприятие развалилось, и прожектеры скрылись, свалив всю вину на него; с тех пор они постоянно издеваются над ним и подбивают других проделать такой же эксперимент, с таким же ручательством за успех и с таким же разочарованием напоследок[303]{1052}.
Свифт не указал, какие именно «машины» использовались, но, вне всякого сомнения, он имел в виду паровые машины, которые обычно применялись для подъема воды. Таким образом, Свифт считал новую науку абсолютно непрактичной и в то же время одержимой практичностью. Такое сочетание нельзя назвать невозможным – примером тому может служить Саротти – однако оно может поставить в тупик.
Со времен Свифта историки науки не слишком углубили наше понимание связи между наукой и техническим прогрессом. Естественно, сторонники марксизма хотели доказать, что новая наука была результатом новых социальных отношений. В 1931 г. русский историк Борис Гессен (он был казнен в 1936 г., в начале сталинского Большого террора) утверждал: «Наука развивалась вместе с буржуазией. Буржуазии для развития ее промышленности нужна была наука, которая исследовала бы свойства физических тел и проявления сил природы». Но не только марксисты предполагали, что новая наука мотивировалась возможным практическим применением: Роберт К. Мертон в своем классическом исследовании 1938 г. «Наука, техника и общество в Англии XVII в.» (Science, Technology and Society in Seventeenth-century England) подчеркивал роль пуританства в поощрении полезного знания и вслед за Гессеном утверждал, что целью науки XVII в. действительно были практические приложения, хотя и отрицал марксистские допущения Гессена{1053}.
Тем не менее авторы ряда исследований (самым влиятельным из них считается работа Альфреда Руперта Холла) заявляли, что им удалось показать: независимо от намерений ученых, на практике новая наука не оказывала почти никакого влияния на технический прогресс. Показательным примером считалась паровая машина Уатта (1765). Уатт сконструировал свою новую машину в Глазго, где Джозеф Блэк предложил теорию «скрытой теплоты» (ок. 1750). Впоследствии Блэк сотрудничал с Уаттом и внес вклад в конструкцию новой машины. Был ли Уатт знаком с понятием скрытой теплоты, когда задумывал свою машину, и помогли ли ему теоретические знания? Он настаивал, что нет, и историкам приходится (нехотя) верить ему на слово{1054}. Теперь часто цитируется фраза Лоуренса Джозефа Хендерсона (вероятно, произнесенная в 1917): «Наука больше обязана паровой машине, чем паровая машина науке»{1055}. В конце концов, Сади Карно разработал удовлетворительную теорию паровой машины только в 1824 г., через сто лет после появления первой машины Ньюкомена и через шестьдесят лет после Уатта. Холл считал, что мы не сильно погрешим против истины, если скажем, что «инженерное дело ничем не обязано науке вплоть до конца XVIII в. Томас Кун противопоставлял науку и технику по крайней мере до 1870-х гг.{1056}
Можно предположить, что специалисты по истории техники стремились поставить под сомнение это несоответствие теории и практики – но поначалу эти же люди изучали историю науки{1057}. Самая серьезная атака на традиционные взгляды была предпринята совсем недавно, причем с неожиданной стороны: ее начали современные исследователи истории экономики в период промышленной революции, подчеркивавшие значение квалификации и технических новшеств в том, что они называют «экономикой знаний»{1058}.
В данном вопросе современные специалисты по истории экономики правы (как мы вскоре убедимся). Те же, кто настаивает на ключевой роли науки в промышленной революции, должны ответить на простой и ставший уже классическим вопрос: какую роль наука играла в изобретении паровой машины? Но сначала нужно расшифровать простое, на первый взгляд, понятие практического знания. Главный вопрос здесь связан со временем: сколько времени следует ждать, прежде чем объявить теоретическое открытие или техническое достижение бесполезным для практики? Должна ли, как предполагал Холл, новая наука быть современной по отношению к технике, которая создана на ее основе?{1059}
Возьмем, например, баллистику. Изначально Галилей надеялся, что такие его открытия, как закон (как мы его теперь называем) падения тел, а также параболическая траектория снарядов совершат революцию в артиллерии. Когда его ученик Торричелли приступил к практическим опытам с пушечными ядрами с целью проверить теории Галилея, выяснилось, что траектория отличается от параболической: он утверждал, что теория верна, но ее нельзя применять при больших скоростях, поскольку никто не знает, как правильно учитывать сопротивление воздуха (как оказалось, ее можно применять к снарядам, летящим на небольшое расстояние с низкой скоростью){1060}. В конечном итоге революцию в баллистике совершили Робинс и Эйлер в период с 1742 по 1753 г. благодаря открытию звукового барьера и пониманию того, как влияет на траекторию вращение снаряда (вызванное намеренно, с помощью нарезки ствола; ядра Торричелли кувыркались в полете). В результате были выведены уравнения для надежного вычисления траекторий. Физика Галилея мыслилась как практическая, но не нашла применения в самой, казалось бы, очевидной области. Тем не менее его идеальная параболическая траектория стала важной предпосылкой для гораздо более сложного анализа реальных траекторий, выполненного Робинсом и Эйлером. Теория Галилея была практической – просто потребовалось целых сто лет, чтобы это понять. В 1780-х гг. для юного Наполеона, обладавшего исключительными математическими способностями, задачи, перед которыми спасовал великий Торричелли, были всего лишь школьными упражнениями – естественно, в Военной школе{1061}.
Или возьмем задачу, которая занимала Галилея большую часть его сознательной жизни: вычисление долготы в открытом море. Угол к северу или югу от экватора (широту) вычислить легко, если знать дату, – по высоте Солнца над горизонтом в полдень. Угол к западу или востоку определить гораздо сложнее, поскольку отсутствует надежная точка отсчета. Галилей выдвигал предположение, что в качестве универсальных часов можно использовать затмения лун Юпитера (которые он открыл в 1610). Имея надежные таблицы, предсказывающие эти затмения, можно определить время, которое показывают эти мировые часы; сравнение местного времени (например, прошедшего после полудня) с временем места, для которого составлены таблицы, позволяет без труда вычислить угол к востоку или западу от точки отсчета. Теория была красивой. Рассчитать движение спутников Юпитера оказалось непросто, но Галилей и его соратники упорно работали, и Галилей даже сконструировал маленькую механическую модель, которая позволяла определить положение спутников без сложных вычислений; его расчеты были бы еще точнее, знай он, что следует учитывать скорость света, поскольку время затмения также зависит от расстояния от Юпитера до Земли.
Но главная трудность была чрезвычайно простой: как смотреть в мощный телескоп на крошечный, удаленный объект и проводить надежные наблюдения на судне, которое прыгает по волнам? Галилей изобрел мощный бинокль, прикреплявшийся к голове, поскольку трудно удерживать телескоп в неподвижности на раскачивающемся корабле, а также нечто вроде кресла на шарнирах для наблюдателя (в шарниры был вмонтирован компас). Проблема вычисления долгот была широко известна: правительства разных стран предлагали огромные вознаграждения тем, кто сумеет ее решить. Галилей хотел добиться бессмертной славы именно этим открытием, а не другими; он пытался претендовать на награду испанских властей, но безрезультатно (его ученик Кастелли отправился в плавание, но был сражен морской болезнью), а в последние годы жизни вступил с тайные переговоры с голландцами в надежде, что они воспримут его идеи и применят на практике, но переговоры закончились неудачей{1062}.
Или Галилей был прав? В 1679 г. семья Кассини (они эмигрировали из Италии во Францию, где стали знаменитыми как астрономы и картографы) использовала луны Юпитера для вычисления долготы, но не на море, а на суше. Эти измерения позволили им пересчитать площадь Франции (которая оказалась на 20 процентов меньше, чем предполагали), а также определить форму земного шара (хорошая новость для последователей Ньютона и сокрушительный удар по картезианцам). Галилей оказался прав: спутники Юпитера были перспективным способом измерения долготы. Просто потребовалось шестьдеят лет, чтобы воплотить его предложение на практике, причем только на суше{1063}.
Существовали и альтернативные предложения, как вычислить долготу. Долгое время все питали надежду, что определить координаты морякам поможет отклонение магнитной стрелки компаса. Несмотря на усилия нескольких поколений, надежда оказалась иллюзорной, поскольку и магнитное склонение, и магнитное наклонение непредсказуемо меняются{1064}. В конечном итоге лучшим оказалось самое простое решение: все, что требовалось, – это взять в путешествие надежный и точный прибор для измерения времени и сравнивать разницу между местным временем (например, местным полуднем) и временем в точке отсчета (например, на Гринвичском меридиане).
Галилей был убежден, что ему удалось доказать, что маятники способны показывать точное время, и он изобрел маятниковые часы (хотя не изготовил их; он уже ослеп, когда заинтересовался этим вопросом, а у его сына, который пытался ему помочь, отсутствовали необходимые навыки). Гюйгенс, не знавший о работе Галилея, изготовил первые маятниковые часы (1656) и уточнил закон движения маятника (1673). Тем временем Роберт Гук, Гюйгенс и Жан де Отфей в период с 1658 по 1674 г. придумали способы управления маховиком (который был изобретен в XIV в. и обладал большей устойчивостью, чем маятник, что делало его более пригодным для мобильных измерителей времени) с помощью пружины, так что маленькие или наручные часы стали надежными измерителями времени. Тем не менее задача конструирования часов для мореплавания была еще далека от решения: такие часы должны оставаться точными независимо от температуры, влажности и качки. Это удалось Джону Харрисону, который в 1735 г. сконструировал первый надежный морской хронометр{1065}. Но неужели открытия Галилея, Гука и Гюйгенса тут не сыграли никакой роли? Конечно, сыграли, но их было недостаточно. Для решения задачи потребовалось больше ста лет, но на протяжении всего столетия это решение постоянно приближалось.
Разумеется, часы не были изобретением XVII в. Как мы уже видели, первые механические часы датируются концом XIII в., а их механизм из зубчатых колес был позаимствован от водяных и ветряных мельниц. Водяные мельницы, известные еще древним грекам и римлянам, в те времена не получили широкого распространения, но в процессе средневековой предшественницы промышленной революции, приблизительно в конце 1-го тысячелетия н. э., они появились повсюду. В Книге Судного дня мы находим сведения о том, что в 1086 г. в Англии насчитывалось более шести тысяч водяных мельниц. За ними довольно быстро последовали вертикальные ветряные мельницы: первые, о которых сохранились достоверные сведения, были построены в Уидли, в Йоркшире, в 1185 г. Учитывая тот факт, что самая высокая концентрация средневековых водяных мельниц наблюдалась в Англии, вряд ли можно считать совпадением, что именно в этой стране появились первая вертикальная ветряная мельница и первые механические часы. В качестве источника энергии пар победил воду и ветер только после 1830 г.{1066}; в придуманной Свифтом Лапуте, как и в Англии XVIII в., энергия пара не заменяла энергию воды, а дополняла ее.
Тем не менее считалось, что именно изобретения Галилея, Гука и Гюйгенса подготовили почву для появления зубчатых механизмов времен промышленной революции{1067}. До середины XVII в. шестерни размечались и вырезались вручную. Гук спроектировал первую машину для изготовления одинаковых шестерен, что сделало возможным массовое производство машин и механизмов. Для того чтобы изготовить свои машины, инженеры XVIII и XIX вв. должны были стать часовщиками (например, Ричард Аркрайт сотрудничал с часовщиком Джоном Кеем, когда в 1769 г. конструировал прядильный станок), а качество их продукции значительно повысилось в результате революции в часовом деле, которая произошла после 1656 г.{1068}
Механические часы предоставляют нам прекрасную возможность для сравнения, поскольку мы можем увидеть, как реагировали на них другие культуры, когда знакомились с часами путешественников из Европы. Японцы вскоре начали сами изготавливать часы (точно так же, как ружья), а китайцы не проявили интереса к определению времени по часам и не стали заниматься их изготовлением, хотя еще в XI в. Су Сун изобрел сложные водяные часы для астрономических измерений. С их точки зрения, часы были довольно забавным, но бесполезным предметом роскоши – нечто вроде музыкальной шкатулки. (Точно так же китайцы не торопились перенимать плоды революции в военном деле, хотя порох изобрели в Китае.) Таким образом, распространение механических часов в средневековой Европе вовсе не было неизбежным{1069}.
В XIV и XV вв. часы быстро завоевывали популярность: во-первых, европейцы уже привыкли к механике (водяные и ветряные мельницы), во-вторых, движение круглых шестеренок в миниатюре отражало движение небес в системе Птолемея (первые часы часто указывали астрономическое время – фазы Луны, знаки зодиака), а в-третьих, часы представляли собой обезличенный механизм для координации совместных действий (чтение молитв в монастырях и соборах, открытие и закрытие рынков в городах и деревнях). Эгалитарные общины (города, монастыри и церковные приходы, выбиравшие своих глав) управлялись по часам – в отличие от деспотий. Для часов выделялись видные места в монастырях, соборах и муниципалитетах, но в королевские дворцы они пробивались с трудом. (Даже в наше время в кампусе моего университета, построенном в 1960-х гг., видное место занимает башня с часами, но ее цель – не сообщать время, а создавать ощущение дисциплинированного, равноправного сообщества.) Эти факторы – культурный, технический, концептуальный и политический – отсутствовали в Китае, и поэтому китайцы восхищались часами, но не пользовались ими.
Совершенно очевидно, что часы укрепили представление о Вселенной как о сложном механизме, и последователи Коперника считали, что на небе и на земле действуют одни и те же законы. В 1605 г. Кеплер, вдохновленный работами Гильберта о магнетизме, писал:
Моя цель – показать, что небесная машина – не некое божественное живое существо, а скорее часовой механизм (а тот, кто верит, что у часов есть душа, приписывает славу творца творению), поскольку почти все из ее многочисленных движений вызываются простейшей материальной силой, так же как все движения часов вызываются весом гири[304]. Я также покажу, как это физическое описание подчиняется математике и геометрии{1070}.
Но в Средние века и в эпоху Возрождения часы были несовершенными, и приходилось не только каждый день поднимать приводящие их в движение гири, но и регулировать ход, и только усовершенствованные часы Гюйгенса дали возможность представить Вселенную как идеальный механизм, наподобие часового, но не нуждавшийся в уходе со стороны божественного часовщика. Новый образ, дополнивший декартовский образ «автомата», появился уже в 1662 г., через шесть лет после изобретения маятниковых часов. Вот цитата из Саймона Патрика, защитника новой науки:
Изогоническая карта магнитного склонения Галлея, опубликованная в 1701 г. Каждая линия на карте подобна линии уровня, но указывает не одинаковую высоту, а одинаковое магнитное склонение. Галлей организовал две экспедиции, чтобы выполнить измерения для этой карты, и надеялся, что это откроет путь к использованию магнитного склонения для вычисления долготы
Несомненно, это обязанность философии – выяснить процесс этого божественного искусства в великом автомате мира, наблюдая, как одна часть приводит в движение другую и как эти движения различаются в зависимости от величины, формы, положения каждой части, начиная с первых пружин…[305]{1071}
Часовой механизм, ставший источником плодотворной метафоры, поощрял научную революцию, а также способствовал совершенствованию сложных зубчатых механизмов, создавая условия для промышленной революции, но сам не был ни продуктом этих революций, ни необходимой предпосылкой для них, поскольку существовали и другие разновидности зубчатых механизмов.
Можно привести еще один пример отложенной пользы в техническом прогрессе. Первые инженеры, например Леонардо, много времени уделяли гидравлическим устройствам, и их примеру последовал Галилей со своими учениками. Галилей консультировал работы по осушению земель, его ученик Кастелли давал советы папским властям по использованию рек и опубликовал объемный трактат по этому вопросу (Della misura delle acque correnti, 1628). Его ученик Торричелли совершил прорыв в теории, сформулировав закон (1643), который мы теперь называем законом Торричелли и который позволяет определить скорость потока, зная высоту напора воды (или высоту напора воды, зная скорость потока), а также произвел практические измерения потока реки Кьяна, притока Арно. Ученик Галилея Фамьяно Микелини, который сменил его на должности философа великого герцога, также опубликовал работу по гидравлике (Trattato della direzioni de’ fiumi, 1664){1072}.
Тем не менее прошло сто лет, прежде чем в Англии Джон Смитон, опираясь на труды Торричелли, приступил к разработке систематической программы экспериментов с моделями водяных колес, чтобы выявить наиболее эффективную конструкцию и понять, как можно усовершенствовать каждую из них: какого размера должно быть колесо и как быстро оно должно вращаться? Насколько глубоко должны погружаться в воду лопасти? К своему удивлению, Смитон обнаружил, что наливные колеса (на которые вода льется сверху) в два раза эффективнее подливных (в которых вода течет вдоль нижней части), хотя теория говорила о том, что разницы быть не должно (правда, Дезагюлье справедливо предположил, что на практике наливные колеса будут эффективнее){1073}, и он затруднялся объяснить, почему они ведут себя по-разному. Поэтому Смитон сформулировал несколько эмпирических правил для конструирования водяных колес; он сыграл важную роль в переходе от подливных к наливным колесам или, где это было неудобно, к среднебойным колесам (в которых вода подается на колесо на половине его высоты). И после этого – только после этого – мы можем сказать, что работа Галилея и его учеников по изучению потока воды наконец принесла плоды в виде усовершенствованной практической техники{1074}.
Модель колеса «подливной» конструкции Джона Смитона. Колесо диаметром два фута. Из «Экспериментального исследования», 1760
Пример водяных колес представляет особый интерес, поскольку эти устройства совершенствовались очень медленно на протяжении почти тысячи лет. Путем проб и ошибок строители мельниц узнавали, что нужно делать, а что нет, но быстрый прогресс требовал систематических экспериментов, которые стали возможными лишь после того, как экспериментальный метод получил новый интеллектуальный статус. Сам Смитон изучал юриспруденцию, а затем работал учеником механика, прежде чем стал инженером (он первым стал называть себя «гражданским инженером» – в противовес военным – и основал общество гражданских инженеров){1075} и членом Королевского общества. Он соединял теоретические и практические знания, как Гук в конструировании часов. И естественно, он отвечал на вызовы экономики, которая требовала все больше энергии. Смитон строил паровые машины, порты, мосты и каналы (в том числе Колдер-Навигейшн, комплекс каналов и шлюзов, который делает реку Колдер судоходной).
Что же мешало выполнить эксперименты Смитона в 1680-х или даже в 1580-х гг.?[306] Работа Смитона зависела от двух интеллектуальных предпосылок. Во-первых, все знали, что работа с масштабными моделями может вводить в заблуждение, поскольку механизмы нормального размера часто ведут себя иначе. Понятийный аппарат для анализа этой проблемы предоставил Галилей в своем труде «Две новые науки», и Смитон принял во внимание один аспект, тот факт, что в масштабных моделях трение обычно больше, чем в механизмах нормального размера, – он искусно измерил величину трения в своих моделях, а затем учел ее. Во-вторых, работа Смитона опиралась на систематическое применение закона Торричелли. К этим двум предпосылкам можно добавить и третью: при вычислении эффективности водяного колеса путем сравнения работы на входе и на выходе Смитон пользовался законом сохранения энергии Ньютона. В этом смысле его работа была постньютоновской. Однако он мог сравнивать результаты разных типов водяных колес и без измерения абсолютной эффективности. Более того, при определении силы Смитон устранился от конфликта между последователями Ньютона и последователями Лейбница по поводу определения «силы» (теперь конфликт разрешен разделением момента и кинетической энергии): для успеха его работы разрешать конфликт было не обязательно.
Таким образом, совершенно очевидно, что эксперименты Смитона были невозможны в 1580-х, но вполне возможны в 1650-х гг., а также вполне ожидаемы после того, как все больше людей понимали идеи, изложенные в «Началах» Ньютона. Работу с моделями тоже нельзя было назвать новшеством: Дезагюлье изготавливал модели паровых машин в 1720-е гг., причем он был явно не первым. Однако только в середине XVIII в. Смитон и Уатт стали использовать модели для определения производительности механизмов. Те, кто считает, что современная наука произошла от эмпирических опытов ремесленников и мастеров, должны учитывать необыкновенно медленную эволюцию водяных колес до внедрения научного метода Смитона. Чтобы систематически и сознательно применять научный метод, как это делали Смитон и Уатт, необходима более или менее надежная теория и уверенность, что эксперименты, несмотря на свою трудоемкость, открывают путь к серьезному успеху. В 1750-х г. теория была не нова – в отличие от уверенности. Источником такой уверенности служила программа знакомства широкой публики с новой наукой с помощью публичных лекций и книг учеников Ньютона, и прежде всего Дезагюлье{1076}.
В конечном счете современная наука разрешила две самые трудные практические задачи, которые сама перед собой поставила: вычисление траектории снарядов в реальных условиях и измерение долготы. Ученые XVII в. не смогли решить их, но подготовили почву для своих преемников в XVIII в., которым это удалось. Кроме того, в середине столетия Смитон и Уатт улучшили эффективность использования воды и пара, которые приводили в движение машины. В краткосрочной перспективе важнее оказались достижения Смитона, в долгосрочной – Уатта. В 1726 г., когда эти практические задачи еще не были решены, сомнения Свифта в пользе науки звучали разумно; но в 1780 г. или даже в 1750 г. защищать такую позицию было бы гораздо труднее. Как это ни странно, историки застряли в мире Свифта, а когда они читают такие тексты, как работы Смитона, то воспринимают их наивно, словно это отражение планов поиграть с моделями, а используемая в них терминология банальна; они по-прежнему не замечают того факта, что именно новая наука выявила взаимосвязь между высотой напора воды и скоростью пара.
Первым великим практическим успехом новой науки стала паровая машина Ньюкомена 1712 г. – вероятно, именно ее высмеивал Свифт, когда писал о мельницах, построенных там, где нет рек. Но важно рассматривать достижение Ньюкомена в перспективе. К 1800 г. в Британии было изготовлено только 2200 паровых машин: приблизительно две трети из них были машинами Ньюкомена, а четверть – машинами Болтона и Уатта{1077}. В период с 1760 по 1800 г. использование энергии воды (в основном благодаря работам Смитона) в два раза превышало использование энергии пара{1078}. Великая эра пара еще не наступила: когда Мэри Шелли в 1818 г. опубликовала своего «Франкенштейна», ее представление об ужасающей силе новой науки практически не включало пар (единственное упоминание о «чудесном действии пара» было добавлено, скорее всего, Перси Шелли при передаче книги в печать), хотя в 1804 г. Блейк уже писал о «темных сатанинских мельницах» (вероятно, он имел в виду Albion Flour Mills, первую крупную фабрику в Лондоне, построенную в 1786 г. и использовавшую паровую машину Болтона и Уатта){1079}. В 1807 г. пароход Фултона начал выполнять регулярные рейсы между Нью-Йорком и Олбани, в 1819 г. судно «Саванна», оснащенное и парусами, и паровой машиной, пересекло Атлантику, а в 1829 г. по рельсам помчался паровоз Стефенсона «Ракета». В 1836 г. уже можно было сказать, что пар стал признаком «новой эпохи в истории мира». Он «неизмеримо» расширил возможности человечества{1080}.
В 1712 г. промышленная революция и эра пара были еще делом далекого будущего, а в 1836 г. стали реальностью. Они появились благодаря новой культуре технических знаний, таким людям, как Уатт и Смитон, а также высоким зарплатам в Англии (поскольку многие новые изобретения приносили прибыль только в экономике высокой заработной платы){1081}. Паровая машина не сделала промышленную революцию неизбежной – она сделала ее возможной. Экономика высокой заработной платы существовала и раньше (например, после эпидемии чумы) – но без промышленной революции. Конечно, многие изобретения, сыгравшие важную роль в промышленной революции, – например, прядильный станок Аркрайта – ничем не были обязаны науке, но без усовершенствованных водяных колес Смитона и без эффективных паровых машин Болтона и Уатта не могли бы работать фабрики, на которых изготавливалось это новое оборудование.
Чтобы понять роль паровых машин, можно обратиться к аналогии с методами варки кофе. Одни люди делают это с помощью воды, по каплям стекающей в фильтр с молотыми кофейными зернами, – они используют силу тяжести. Другие предпочитают кофеварку эспрессо, где вода пропускается через молотый кофе с помощью пара – пар в кофеварке находится под высоким давлением, и поэтому необходим предохранительный клапан. А некоторые применяют вакуумный метод, когда вода втягивается в расположенный выше сосуд с помощью пара (при низком давлении, поскольку требуется только компенсировать вес воды), а затем, когда при охлаждении пар конденсируется, в сосуде создается вакуум, и вода всасывается в него через молотые зерна. Вакуумный метод использует атмосферное давление.
Паровая машина была продуктом науки XVII в., экспериментировавшей с вакуумом, а также с давлением воздуха и пара{1082}. Простой пример использования давления воздуха – это пневматическое оружие, которое в XVII в. называли «ветряным». Мерсенн описывал такое устройство в 1644 г., и в этом же году этот термин впервые встречается в английском языке; Бойль опубликовал описание одной из конструкций в 1682 г.{1083} Принцип действия у него следующий: с помощью мехов в сосуд накачивается воздух, а затем сжатым воздухом выталкивается стрела или пуля. Для создания высокого давления можно также использовать пар в замкнутом пространстве. Этот принцип использовал делла Порта в 1606 г., а в 1625 г. Саломон де Косс придумал паровой фонтан. Он работал так же, как наплитная кофеварка эспрессо: давление пара в камере с одним выходом выталкивает воду в верхний сосуд, а затем наружу. Закон Бойля предлагал теоретическое объяснение, как давление может быть использовано для создания мощной силы, если найдется способ обуздать эту силу и извлечь из нее пользу.
Однако существовала и альтернатива конструированию разных механизмов, использующих высокое давление. Эта альтернатива – механизм низкого давления – основана на работе фон Герике с воздушным насосом. Фон Герике показал, что если откачивать воздух из цилиндра, то атмосферное давление вталкивает поршень в цилиндр, причем с такой силой, что удержать его не могут несколько сильных мужчин{1084}. В 1680 г. Гюйгенс придумал другой способ приручить атмосферное давление. Он использовал взрыв, чтобы вытеснить воздух из цилиндра через клапан; затем, после охлаждения горячих газов, поршень втягивался вниз, поднимая груз.
Эта идея была подхвачена Дени Папеном, врачом, который начал научную карьеру в качестве помощника Гюйгенса и проводил эксперименты с воздушным насосом. Затем он переехал в Англию: для протестанта Папена жизнь во Франции становилась все более некомфортной. Здесь он работал помощником Бойля; по свидетельству самого Бойля, Папен придумал многие эксперименты, опубликованные в книге «Продолжение новых экспериментов» (на латыни 1680, на английском 1682) и выполнил их все. На самом деле книгу написал вовсе не Бойль, а Папен{1085}. В 1680 г. Папена избрали членом Королевского общества (по своему социальному статусу он был не просто техническим помощником), но его материальное положение оставалось шатким (его освободили от уплаты взносов). С 1681 по 1684 г. он работал в Венеции, потом вернулся в Англию, но в 1687 г. снова уехал: сначала занял должность профессора математики в Марбурге (где поссорился со своими коллегами, которые не видели нужды в профессоре математики, и с единоверцами, которые отлучили его от церкви), а с 1695 г. служил инженером у ландграфа Гессенского в Касселе. Там, на реке Фульда, он успешно испытал примитивную подводную лодку{1086}.
Папен развил идею Гюйгенса. Он сконструировал устройство, состоявшее из цилиндра с небольшим количеством воды, который нагревался пламенем горелки. Вода превращалась в пар, вытесняла воздух и толкала поршень в верхнюю часть цилиндра, где с помощью пружины срабатывал стопор. Затем нагрев прекращали, пар конденсировался и поршень запасал энергию; как только стопор убирали, поршень под давлением воздуха опускался в нижнюю часть цилиндра. В сущности, это было пневматическое оружие, приводимое в действие атмосферным давлением, только роль пули играл поршень. Папен представил, что несколько таких поршней, вращающих шестерни, могут приводить в движение корабли, и таким образом удастся сэкономить на гребцах (гребные суда все еще широко использовались, особенно в Средиземноморье и на реках); он также считал, что подобная машина может применяться для откачки воды из шахт, если поблизости отсутствует река, служащая источником энергии для насоса{1087}. К сожалению, у него не было механизма, следившего, чтобы цилиндры быстро запасали и отдавали энергию или (в данном случае) отдавали энергию в определенном порядке.
Паровой насос Джованни Баттисты делла Порты. Из Tre libri de’ spiritali, 1606
Фонтан де Косса, приводимый в действие паром. Из La Raison des forces mouvantes, 1615
В этот период Папен экспериментировал с разными паровыми машинами, и кульминацией этих экспериментов стала карета на паровом двигателе, которая ездила у него во дворе{1088}. Он даже предположил, что наступит время, когда машины с паровым двигателем обгонят кавалерию. Недоброжелатели, высмеивая его, говорили, что он работает над созданием летающий машины, и он признавался, что такая мысль действительно приходила ему в голову{1089}. Папен изобрел – это был его личный вклад в войну против Людовика XIV (который изгнал из Франции протестантов, в том числе самого Папена) – пушку, стрелявшую гранатами на 90 ярдов со скорострельностью двести выстрелов в час (или даже пятьсот, как он утверждал позже). Конструкция была простой: с помощью рычага в цилиндре опускался поршень, создавая вакуум, а когда поршень отпускали, он резко поднимался, выталкивая гранату в направлении врага. Другими словами, это была адаптация его атмосферной паровой машины, а если точнее, то возвращение к более ранней идее пневматического оружия, приводимого в действие атмосферным давлением{1090}.
В марте 1704 г. Папен все еще работал над атмосферным паровым двигателем. Каких успехов он добился? Ответ на этот вопрос можно найти в блокноте, принадлежавшем Роджеру Норту, английскому юристу, музыканту и литератору{1091}. В нем Норт описал и нарисовал двухцилиндровую атмосферную паровую машину, которая, по его словам, существовала «только в виде модели». В то время слово «модель» имело два значения: одно из них совпадало с современным, но чаще использовалось другое – графическое представление, схема или рисунок{1092}. Фраза «в виде модели» встречалась крайне редко, но афиша, опубликованная в 1651 г., указывает в названии краткое описание христианской доктрины «в виде модели»: настенная карта{1093}. Так что Норт, вероятно, видел не рабочую модель и даже не макет, а рисунок – отсюда его утверждение, что он видел машину только в виде модели. Когда именно он видел этот рисунок, точно определить невозможно: самая первая запись в блокноте относится к 1701 г., и это дает нам приблизительную дату. Вероятно, это та самая паровая машина, которая приводила в движение карету, ездившую по двору Папена.
Устройство, нарисованное Нортом, представляет собой усовершенствование атмосферной машины Папена; теперь цилиндры были снабжены автоматическим клапанным механизмом и работали поочередно (в 1676 г. Папен изобрел воздушный насос с точно такой же конструкцией). Приводной механизм явно напоминает то, что проиллюстрировал Папен, когда в 1695 г. опубликовал отчет о своих экспериментах на французском языке. В нем утверждалось, что образцом послужил механизм часов, хотя в данном случае зубчатое колесо отодвигается от рейки по завершении рабочего хода, а не наоборот: реечный механизм с храповиком важен потому, что это далеко не лучший способ вращения оси с помощью поршня (кривошип гораздо эффективнее). В первом воздушном насосе Бойля применялся реечный привод поршня (в паровой машине Папена, наоборот, поршень приводит в движение реечный механизм), но отсутствовал храповик, который позволяет рейке возвращаться в исходное положение без поворота колеса. Возможно, эта конструкция – работа одного из последователей Папена, но скорее всего, самого Папена; очевидно, он отправил рисунок своей последней паровой машины кому-то из английских друзей, и рисунок показали Норту. Однако у нас нет никаких свидетельств, что Папен работал над атмосферной паровой машиной после 1704 г.; ничего не известно и о распространении его машины, которую нарисовал Норт. Усовершенствования, придуманные Папеном в период с 1695 по 1704 г., ни на что не повлияли, и без рисунка Норта мы бы о них не узнали. Таким образом, реальный вклад Папена заключался не в этом.
Запись в блокноте Роджера Норта с рисунком двухцилиндровой паровой машины и реечного механизма, с помощью которого цилиндры вращают ось. Из Британской библиотеки, Add. MS 32504
В 1698 г. Томас Севери, военный инженер и член Королевского общества, получил патент на паровой насос, в котором для подъема воды использовалось и атмосферное давление, и давление пара (высказывались подозрения, что он просто скопировал конструкцию Эдварда Сомерсета, маркиза Уорчестерского (ум. 1667), который придумал насос, приводимый в действие паром){1094}. Пар впускался в цилиндр, который затем охлаждали водой. При конденсации пара вода через трубку всасывалась в цилиндр. Затем клапан закрывался, вода нагревалась и пар выталкивал воду из цилиндра. Таким образом, машина Севери всасывала и выпускала воду, подобно мехам, но всасывание вызывалось конденсацией, а выпуск – расширением пара. В ней не было движущихся частей, за исключением клапанов. Поскольку всасывание выполнялось под действием атмосферного давления, насос не мог поднять воду больше чем на 30 футов, но выпускать воду он мог на любую высоту – это определялось силой давления пара. Поэтому Севери предложил устанавливать такие насосы на дне шахты и использовать их для откачки воды на поверхность. На практике устройство использовалось для питания роскошных фонтанов, а не для осушения шахт, поскольку Севери не сумел изготовить котлы и цилиндры, выдерживающие достаточно высокое давление{1095}.
Новость о насосе Севери достигла ушей ландграфа Гессена, и Папену поручили сконструировать паровой насос высокого давления. По всей видимости, первые попытки не принесли успеха, и за советом по улучшению конструкции насоса пришлось обратиться к Севери. Но затем Папен успешно применил паровую машину для подачи воды в декоративный фонтан (фонтаны Людовика XIV в Версале сделали декоративные фонтаны предметом соревнования среди монархов и аристократов). Одна из его машин взорвалась (хотя Папен изобрел предохранительный клапан) и едва не убила ландграфа, а котел другой машины лопнул во время зимних морозов. Насос Папена часто называют, и не без основания, усовершенствованным насосом Севери, хотя Папен утверждал, что изобрел его самостоятельно{1096}. Существенное отличие от насоса Севери заключалось в том, что насос Папена поднимал воду только в цикле расширения, и в нем вода, использующаяся для работы системы (она превращалась в пар, который затем конденсировался), отделялась от перекачиваемой воды с помощью поплавка (похожего на цилиндр, но не использовавшегося в качестве приводного механизма); таким образом предотвращались потери тепла на нагрев воды, которую качал насос. Более того, для охлаждения цилиндра применялись брызги воды, что ускоряло конденсацию пара{1097}.
Недовольный жизнью в Гессене, где ландграф не оказывал его исследованиям той поддержки, на которую он рассчитывал, Папен решил вернуться в Англию. Рассказывали, что он построил лодку с паровым двигателем, погрузил на нее свои пожитки и поплыл по Фульде, надеясь таким образом добраться до Англии. К сожалению, он преодолел только 15 миль до слияния с Везером; дальше находился участок реки, на передвижение по которому имела монополию местная гильдия лодочников. Папен пробовал добиться исключения, но безуспешно. Лодочники решительно стали на защиту своих прав, захватили судно Папена и уничтожили его. В результате появление транспортных средств с паровыми двигателями задержалось почти на столетие.
Рисунок Папена 1695 г. с изображением различных пневматических устройств. В системе слева используется водяное колесо, чтобы приводить в действие поршни, которые накачивают воздух, а они, в свою очередь, приводят в движение второй комплект поршней, которые поднимают и опускают ведро. Вверху в центре изображен цилиндр Папена, приводимый в движение атмосферным давлением: после конденсации пара выдвижение стержня, обозначенного буквой Е, приводит к опусканию цилиндра. Справа расположены два рисунка реечного механизма с храповиком.
Однако в основе истории о лодке с паровым двигателем лежит путаница. Папен действительно построил лодку без паруса и весел, и ее действительно уничтожили, но в движение ее приводила вовсе не паровая машина (что становится очевидным из переписки Папена). Папен построил колесное судно (причем не первым – Севери опередил его и в этом), но не пароход, потому что колесо вращалось вручную при помощи коленчатого рычага{1098}. Совершенно непонятно, почему эту историю часто пересказывают, не подвергая сомнению: в конце концов, если в 1707 г. можно было построить работающий пароход, то почему водный транспорт на паровых машинах появился только через сто лет? Один из авторов даже пришел к выводу о подлом заговоре. Но свидетельства, опровергающие этот миф, были опубликованы еще в 1880 г.{1099}
Паровой насос Папена. Из Nouvelle manire pour lever l’eau par la force du feu, 1707. Котел расположен слева, бак для воды, который необходимо наполнить, – справа; необходима постоянная подача воды в воронку, обозначенную буквой G. На рис. 2 изображена конструкция водяного колеса, которое должно приводить в движение насос. Сам насос представляет собой усовершенствованную машину Севери – с поплавком для разделения пара и перекачиваемой воды. Он снабжен двумя предохранительными клапанами Папена
Папен, потерявший все свое имущество при уничтожении лодки и разлученный с женой, прибыл в Англию в 1707 г. и предложил Королевскому обществу финансировать постройку средства передвижения с паровым двигателем. Это предложение передали Севери, который был не только единственным специалистом в этой области, но также обладателем патента, сформулированного настолько широко, что фактически подтверждал его права на любой паровой двигатель. Севери настаивал, что поплавок/поршень создаст слишком большое трение и поэтому конструкция неработоспособна. Ньютон, будучи президентом Королевского общества, отверг весь проект как слишком дорогой{1100}. Конечно, Ньютон мог быть предубежден против Папена, поскольку тот дружил с Лейбницем, конфликт которого с Ньютоном все усиливался. Королевское общество после нескольких лет охлаждения, когда из-за отсутствия денег проводилось лишь небольшое количество экспериментов, снова обратило свой взор к экспериментальной науке, но Папен ничего не добился{1101}.
Конечно, Ньютон был прав. Конструкция Папена была безнадежно дорогой. Причина понятна из рисунка машины Папена. Устройство требует подачи воды в механизм насоса, и источник воды должен находиться выше цилиндра{1102}. Если двигатель установить на судне, а воду брать из моря или реки, то двигатель должен располагаться ниже ватерлинии, что требует очень большого судна с очень глубокой осадкой{1103}. Папен это прекрасно сознавал – он предложил Королевскому обществу судно водоизмещением восемьдесят тонн, около 100 футов длиной и стоимостью «около четырехсот фунтов»{1104}. Сколько это в современных ценах? 50 тысяч фунтов, если считать с использованием индекса розничных цен, и 725 тысяч, если использовать индекс средней заработной платы. Возможно, было бы нагляднее сравнить эту сумму с годовым жалованьем лукасовского профессора математики в Кембридже – она в четыре раза больше, то есть 400 тысяч фунтов в современных ценах[307].
Таким образом, иллюстрации XIX в., на которых Папен плывет на лодке с паровым двигателем, абсолютно неверны, поскольку на них двигатель установлен на палубе небольшого судна, а не большого океанского корабля, причем под палубой. Невозможно обойти и другую проблему: паровая машина Папена могла окупиться только при массовом производстве[308]. Система была просто-напросто непрактичной. Папен, постоянно придумывавший новые проекты (например, он считал, подобно многим другим, что сможет сконструировать достаточно точные часы, пригодные для измерения долготы), не нашел никого, кто бы его поддержал. Его последние годы были омрачены неудачами и бедностью. Последний раз он подал о себе весточку 23 января 1712 г. «Положение мое, – пишет он, – печально»{1105}. Мы не знаем, где, когда и как умер этот великий инженер и ученый{1106}.
Всего через пять лет после неудачи Папена Ньюкомен построил первую коммерчески жизнеспособную паровую машину. Огромным преимуществом машины Ньюкомена была ее простота и скромные притязания. Она состояла из одного поршня, приводимого в движение атмосферным давлением. Опускаясь, поршень тянет за рычаг, который приводит в действие нагнетательный насос. Вес механизма насоса заставляет поршень оставаться в верхнем положении. Затем из цилиндра вытесняется воздух и заменяется паром. Пар конденсируется путем впрыскивания воды в цилиндр (Ньюкомен пришел к этому решению случайно), и атмосферное давление перемещает поршень вниз, после чего пар снова впускается в цилиндр при атмосферном давлении, которое уравновешивает давление на цилиндр сверху, и он поднимается под действием веса механизма насоса. Машина работала медленно, совершая около пятнадцати циклов в минуту. Устройство очень простое, как и первая паровая машина Папена 1690 г.: оно состоит из одного цилиндра и приводится в действие только атмосферным давлением. Машина Севери и вторая машина Папена для эффективной работы требовали создания высокого давления, но на практике не удавалось изготовить котлы и цилиндры, которые выдержали бы такое давление. С другой стороны, Ньюкомену, в отличие от Севери, пришлось сконструировать подвижный поршень, столкнувшись со всеми трудностями, связанными с трением и отсутствием герметичности.
Ньюкомен не получил формального образования. Он родился в 1664 г., жил в Дартмуте, в Девоне, торговал скобяными изделиями и был старостой местной баптистской церкви. Тем не менее практически в одиночку (нам известен только один его помощник, мистер Коули, стекольщик) он изобрел и изготовил новое техническое устройство. Как такое возможно? Нас это удивляет не меньше, чем современников. Не исключено, что он работал в полной изоляции, не зная о предшествующих достижениях. Это предположение следует сформулировать лишь для того, чтобы показать его неправдоподобность. Прежде всего, Ньюкомен не изобрел бы своей машины, если бы не знал о давлении атмосферы, поскольку именно оно используется в качестве движущей силы. Конечно, в 1712 г. знания об атмосферном давлении получили широкое распространение, и любое объяснение устройства барометра отсылало Ньюкомена к открытиям Торричелли и Паскаля. Тем не менее это был необходимый минимум.
Мы почти ничего не знаем о жизни и работе Ньюкомена до 1712 г., но, судя по тому, что он впоследствии рассказывал своим знакомым, два факта представляются очевидными. Во-первых, он начал работу над своей паровой машиной примерно в то же время, что и Севери, то есть не позже 1698 г. Во-вторых, он работал совершенно независимо от Севери{1107}. Тем не менее некоторые специалисты считают, что этого не может быть. Ньюкомен должен был использовать опыт Севери или Папена. Один из исследователей отважно заявлял, вопреки имеющимся свидетельствам, что Ньюкомен просто был наемным работником Севери{1108}. Другой, по его собственному выражению, «перед лицом фактов», предположил, что Ньюкомен и Севери могли встречаться в 1707 г. или чуть позже, когда, как нам известно, Севери посещал Дартмут – но это слишком поздно (не помогает даже ловкий трюк со сменой этой даты на 1705 г. – тоже слишком поздно){1109}. Ученый конца XVIII в. «разрешил» проблему предположением, что Гук (умерший в 1703) написал Ньюкомену, рассказав о первой паровой машине Папена. Эта история чрезвычайно живуча, хотя не существует документов, подтверждающих ее истинность, и об этом известно с 1936 г.{1110} Другой ученый утверждает, что «Томас Ньюкомен явно видел рисунки моделей Папена его машин и насосов, опубликованные в разных изданиях «Философских трудов» в период с 1685 по 1700 г., – умалчивая о том факте, что ни одна из публикаций Папена в «Философских трудах» не была посвящена энергии пара; все они были связаныс энергией воды или мускульной силой человека{1111}.
Машина Ньюкомена. Из книги Джона Теофила Дезагюлье «Курс экспериментальной философии» (1734–1744; взято из издания 1763). Слева расположен котел, от которого отходит вертикальный цилиндр с поршнем, соединенный с коромыслом
Машина Ньюкомена больше всего похожа на машины Папена. Известный историк Джозеф Нидэм вполне обоснованно заявил: «Я нахожу почти невозможным поверить, что Ньюкомен не знал о паровом цилиндре Папена»{1112}. Но Папен изобрел и изготовил свою первую машину в Германии. Насколько нам известно, ни один англичанин ее не видел. Несколько раз Папен описывал ее на латыни и на французском, но ни разу на английском. Один-единственный абзац был посвящен ей в обзоре публикаций Папена в «Философских трудах» за 1697 г.:
Четвертое письмо демонстрирует метод осушения шахт в местах, где поблизости нет реки для выполнения этой работы [откачки воды с помощью водяного колеса]; столкнувшись с трудностями создания вакуума в цилиндре для этой цели с помощью пороха [как поступал Гюйгенс], он предлагает превращать в пар небольшое количество воды с помощью огня, приложенного ко дну цилиндра, в котором содержится эта вода, и этот пар поднимает вверх пробку [то есть поршень] в цилиндре на значительную высоту, после чего она (по мере того как пар конденсируется при охлаждении воды, когда убирают огонь) снова опускается под действием атмосферного давления, и ее используют для подъема воды из шахты{1113}.
Маловероятно, что Ньюкомен когда-либо имел доступ к «Философским трудам», но, даже если бы и имел, один этот абзац без сопутствующей иллюстрации не слишком облегчил бы его работу. Что касается усовершенствованной машины Папена, рисунок которой сделал Норт, она заинтересовала бы Ньюкомена, знай он о ней, однако эта машина, по всей видимости, была изобретена после того, как Ньюкомен приступил к экспериментам, и ее конструкция гораздо сложнее, чем у машины Ньюкомена, – и действительно, мы вправе сомневаться, смог ли Папен построить рабочий экземпляр.
Возможно, стоит перечислить все, что пришлось изобрести Ньюкомену, чтобы построить работоспособную паровую машину, или что ему понадобилось (еще до этого) для планирования экспериментов. Например, манжета и ручка насоса были просто применением уже существующих устройств, а испаритель представлял собой большой медный котел, который использовали пивовары. Но с остальным дело обстояло сложнее. Во-первых, несмотря на то что идея использовать цилиндр с поршнем принадлежала Герике, в Англии ни у кого не было опыта использования их совместно с паром. Во-вторых, Ньюкомену требовалось сделать поршень герметичным. Он применил для этого кожаную шайбу и слой воды, которая впрыскивалась в цилиндр. (Джон Морган изобрел насосы с цилиндрами в 1680-х гг., но обеспечивал герметичность совсем другими методами){1114}. В-третьих, было бы хорошо иметь манометр: первым прибором для измерения давления был барометр, но Бойль и Папен в 1682 г. описали усовершенствованный манометр в «Продолжении новых экспериментов» (Continuation of New Experiments). И самое главное, ему был необходим предохранительный клапан, который, в сущности, является разновидностью манометра: его изобрел Папен и использовал в своей конструкции 1707 г. (хотя, по всей видимости, не в той, которая взорвалась). Ньюкомен применил в своей машине одну из разновидностей предохранительного клапана Папена{1115}. Кроме того, Ньюкомену требовалось устройство, обеспечивающее автоматическое открытие и закрытие клапанов в поршне{1116}.
И последнее – требовалась еще одна предпосылка. Особенность машины Севери состоит в том, что она лучше работает в модели, чем увеличенная: по мере того как цилиндры становятся больше, их объем увеличивается быстрее, чем площадь поверхности, и охлаждение становится менее эффективным. Поэтому Севери, построив модель, мог ошибочно полагать, что совершил прорыв. Машина Ньюкомена в этом смысле вела себя иначе: по мере увеличения масштаба отношение мощности к силе трения становилось больше, поскольку объем цилиндра (определяющий мощность) растет быстрее, чем его окружность (от длины которой зависит трение){1117}. Впоследствии Дезагюлье вместе со своим другом изготовил модели машин Севери и Ньюкомена: несмотря на свои глубокие знания, Дезагюлье был поражен, когда машина Севери в модели превзошла машину Ньюкомена{1118}. По всей видимости, Ньюкомен с самого начала знал об этом эффекте масштаба – в противном случае он не стал бы продолжать опыты, когда первые модели продемонстрировали (как и должно было быть) очень низкую эффективность. Эти знания он должен был где-то получить.
Конечно, Ньюкомен мог все это (и не только это) изобрести сам; в конце концов, он работал над своей машиной четырнадцать лет, прежде чем представил ее на суд публики. Но следует принять во внимание, что совсем недавно попытка изготовить копию машины Ньюкомена в одну треть реальной величины столкнулась с огромными трудностями. Даже с учетом хорошего планирования, глубоких технических знаний, понимания того, каким должен быть конечный продукт, и абсолютной уверенности, что его можно заставить работать, потребовалось несколько месяцев настройки, чтобы машина заработала так, как нужно{1119}. В идеале Ньюкомену требовался источник информации, который предоставил бы ему все необходимые сведения, чтобы затем он мог сосредоточиться на сборке работоспособной машины. Этого было достаточно, чтобы занять все его свободное время на протяжении десяти с лишним лет.
И такой источник существовал, причем вероятность столкнуться с ним у Ньюкомена была гораздо выше, чем с «Философскими трудами». Историки науки пропустили этот источник потому, что в нем не обсуждались паровые машины. О нем вообще забыли: ни одного упоминания в Google Scholar или в Thomson Reuters Web of Science. Может создаться впечатление, что за весь прошлый век ни один человек не прочел эту книгу, хотя автор ее хорошо известен, а, судя по числу сохранившихся экземпляров, первое издание хорошо продавалось. Речь идет о книге «Новое устройство для варки костей, продолжение» (A Continuation of the New Digester of Bones), опубликованной Дени Папеном в 1687 г.{1120}
Первое описание своего нового устройства для варки костей Папен опубликовал в 1681 г. В сущности, это была первая скороварка – герметичная пароварка. В скороварке вода превращается в пар под высоким давлением, и поэтому пища готовится при более высокой температуре, чем температура кипения воды, – гораздо быстрее. Или (в случае костей) обработка ведется до того момента, пока твердые части не превратятся в желе. (Устройство Папена занимает особое место в истории, поскольку в 1761 или 1762 г. Уатт проводил первые эксперименты с паром, присоединив шприц к предохранительному клапану котла и получив таким образом примитивную паровую машину.) Работы «Новое устройство для варки костей» и «Продолжение» часто издавались под одной обложкой, и вполне возможно, что Ньюкомен купил либо «Продолжение», либо обе книги в 1687 г. или в последующие десять лет, прежде чем приступил к работе над паровой машиной. Цель была проста: заработать на изготовлении и продаже устройства Папена, и, поскольку Папен разрешал всем его копировать, не защитив свое изобретение патентом, Ньюкомен мог беспрепятственно пытаться заработать на нем.
Краткое название ни в коей мере не отражает содержания книги Папена. Полное название более информативно: «Новое устройство для варки костей, продолжение: усовершенствования и новые применения как для моря, так и для суши, а также усовершенствования и новые применения воздушного насоса, испытанные и в Англии, и в Италии». То есть часть книги посвящена воздушному насосу (хотя специалисты, изучающие историю создания воздушных насосов, ее не читали){1121}, и в ней есть описание самой новой (и последней) модели{1122}. Насос Папена состоит из цилиндра и поршня, загерметизированного слоем воды, и Папен подробно объясняет, как этого добиться{1123}. Его метод совпадает с методом, который первоначально применил Ньюкомен – впоследствии он нашел более совершенный{1124}. Цилиндр, подобно поршню в паровой машине Ньюкомена, снабжен несколькими клапанами и впускными отверстиями, которые открываются и закрываются синхронно с движением поршня. (Папен был первым, сконструировавшим воздушный насос с автоматическими клапанами.) В нем есть один клапан, который закрывается под действием веса, но в данном случае это не предохранительный клапан; тем не менее Папен описывает работу такого клапана. Таким образом, здесь изложены основы конструкции паровой машины, поскольку ее устройство во многом совпадает с устройством воздушного насоса – именно благодаря этому совпадению три года спустя Папен смог изготовить первую паровую машину[309].
Воздушный насос Папена 1687 г. Из книги «Новое устройство для варки костей, продолжение»
Но «Продолжение» содержит кое-что еще. Книга знакомит читателя с рассуждениями, которые привели Папена к изобретению паровой машины. Вот что он пишет:
Среди применений этой машины [воздушного насоса] я также могу вспомнить силу, которую она способна прилагать, чтобы достичь больших результатов без неудобства тяжелых грузов: очень ровная и гладкая трубка может быть сделана очень легкой, но, лишенная воздуха, она выдержит давление атмосферы. Тем не менее пробка, плотно прилегающая к одному концу, будет с очень большой силой прижиматься к другому, по крайней мере если диаметр трубки достаточно велик: например, на пробку диаметром один фут будет оказываться давление около 1800 фунтов. Знаменитый мистер Гернике первым пытался применить эту силу, чтобы выстрелить свинцовой пулей [sic] из пневматического ружья, как можно видеть из описания, приведенного в его книге о пневматической машине. Я также приложил много труда, чтобы усовершенствовать его изобретение, что можно увидеть в «Философских трудах» за январь месяц 1686 года. Я вычислил, что свинцовая пуля диаметром в один дюйм, вытолкнутая таким способом из ствола длиной 4 фута, приобретет скорость около 128 футов в секунду, но если такую же скорость нужно придать пуле диаметром один фут, то ее следует изготовить из железа и сделать полой внутри, и тогда она будет весить около 37 с половиной фунтов; если же ее изготовить из свинца, она будет весить около 450 фунтов и, вылетая из ствола длиной 4 фута, приобретет скорость 32 фута в секунду… Конец ствола, через который вылетает пуля, должен быть закрыт чем-то достаточно прочным, чтобы выдержать давление атмосферы, и пуля пробивает его на своем пути, также теряя часть своей силы{1125}.
Папен описывает пневматическое ружье, приводимое в действие атмосферным давлением, но совершенно очевидно, что устройство, в котором пуля должна пробивать отверстие, чтобы выйти из ствола, не имеет практического применения.
Но это описание также соответствует поршню, движимому давлением атмосферы; Папен был в шаге от изобретения атмосферной паровой машины, но в данном случае вакуум создавался насосом, а не конденсацией пара. Тем не менее Папен неоднократно описывает, как с помощью воды, омывающей внешнюю поверхность сосуда с паром, добиться быстрой конденсации (хотя не использовал этот метод в своих паровых машинах) и, следовательно, создания вакуума{1126}. Если Ньюкомен читал книгу Папена, ему оставалось только сложить два плюс два – точно так же, как это сделал Папен при разработке конструкции паровой машины. Если Папен смог, то почему не мог Ньюкомен? Более того, в книге Папен знакомит читателя с проблемой масштаба: при увеличении размеров ружья оно становится менее эффективным, поскольку вес пули увеличивается быстрее, чем площадь сечения ствола. Если задуматься над этой проблемой, то можно понять, что при увеличении диаметра трубки увеличение веса пули будет частично компенсироваться уменьшением той части энергии, которая расходуется на трение.
История паровой машины Ньюкомена чем-то напоминает сюжет с запертой комнатой в детективном романе: в комнате обнаружен труп, но как вошел и вышел преступник и какое орудие убийства он использовал? У нас загадка такая: мы видим Ньюкомена в Дартмуте в 1698 г., но не понимаем, как к нему могли попасть сведения о паровой машине. Как и в детективном романе, если мы сможем найти одно решение, значит, загадка решена. Разумеется, нельзя исключать, что в 1687 г. Ньюкомен ездил в Лондон и встречался с Папеном; действительно, Папен объявлял, что каждую неделю в определенное время будет доступен для демонстрации своего устройства для варки, однако вскоре покинул страну. Но нам не обязательно воображать эту встречу. Имея экземпляр «Продолжения», Ньюкомен мог узнать почти все, что знал Папен о том, как приручить атмосферное давление и построить машину. Все части головоломки у него уже были, и оставалось понять, как соединить их для достижения новой цели – изготовления не ружья, а насоса. «Продолжение», содержавшее инструкции по изготовлению усовершенствованной модели устройства Папена для варки костей, было именно той книгой, которая требовалась провинциальному торговцу скобяными изделиями, в свободное время конструировавшему насос. Чего Ньюкомен никак не ожидал в ней найти, так это описания новой разновидности энергии, способной достичь больших результатов без неудобства тяжелых грузов. Я убежден, что именно из этой неожиданной встречи родилась паровая машина.
Дезагюлье в первом тщательном исследовании паровой машины утверждал, что все ключевые усовершенствования в ее конструкции были сделаны случайно:
Если читатель не знаком с историей нескольких усовершенствований паровой машины, после того как мистер Ньюкомен и мистер Коули впервые применили в ней поршень, он может вообразить, что должные средства разрешения упомянутых трудностей и препятствий были получены благодаря великой мудрости и знанию философии. Однако ничего подобного не происходило; почти все усовершенствования были сделаны случайно…{1127}
Дезагюлье тщательно подбирал слова. Он сказал, что усовершенствования были сделаны случайно, однако позволял читателю самому решить, требовало ли создание первой паровой машины с поршнем знания философии. Разумеется, для этого нужны как определенные знания в области теории, так и знакомство с уже существующими техническими решениями. По моему мнению, и то и другое содержалось в «Продолжении» Папена.
И действительно, объясняя работу машины Ньюкомена, Дезагюлье прибегает к необычному приему. Он просит представить машину, в которой «философ» использует воздушный насос для создания вакуума в поршне, а затем переходит к описанию реальной конструкции Ньюкомена, где пар конденсируется в поршне, создавая вакуум. Этот философ явно не Ньюкомен, но, мне кажется, Дезагюлье верно догадался о единственной правдоподобной версии изобретения машины Ньюкомена. Если Ньюкомену для создания паровой машины требовалось сложить два плюс два, то Дезагюлье, чтобы объяснить ее работу, было необходимо снова разъединить их и повторно изобрести атмосферное пневматическое ружье{1128}.
Историки давно спорят, каков вклад науки в промышленную революцию. Ответ: гораздо больше, чем они готовы признать. Папен работал с двумя величайшими учеными той эпохи, Гюйгенсом и Бойлем. Он был членом Королевского общества и профессором математики. Двадцать лет, с 1687 по 1707 г., он трудился над созданием работоспособной паровой машины, но в конечном счете потерпел неудачу. По моему мнению, Ньюкомен не продолжил дело с того, на чем остановился Папен, то есть с модифицированной машины Севери, а начал вместе с ним. В своей работе он опирался на самые передовые теории и самую сложную технику XVII в. Именно это создало предпосылки для промышленной революции. Сначала появилась наука, а за ней техника[310].
Заключение
Изобретение науки
Каким образом историческая деятельность, например, научная деятельность, порождает трансисторические истины, независимые от истории, освобожденные от всех связей с местом и временем и по этой причине вечные и универсальные?
Бурдье. Наука о науке (2004)
Заключение посвящено тому, каковы последствия признания реальности научной революции. В главе 15 рассматриваются ключевые аргументы релятивистов и показывается, что они не справляются со своей задачей. В главе 16 анализируется утверждение, что любая история научной революции должна быть виг-историей или богословской историей, поскольку противники виг-истории определили историю таким образом, что обсуждать изменения невозможно. Глава 17 завершает книгу обращением к скептицизму Монтеня и вопросу, вправе ли мы заявлять, что знаем больше, чем он.