Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки Сапольски Роберт
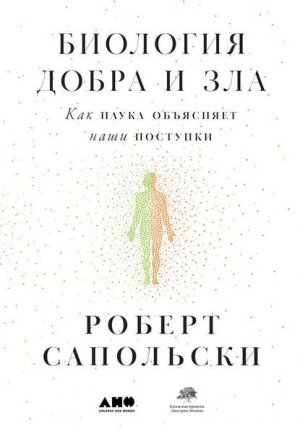
Идея стадий развития мозга человека совершенно обоснована. Через несколько недель после зачатия волной формируются нейроны и мигрируют на положенные им места. Примерно через 20 недель обвально образуются синапсы – нейроны принимаются «разговаривать» друг с другом. Затем аксоны начинают заворачиваться в миелин, производное глиальных клеток (т. е. идет формирование «белого вещества»).
Формирование нейронов, миграция, образование синапсов происходят в основном в материнской утробе{318}. А миелинизация запаздывает: к моменту рождения вокруг нейронов миелина еще очень мало, особенно в эволюционно молодых участках мозга; как мы видели, миелинизация продолжается целых четверть века. Ее стадии и становление соответствующих функций стандартны.
Например, тот участок коры, который отвечает за восприятие речи, проходит миелинизацию несколькими месяцами ранее, чем ответственный за воспроизводство речи, – дети понимают речь раньше, чем начинают говорить.
Особенно важна последовательность миелинизации, когда дело касается самых длинных аксонов у нейронов, передающих информацию на большие расстояния. Таким образом, миелинизация способствует коммуникации разных участков мозга. Ни один участок не является изолированным «анклавом», и формирование соединительных линий передач – задача наипервейшей важности: как еще чердаку мозга – лобной коре, используя несколько миелинизированных нейронов, договориться с подвалами мозга, что пора научиться ходить на горшок?{319}
Мы уже знаем, что у зародышей млекопитающих происходит перепроизводство нейронов и синапсов; нерезультативные и ненужные в результате отмирают и получаются более экономичные, практичные и эффективные контуры. При этом не будем забывать и одну из тем прошлой главы: чем позже взрослеет определенный участок мозга, тем меньше в его формировании участвуют гены и тем больше – среда{320}.
Стадии
Каковы же эти стадии детского развития и как они помогают объяснить хорошее-плохое-среднее поведение взрослых, с разговора о котором началась глава 1 и вся книга?
Прародителем всех теорий детского развития стал Жан Пиаже: в 1923 г. он сформулировал – после проведения хитроумных, красивых экспериментов – четыре стадии развития интеллекта у ребенка{321}:
а) Сенсомоторная стадия (от рождения до ~24 месяцев). Малыши приобретают знания только посредством чувственного опыта. В течение этого периода, обычно к 8 месяцам, у них появляется понятие об объекте и «постоянстве объекта», т. е. осознание факта, что если предмет исчезает из их поля зрения, то он все равно существует – у ребенка сохраняется ментальный образ того, чего у него перед глазами уже нет[164].
б) Дооперациональная стадия (от ~2 до 7 лет). У детей формируются устойчивые идеи об устройстве мира вне зависимости от того, есть ли сейчас перед их глазами непосредственный пример. Все больше развивается символическое мышление; все больше они играют в «давай, как будто». Их рассуждения в данный период интуитивны: нет пока логики, нет причин и следствий. Это та стадия, на которой дети еще не доходят до понимания «постоянства объема». Одинаковые пробирки А и Б одинаково наполняют водой. Потом из пробирки Б воду выливают в пробирку В, которая тоньше и длиннее. «В какой пробирке теперь больше воды?» – и ребенок на дооперациональной стадии, руководствуясь безыскусной логикой, скажет, что в В: ведь линия воды в пробирке В выше, значит, и воды больше.
в) Стадия конкретных операций (7–12 лет). Дети думают логично, их уже не поймать на ерунде с разными пробирками. Тем не менее способность к обобщению у них еще сомнительная, еще не устоялась. Так же дела обстоят и с абстрактным мышлением – услышав, например, поговорку «Видно птицу по полету», они подумают, что нужно посмотреть, как птица летит, и тогда будет понятно, какая это птица. То есть пословицы они понимают буквально.
г) Стадия формальных операций (подростковый период). На этой стадии происходит формирование взрослой степени абстракций, рассудительности, осознания и контроля собственной мыслительной и психической деятельности.
Другие аспекты интеллектуального развития тоже распределены по стадиям. На ранней стадии малыши учатся осознавать себя отдельной личностью, формируют границы собственного «Я»: «Это Я, а не кто-то другой». И вот что, например, случается, когда эти границы недостаточно прочные и ребенок не понимает, где «кончается» он и «начинается» мама: мама порезала палец, а он заявляет, будто пальчик болит у него{322}.
Потом приходит время, когда дети начинают догадываются, что другие обладают отличной от их информацией. Девятимесячные детки смотрят туда, куда им указывает палец взрослого (обезьянки и собаки делают то же самое), т. е. следуют той информации, которая есть у взрослого, а у них нет. За этим действием будто бы стоит вопрос: «Где же та игрушка? На что мне показывают?» Те, кто постарше, используют подобные концепции в более общем плане, т. е. понимают, что у других людей и мысли другие, и убеждения, и знания, а это уже поворотный пункт в построении т. н. внутренней модели психического состояния[165] другого человека{323}.
Вот как звучат рассуждения ребенка, еще не имеющего этой модели. Взрослый и двухлетка наблюдают, как в коробку А кладут печенье. Взрослый уходит, а экспериментатор перекладывает печенье в коробку Б и затем спрашивает ребенка: «Где он (взрослый) будет искать печенье, когда вернется?» В коробке Б, скажет ребенок – он-то знает, где печенье, а что он знает, то знают и все остальные. Примерно в 3–4 года дети уже рассудят: «Он подумает – печенье в А, даже если я знаю, что оно не там, а в Б». Оп-ля! Вот вам и модель психического состояния.
Такова задача на «ложное знание», и способность с ней справиться отмежевывает важнейший этап развития. Модель психического состояния теперь может позволить себе такие изощренные вещи, как понимание иронии, виды на будущее или даже вторичную модель психического состояния (предположения о том, как человек А воспринимает человека Б){324}.
В координации этой модели задействованы разнообразные участки коры: части медиальной ПФК (никто не удивился, да?) и некоторые новые игроки, включая предклинье в теменной доле, верхнюю височную борозду, височно-теменной узел. Знаем мы это по результатам нейросканирования тех пациентов, у которых нарушено функционирование модели психического состояния (у аутистов с сокращенной моделью психического состояния уменьшено количество серого вещества и снижена активность в верхней височной борозде). Еще мы знаем, что если временно дезактивировать височно-теменной узел, то испытуемые перестают понимать намерения других, когда выносят моральную оценку{325}.
Таким образом, сначала идет стадия «отслеживания взглядом», затем стадия построения первичной внутренней модели психического состояния с последующим построением вторичной модели, потом развивается видение ситуации с точки зрения другого, причем скорость перехода от одной стадии к следующей зависит от среды и опыта (например, младшие дети в семье обретают эту модель раньше, чем более старшие или единственные дети в семье){326}.
Конечно, идея постадийного развития интеллекта не единожды подвергалась критике. Один из пунктов этой критики имеет самое непосредственное отношение к теме нашей книги: модель Пиаже учитывает только интеллект, но игнорирует влияние социальных и эмоциональных факторов.
Один пример, который мы еще будем обсуждать в главе 12, касается детей на довербальной стадии развития, еще не имеющих представления о принципе транзитивности (если А>Б и Б>В, т А>В). Покажите картинку с нарушенной, «неправильной» транзитивностью между предметами на экране (предмет А должен бы в соответствии с размерами свалить предмет В, а происходит все наоборот), и ребенок не выкажет никакого недоумения, взгляд не задержится на картинке надолго. А теперь оживите предметы – пририсуйте им глазки и ротик, – и у малыша ускорится сердечный ритм, он займется разглядыванием картинки, будто бы говоря: «Существо В должно было бы отойти в сторонку, а не то существо А его свалит, а не наоборот». Дети осознают логические связи между людьми раньше, чем между предметами{327}.
Конкретная социальная ситуация и интенсивность мотивации тоже могут сдвигать границы интеллектуальных стадий. Зачатки модели психического состояния хорошо прослеживаются в экспериментах с шимпанзе, которые общаются с другими шимпанзе (не человеком) или которых мотивируют тем или иным образом, например едой[166]{328}.
Чувства и эмоции также подстраивают интеллектуальное развитие под конкретные ситуации. Я наблюдал, как моя дочка поразительным образом продемонстрировала и модель психического состояния, и ее отсутствие одномоментно. Она перешла из одной начальной школы в другую и однажды отправилась навестить своих товарищей в прежней школе. Вот она стоит и вдохновенно рассказывает друзьям: «…А на перемене мы качаемся на качелях, там у нас такие качели есть. А потом мы идем обратно в школу, и Кэрол нам читает книжку». Модель психического состояния: «качаемся на качелях» – в старой школе не знают про качели, надо для них уточнить. Отсутствие модели психического состояния: «Кэрол нам читает книжку». Кэрол – учительница в новой школе; по идее, должна бы проявиться та же логика: нужно рассказать бывшим соученикам, кто такая Кэрол. Но поскольку Кэрол – это самая чудесная, самая замечательная на свете учительница, то модель психического состояния буксует. После этого я спросил дочку, почему она не сказала своим, кто такая Кэрол. «Все ее знают», – был ответ. Ну да, как же они могут ее не знать?
Чувствуя боль другого
Модель психического состояния подводит нас к следующей ступени: люди чувствуют не так, как я, включая и болезненные ощущения{329}. Этого еще недостаточно для рождения эмпатии и сочувствия. В конце концов, социопаты, у которых патологически отсутствует эмпатия, великолепно используют эту модель и способны самым бессовестным образом манипулировать и прогнозировать чужие действия на три шага вперед. Строго говоря, для существования эмпатии необязательно понимать, что у других людей чувства отличаются от моих. Совсем еще маленькие детки на «домодельной» стадии развития демонстрируют зачатки ощущения чужого горя: малыш предлагает свою соску экспериментатору, старается успокоить его, когда тот изображает плач (это только самое зарождение эмпатии, ведь малыш еще не может себе представить, что кого-то можно утешить не соской, а другим, пока незнакомым малышу способом).
Да, это самое-самое начало эмпатии. Может, кроха и вправду глубоко сочувствует. А может, ему просто не нравится, что взрослый плачет, и тогда попытки его утихомирить будут небескорыстными. Детская способность к эмпатии (со-чувствию) проходит от этапа ощущения боли другого как своей, потому что другой – это и есть я, к этапу со-переживания боли другого, потому что он – как я.
Нейробиология детской эмпатии все это хорошо объясняет. В главе 2 мы разобрали, что если взрослый человек видит боль другого, то у него в мозге активируется передняя поясная кора. То же самое происходит и в миндалине, и в зоне островка, особенно в случае с намеренным причинением боли – отсюда ярость и отвращение. В работу включились разные участки префронтальной коры, в том числе и «эмоциональная» вентромедиальная ПФК. Когда мы видим, что другому больно (например, если ему укололи иголкой палец), у нас в ответ включается совершенно определенная, «заместительная», реакция: активируются центральное серое вещество (ЦСВ – отдел, отвечающий за восприятие нашей собственной боли), участки сенсорной коры, куда приходит информация от наших собственных пальцев, и моторные нейроны, которые командуют их движениями[167]. И вот у нас самих непроизвольно дергаются пальцы.
Исследования Жана Десети из Чикагского университета продемонстрировали, что когда семилетки наблюдают чью-нибудь боль, то у них сильнее всего активируются вполне определенные участки – это ЦСВ, сенсорная и моторная кора. При этом активация вмПФК минимальна, когда максимально возбуждение ЦСВ, т. е. две эти структуры функционально связаны. У детей постарше вмПФК функционально связана с повышенной активацией лимбических структур{330}. А к подростковому возрасту более сильная активация вмПФК соотносится уже с теми участками мозга, которые вовлечены в работу модели психического состояния. Что же происходит? Эмпатия переходит от конкретного личного мира, где «у нее болит палец, а я неожиданно ощущаю свой собственный», к миру другого человека, где главное – его чувственный опыт, не мой.
Эмпатия совсем маленьких детей не различает, нечаянно или нарочно причиняется увечье, человеку или предмету нанесен ущерб. Они только со временем постигают эту разницу, как раз к тому моменту, когда снижается роль той части эмпатии, за которую отвечает ЦСВ, и в действие вступают вмПФК и участки, ответственные за модель психического состояния. Более того, целенаправленный вред теперь активирует миндалину и островок – и мы получаем гнев и отвращение к виновнику[168]. В это же время дети учатся различать самовредительство и вред, нанесенный им кем-то другим.
Система усложняется: примерно к семи годам дети уже умеют выражать сочувствие. Между 10 и 12 годами появляется эмпатия генерализованная и абстрактная – сочувствие к «беднякам», а не к какому-то конкретному бедному человеку (обратная сторона медали: тот же процесс ответственен за появление у детей негативных стереотипов).
Тогда же начинает развиваться чувство справедливости. Дошкольники в массе эгалитаристы («раз у меня есть печенье, то пусть будет и у него»). Но еще до того, как детское ощущение равенства превратится в безграничную щедрость юности, формируется склонность к группированию: «Мы все равны, но с незнакомым ребенком мы равны меньше»{331}.
Дети с возрастом все с большей готовностью реагируют на несправедливость, т. е. когда с кем-то поступили нечестно{332}. Но, как обычно, пока эта способность не сформируется полностью, она проявляется с различными отклонениями. Четырех – шестилетние дети, в какой бы культурной среде они ни воспитывались, дают негативную реакцию, когда нечестно поступают с ними лично. И лишь после достижения восьмилетнего возраста (некоторые подходят к этому этапу только к десяти годам) они начинают заступаться за несправедливо обиженных других. Данная стадия может вообще не наступить, и это уже зависит от культуры, в которой воспитывается ребенок. Ощущение справедливости у маленьких детей очень сильно завязано на себя.
Вскоре после того, как у детей появляется негативная реакция на несправедливое обхождение с другими, они начинают пытаться исправить этот непорядок («Ему вчера мало досталось, нужно дать побольше сейчас»){333}. Но уже в предподростковом возрасте эгалитаризм уступает место признанию неравенства, которое теперь оправдывается теми или иными качествами, усилиями или каким-то высшим благом («Пусть она играет чаще, чем он, потому что она вообще лучше/больше тренировалась/важнее для команды»). Некоторые даже способны на самопожертвование во имя общего блага («Пусть она играет, она лучше меня»)[169]. К подростковому возрасту мальчики принимают идею неравенства с большей готовностью, чем девочки, просто с чисто утилитарных позиций. И мальчики, и девочки допускают неравенство как социальный договор: «Так уж устроено, ничего не попишешь».
Моральное развитие
По мере развития модели психического состояния, умения видеть точку зрения других людей, все более тонкой настройки эмпатии ребенок начинает сражаться с вопросами, что такое хорошо и что такое плохо.
Пиаже специально акцентирует внимание на том, как с помощью игры дети вырабатывают правила допустимого поведения (детские правила могут отличаться от взрослых)[170] и как придумыванием правил отражается усложнение стадий детского развития. Это наблюдение заставило одного молодого психолога приглядеться внимательнее к данной области исследований – и как оказалось, с далеко идущими последствиями.
В 1950-х гг. Лоуренс Колберг, тогда еще студент старших курсов Чикагского университета, а позже профессор в Гарвардском, начал эпохальный труд по формулированию стадий морального развития{334}.
Детям предлагали обдумать морально-этические дилеммы. Вот пример. Одну женщину может спасти от смерти только определенное лекарство, причем всего одна таблетка. Но она стоит невероятно дорого. Позволительно ли женщине украсть эту таблетку? Почему?
Колберг пришел к заключению, что моральное суждение – это интеллектуальный процесс, построенный на рассуждениях, которые с возрастом постепенно усложняются. Он выделил три уровня морального развития, каждый с двумя стадиями.
Вам говорят, что вкусное печенье, стоящее на столе прямо перед вами, есть нельзя. Вы его съедите? Приведу донельзя упрощенные стадии рассуждений, которые формируют решение.
Уровень 1. Можно ли съесть печенье? Доконвенциональное суждение
Стадия 1. Зависит от обстоятельств. Могут ли меня наказать? Накажут – это неприятно. Агрессия обычно достигает кульминации между двумя и четырьмя годами, после этого детские порывы уже обуздываются взрослыми с помощью наказаний («Отправляйся в угол!») или своими же товарищами (например, «Мы с тобой не дружим»).
Стадия 2. Зависит от обстоятельств. Если я послушаюсь и не съем, меня похвалят? Похвалят – это приятно.
Обе стадии эгоцентричны, основное здесь – послушание и собственные интересы («А что мне за это будет?»). Колберг обозначил возрастные рамки этого уровня примерно восьмью – десятью годами.
Волноваться о ребенке нужно в том случае, если агрессия, особенно с элементами измывательств, не утихает к указанному возрасту – тогда можно предположить увеличение в будущем риска взрослой социопатии (или, по-другому, формирования антисоциальной личности)[171]. Главное в поведении таких будущих социопатов – невосприимчивость к негативной реакции окружающих на их действия. Как мы уже говорили, у социопатов высокий болевой порог, чем объясняется отсутствие у них эмпатии: если не чувствуешь свою боль, то и чужую не почувствуешь. Это также помогает понять их невосприимчивость к негативной реакции окружающих: зачем же менять поведение, если наказание даже не ощущается?
На рассмотренных стадиях дети начинают мириться после ссор и получать удовлетворение от того, что помирились (в частности, при этом у них снижается выработка глюкокортикоидов и уходит тревога). Подобная награда сулит личную (нейробиологическую) выгоду, поэтому определенно стоит помириться. Удовольствие от примирения можно увидеть и с другой стороны – со стороны прагматической выгоды: дети с большей готовностью улаживают конфликты с людьми, имеющими отношение лично к ним.
Уровень 2. Можно ли съесть печенье? Конвенциональное суждение
Стадия 3. Зависит от обстоятельств. Если я съем, то кое-кому не достанется. А он/она мне нравится? А как бы поступили другие? Что про меня подумают, если я съем? Заботиться о других – это хорошо; приятно, когда меня считают хорошим.
Стадия 4. Зависит от обстоятельств. Что говорит закон? Можно ли его нарушать? А что если все нарушают этот закон? Порядок – это хорошо. Вот у нас есть судья, и у него дело о грабительских, но законных процентах по кредиту, и он думает: «Мне жалко всех этих пострадавших… но я здесь сижу для того, чтобы решить, нарушил банк закон или нет… а банк закона не нарушал».
Конвенциональное моральное суждение относительно (оно касается ваших взаимодействий с другими и их последствий). Большинство подростков и взрослых находятся на этом уровне.
Уровень 3. Можно ли съесть печенье? Постконвенциональное суждение
Стадия 5. Зависит от обстоятельств. Откуда на столе появилось печенье? Кто решил, что мне нельзя его есть? Спасет ли чью-то жизнь, если я съем печенье? Хорошо, когда четкие правила можно гибко приспосабливать к обстоятельствам. Тогда бы наш судья думал так: «Да, банк законов не нарушал, но ведь законы существуют, чтобы защищать слабых от сильных, и тогда не столь важно, подписан или не подписан кредитный договор, банк постановим закрыть».
Стадия 6. Зависит от обстоятельств. Что важнее – закон или мои собственные моральные принципы по данному вопросу? И если что случится, готов ли я отвечать за свои принципы? Прекрасно осознавать, что на свете есть вещи, о которых я буду петь снова и снова: «Меня не собьешь с пути, я твердо стою на своем…»[172]
Этот уровень по сути своей эгоистичен, т. к. правила его рождаются изнутри и отражают работу собственной совести; каждый проступок требует конечной стоимости – необходимости жить в мире с самим собой после этого. На этом уровне приходит осознание, что быть хорошим и подчиняться закону – не одно и то же. Как пел Вуди Гатри в песне «Pretty Boy Floyd»: «Я уважаю порядочного человека по ту сторону закона и терпеть не могу негодяев, законов придерживающихся»[173].
Стадия 6 эгоистична еще и потому, что строится на самоуверенности, готовой растоптать конвенциональных законопослушных мещан и прочих педантов-крохоборов, мелких людишек, бредущих, как стадо, за пастухом, да и самого пастуха и т. д. Рассуждая о постконвенциональном уровне, часто цитируют Эмерсона: «…Всякий героический поступок измеряется своим презрением благ внешних»[174]. Суждения стадии 6 воодушевляют. Но они же одновременно могут стать невыносимыми, поскольку подразумевают, что «быть хорошим» и «быть законопослушным» – вещи несовместимые. По словам Боба Дилана, «нужно быть честным, чтобы жить вне закона»[175].
Последователи Колберга считают, что почти никто не в состоянии постоянно существовать на стадиях 5 и 6.
Колберг фактически создал научный подход к изучению морального развития у детей. Его постадийная модель настолько укоренились в рядах специалистов-человековедов, что психологи уже обиходно употребляют выражения типа «он до сих пор барахтается на первой колберговской стадии».
Понятное дело, к работе Колберга есть определенные претензии.
Самое очевидное. Нельзя воспринимать постадийную модель слишком буквально: существуют исключения, переходы от одной стадии к другой определены не жестко, на индивидуальном уровне стадии зависят от контекста.
Опасность ограниченного видения ситуации и неправильных акцентов. Изначально Колберг использовал нерепрезентативную выборку, т. е. изучал только американцев, а мы увидим из следующих глав, что моральные суждения имеют значительные межкультурные различия. Кроме того, все испытуемые были мужского пола, и это заметила в 1980 г. Кэрол Гиллиган из Нью-Йоркского университета. Колберг и Гиллиган пришли к согласию относительно последовательности основных стадий развития. Но Гиллиган с коллегами скорректировала картину, показав, что, в отличие от мальчиков и мужчин, женщины и девочки, вынося моральное суждение, ценят заботу выше справедливости. В результате женщины более склонны к конвенциональному типу мышления и его акценту на взаимоотношениях, тогда как мужская часть населения предрасположена к постконвенциональным абстракциям{335}.
Упор на рассудочность. Что является результатом моральных суждений – интеллектуальные рассуждения или интуиция и эмоции? Колберг и его последователи считали, что интеллект. Но из главы 13 мы узнаем, что множество организмов с ограниченными интеллектуальными возможностями, включая маленьких детей и обезьян, демонстрируют зачатки чувства справедливости. Подобные эксперименты дают основание сформулировать концепцию «социального интуитивизма» по отношению к процессу принятия морально-этических решений. Над ней работали Мартин Хоффман и Джонатан Хайдт, оба из Нью-Йоркского университета{336}. Естественно задать следующий вопрос: как сочетаются моральные рассуждения и моральная интуиция? Нам предстоит увидеть, что: а) моральная интуиция не есть продукт эмоций, а является другим типом интеллектуального осмысления; б) напротив, моральные рассуждения часто вопиюще нелогичны. (Внимание: не отвлекаемся!)
Отсутствие предсказуемости. Можно ли, опираясь на все эти выводы, предсказать, кто будет стоять на своем ради правого дела, а кто нет? Кто готов подставить голову ради обличения коррупционеров, кто кинется усмирять душегуба, кто займется устройством беженцев – неужели отличники колберговских моральных суждений? И вообще, забудем про героизм: будут ли наши отличники более честными в таких малозначимых ситуациях, как психологические эксперименты? Одним словом, могут ли моральные суждения определять моральные действия? Редко. Как мы увидим в главе 13, распрекрасная сила воли лобной коры имеет мало отношения к моральному героизму. На самом деле такое случается, когда «правое дело» не очень затратно.
Зефир в шоколаде
Постепенное расширение взаимосвязей лобной коры с другими отделами мозга лежит в основе нейробиологии детского развития и, что самое важное, их способности контролировать эмоции и поведение. Самым наглядным образом это проявляется в экспериментах с весьма неожиданным предметом: зефиром{337}.
В 1960-х гг. психолог из Стэнфордского университета Уолтер Мишел разработал т. н. зефирный тест – тест на отложенное удовольствие. Ребенку дают зефирку. Экспериментатор говорит: «Я сейчас ненадолго выйду из комнаты. Зефир можно съесть, когда я уйду. Но если ты потерпишь и подождешь, пока я вернусь, то я дам тебе еще одну зефирку» – и выходит из комнаты. И тут ребенок, оставшись один (за ним наблюдают через специальное стекло – зеркальное со стороны ребенка и прозрачное со стороны исследователей), начинает пятнадцатиминутную борьбу за вторую зефирку – ведь нужно удержаться и не съесть первую до прихода экспериментатора.
Мишел провел сотни экспериментов с трех – шестилетними детьми; разброс результатов оказался огромным – лишь немногие проглатывали зефир еще до того, как экспериментатор уходил. Примерно треть держалась заданные 15 минут. Остальные терпели в среднем 11 минут. Дети применяли самые разные стратегии, чтобы сопротивляться «зефирному зову» – можете посмотреть современные вариации эксперимента на «Ютьюбе». Чтобы отвлечься, дети закрывали глаза, прятали зефир, пели песни. Они гримасничали, садились на руки. Другие нюхали зефир, отщипывали микроскопические кусочки, чтобы положить в рот, любовались зефиром, целовали, гладили их.
На детскую силу воли влияют различные факторы (это были более поздние исследования, которые Мишел описал в своей книге; почему-то вместо зефира там фигурировали соленые крендельки). Для начала имеет значение фактор доверия: если экспериментатор один раз уже обманул ребенка, тот не станет ждать так же долго, как ребенок, которого не обманывали. Если детей подначивать, рассказывая, какие крендельки хрустящие и вкусные (Мишел называет это «формирование живого образа»[176]), то детская самодисциплина летит ко всем чертям, а если применить «мертвый образ», т. е. предложить подумать о форме и размере лакомства или дать альтернативный «живой образ» – например, попросить представить сладкое пирожное, – то воля укрепляется и дети ждут дольше.
Как и ожидалось, дети постарше сопротивляются соблазну дольше и используют более действенные стратегии. Совсем малыши описывают стратегию сопротивления так: «Я просто думал/а, какая вторая зефирка вкусная». Естественно, проблема в том, что зефир в мыслях на целых два синапса дальше зефира на столе. А вот дети постарше стараются отвлекаться: вспоминают про игрушки, домашних животных, день рождения… Затем дети начинают применять стратегию пересмотра задачи: «Дело ведь не в зефире. А в том, справлюсь ли я, в том, что я за человек». Для Мишела становление силы воли заключается в тренировке способности отвлекаться и оценивать ситуацию с другой стороны.
Таким образом, дети совершенствуют навык ожидания награды. И вот Мишел делает следующий шаг в исследовании, тот самый шаг, в результате которого его работа стала поистине классической. Мишел проследил судьбы детей, прошедших зефирный тест: возможно ли, что время ожидания призового зефира предскажет какие-то качества будущего взрослого?
Предскажет – не то слово. Пятилетние победители в «зефирном ожидании» впоследствии получали в среднем лучшие отметки на школьных выпускных экзаменах (по сравнению с теми, кто не мог дождаться), были более общительными, их поведение отличалось меньшей агрессией[177] и антагонизмом. Через сорок «постзефирных» лет у них великолепно работала лобная кора, ПФК выказывала высокую активность в задачах на рассудительность (лобные задачи), к тому же у них был более низкий весовой показатель{338}. Никакая дорогущая аппаратура не сможет предсказать лучше, чем одна чудесная зефирина. А уж сколько озабоченных родителей она успокоила таким простым способом – они чуть ли не поклоняться зефиру начали!
Последствия
Мы получили общее представление о разных аспектах формирования поведения. Настала пора связать это знание с основной темой нашей книги. Взрослый человек совершил какой-то поступок – не имеет значения, хороший ли, плохой или неоднозначный. Какие события из его детства привели к этому поступку?
Первое затруднение: как соотнести биологические процессы с интеллектуальными? В детстве человек страдал от истощения, а у него взрослого будет снижен интеллектуальный уровень. Это легко объяснить с биологических позиций: истощение ведет к задержке развития мозга. А вот другая ситуация: ребенка воспитывают бездушные, неласковые родители, и, став взрослым, он чувствует, что недостоин любви. Очень трудно соединить эту причину и следствие с помощью биологии, все кажется, что биологии тут меньше, чем в связке истощение – снижение когнитивных способностей. Мы меньше знаем о биологических процессах, опосредующих связь между черствым родительским обращением и низкой самооценкой повзрослевшего чада, чем о связи между истощением и снижением когнитивных способностей. И это последнее сподручнее объяснять с биологических позиций, чем первое. И лечить с помощью «биологической» терапии проще вторую проблему, нежели первую (к примеру, проще вообразить, что какой-нибудь препарат для роста нейронов поспособствует улучшению когнитивных функций, чем что он улучшит самооценку). Тем не менее биология участвует в обеих связках. Облако потрогать совсем не так легко, как кирпич, но на атомарном уровне они сформированы по одинаковым правилам.
Какова биологическая связь детства со взрослым поведением? Все начинается с удесятеренной пластичности аксонов (см. главу 5). Пластичность аксонов – это олицетворение развивающегося мозга, и стоит жизненному опыту за что-то зацепиться, как мозг тут же фиксирует это, пусть даже и самым мельчайшим изменением.
А теперь посмотрим, как разные виды детского опыта формируют разных взрослых.
Начало начал: Зачем нужна мама
Ну и заголовок, вопрос-то банальнейший. Конечно, каждому нужна мама. Даже мышке мама нужна: если мышонка разлучать с мамой на несколько часов каждый день, то у повзрослевшей мыши впоследствии будут повышенный уровень глюкокортикоидов, ограниченные когнитивные функции, увеличенная тревожность, а если речь о самцах, то еще и повышенная агрессия. Мать – фигура ключевая. Однако до середины XX столетия большинство специалистов этого не признавали. В западных культурах в отличие от традиционных были приняты особые приемы воспитания детей: меньше физического контакта с матерью, дети спали отдельно от матери с более раннего возраста, им дольше приходилось ждать, пока мать отреагирует на плач. На рубеже XIX–XX вв. ведущий тогда эксперт в этом вопросе Лютер Холт из Колумбийского университета предостерегал против «порочной практики» утешения плачущих детей на ручках и вообще предупреждал, что негоже слишком часто их ласкать{339}. Таков был мир детей из богатых семей – с нянями, которые должны были ненадолго показывать родителям детей перед сном, мир, в котором детей должно быть «видно, но не слышно».
Этот период породил страннейший в истории роман на одну ночь, а именно когда фрейдисты и бихевиористы объединились для того, чтобы объяснить возникновение привязанности детей к матери. Для бихевиористов все было понятно: матери поощряют привязанность с помощью калорий, когда кормят своих детей. Фрейдисты с той же степенью уверенности утверждали, что у младенцев еще отсутствуют те структуры личности, Эго, которые могли бы сформировать отношения с чем-то, кроме материнской груди. Обе установки в сочетании с принципом воспитания «лучше, чтобы детей было видно, но и не слышно» предполагают, что если обеспечить младенца едой, комфортной температурой плюс всякими необходимыми мелочами, то получится прекрасное начало жизни. А куда в этой схеме помещаются любовь, душевное тепло, физический контакт? Никуда, они вообще не нужны.
По крайней мере в одном случае подобные теоретические измышления стали губительными. Когда ребенок попадал надолго в больницу, считалось, что мама ему там не нужна, она только вызовет дополнительный эмоциональный переполох, ведь все, что нужно, обеспечивает медицинский персонал. Обычно матерям разрешали навещать детей раз в неделю в течение нескольких минут. Если дети лежали в больнице долго, то очень многие становились жертвами госпитализма – они просто угасали в больничной обстановке, умирая от невыясненных инфекций, болезней кишечника, болезней, никак не связанных с теми, из-за которых они попали в больницу{340}. Это было время, когда знание о микробах привело к убеждению, что уж если ребенок попал в больницу, то его в целях антисептики лучше максимально изолировать и оставить в покое. Показательно, что смертность от госпитализма взлетела в больницах с новомодными инкубаторами (идеей, позаимствованной из куроводства); в лечебницах для бедных дела обстояли гораздо лучше, там детей выхаживали по старинке – с помощью тепла человеческих рук, доброты и заботы.
В 1950-х гг. британский психиатр Джон Боулби поставил под сомнение бытовавшее мнение, что младенцы являются простейшими в эмоциональном плане организмами. С его теории привязанности началось развитие современных взглядов на дуэт мать-дитя[178]{341}. В трех томах своего труда «Привязанность и утрата» (Attachment and Loss)[179] он сформулировал ответы на вопрос «Что детям требуется от матери?». Они сейчас очевидны: любовь, ласка, теплота, отзывчивость, стимуляция, постоянство, надежность. А если лишить этого в детстве, то кого мы получим? Тревожного, печального и/или неспособного к привязанности взрослого[180].
Боулби вдохновил Гарри Харлоу из Висконсинского университета на один из ключевых, хрестоматийных экспериментов в истории психологии. Этот эксперимент разрушил и фрейдистские, и бихевиористские догмы о связи «мать – дитя»{342}. Гарри вырастил детеныша макаки-резуса без матери, но с двумя «суррогатами». Оба суррогата представляли собой проволочный каркас в форме обезьяньего тела с пластиковой обезьяноподобной головой. К одной такой «маме» приделали бутылку с молоком. А тело другой обернули плюшевой тканью. Другими словами, одна «мама» давала калории, а другая – нечто похожее на материнское тепло. Фрейд и Скиннер наверняка наперегонки бы кинулись к «молочной» матери. А малыши-обезьянки выбрали плюшевую маму[181]. «На одном молоке не выжить. Любовь – это чувство, и с ложки ею не накормишь», – писал Харлоу.
Мать выполняет какую-то основополагающе необходимую функцию, и это стало безоговорочно ясно после одного чрезвычайно неоднозначного наблюдения. С 1990-х гг. в Америке резко упала преступность. Почему? Либералы превозносили экономическое процветание. Консерваторы – увеличенные полицейские бюджеты, расширение тюрем, введение закона «трех преступлений»[182]. Тем временем ученый-юрист Джон Донохью из Стэнфордского университета и экономист Стивен Левитт из Чикагского взглянули на проблему совсем с другой стороны. В качестве причины падения преступности они предположили легализацию абортов. Авторы сопоставили, штат за штатом, год разрешения абортов и демографию снижения преступности. В результате они выяснили, что когда в том или ином штате становились возможны аборты, то через 20 лет здесь падала преступность. Удивлены? Результаты вызвали полемику, но для меня они выглядят совершенно логично, хотя и печально. Что в общем и целом предвещает преступную жизнь? Родиться у матери, которая, будь ее воля, не завела бы этого ребенка. Так что же это за основополагающе необходимая функция, которую выполняет мать? А вот какая: мама дает ребенку уверенность в том, что счастлива просто самим фактом его существования[183]{343}. И всё.
Харлоу сумел продемонстрировать идею, важнейшую для наших рассуждений, – показать, что же такое матери (а позже сверстники) дают детям. Чтобы это сделать, ему пришлось провести один из самых болезненных и безумных экспериментов в истории психологии. Эксперимент заключался в том, что детенышей обезьян выращивали в изоляции, рядом не было ни матери, ни сверстников; первые месяцы и даже годы своей жизни обезьянки были лишены контакта с живым существом, и только потом их отправляли в общество других обезьян[184].
Как и предполагалось, для тех бедняг дело закончилось катастрофой. Некоторые сидели в одиночестве, обнимая себя за плечи или раскачиваясь, как это делают аутисты. Другие предпринимали совершенно нелепые сексуальные или иерархические эскапады.
Здесь нужно отметить кое-что важное. Оказавшись в группе, обезьяны не то чтобы вели себя совсем неожиданным образом – они не демонстрировали агрессию, подобно страусу, и не завлекали самок, как гекконы, – их поведение было нормальным, но неуместным. Они, например, выказывали жестами подчиненность по отношению к малявкам вполовину их меньше или угрожали альфа-самцам, хотя должны бы были съежиться от почтения. Матери и сверстники не учат моторике или порядку поведенческих актов, это как раз заложено в генах. Они учат где, когда и кому надлежит тот или иной поведенческий акт реализовать – т. е. соответствующему контексту поведения. Они дают первые уроки о плохом и хорошем поведении, будь то касание руки или нажатие на спусковой крючок.
Когда я изучал павианов в Кении, мне довелось наблюдать поразительную ситуацию – как раз пример такого обучения. Две самки – одна высшего, другая низшего ранга – одновременно родили дочек. Дочка из «высшего ранга» развивалась быстрее, что уже обозначило некоторое неравенство. Когда обеим крошкам было несколько недель, они впервые встретились. Низкоранговая малышка углядела «аристократку» и заковыляла к ней, чтобы познакомиться. Ее мама заметила это и за хвост оттянула от несостоявшейся подружки.
Так мама преподала дочке первый урок под названием «знай свое место». «Видела ее? Ее ранг намного выше твоего, поэтому нельзя просто подойти и сказать “давай дружить”. Если ты ее увидишь, сиди смирно, в глаза не смотри, может, обойдется, и она не вытащит у тебя еду изо рта». Поразительно, что и через 20 лет, превратившись в почтенных старушек, эти две дамы сохранят ранговую асимметрию, которой они научились тем далеким утром.
В шторм сгодится любая мама
Харлоу подарил науке еще один важный вывод, и произошло это тоже благодаря одному безжалостному эксперименту. Детенышам обезьян в качестве мамы выдавали проволочный суррогат, у которого в середину тела был вделан воздушный пульверизатор. Когда малыш прижимался к такой маме, он получал в грудь струю воздуха. Как, по мнению бихевиориста, поведет себя обезьянка, встретившись с таким наказанием? Будет спасаться бегством. Но подобно детям, терпящим издевательства и побои в семье, наши обезьянки только крепче прижимались к суррогату.
Как же получается, что мы привязываемся к источнику негативного подкрепления, ищем утешения в страданиях у источника страданий? И почему мы любим не тех людей, почему позволяем себя мучить, почему возвращаемся за следующей порцией мучений?
У психологов наготове масса ответов. Потому что у вас низкая самооценка и вы не верите, что заслуживаете лучшего. Или убеждены, что только вы способны изменить этого дурного человека. Или идентифицируете себя с насильником, или считаете, что виноваты и потому навлекли на себя его/ее справедливый гнев – так насилие кажется более рациональным и менее пугающим. Все эти ответы небессмысленны, много чего объясняют и очень помогают изменить ситуацию к лучшему. Но Регина Салливан из Нью-Йоркского университета стала искать ответ совсем в другой области, на километры отстоящей от психологии человека.
Салливан учила крысят ассоциировать нейтральный запах с электрошоком{344}. Если формирование такого рефлекса начиналось, когда крысятам было десять дней и больше (т. е. это были крысята-подростки), то при появлении запаха происходила вполне логичная вещь: активировалась миндалина, выделялись глюкокортикоиды, крысята избегали запаха. Но что поразительно – стоило выработать ассоциацию запах-шок у совсем маленьких крысят, то ничего подобного не происходило; напротив, их тянуло к запаху.
Почему? Здесь уместно рассказать о любопытном явлении, касающемся стресса у новорожденных. Плод грызунов прекрасным образом способен выделять глюкокортикоиды. Но спустя всего несколько часов после рождения надпочечники резко теряют данную функцию: они едва работают. Этот необычный эффект «стрессовой гипореактивности» (SHRP, англ. stress hyporesponsive period) постепенно идет на убыль в течение нескольких следующих недель{345}.
Каково значение SHRP? Глюкокортикоиды имеют настолько разнообразное и противоречивое влияние на развитие мозга (внимание, не отключайтесь, оставайтесь на связи!), что для оптимального развития их на всякий случай лучше выключить и с помощью SHRP сыграть в рулетку: «Я, пожалуй, не буду выделять глюкокортикоиды, чтобы мой мозг мог нормально развиваться; а если случатся неприятности, то у меня есть мама и пусть она с моими неприятностями справляется». Соответственно, если лишить крысят матери, то уже через несколько часов надпочечники увеличатся и восстановят способность к секреции большого количества глюкокортикоидов.
В период SHRP младенцы будто бы используют следующее правило: «Если мама рядом (и мне не нужны свои глюкокортикоиды), меня должно тянуть к сильным стимулам. Это не может быть плохо для меня: Мама не позволила бы случиться плохому». Вернемся к эксперименту с запахом – стоило ввести глюкокортикоиды в миндалину совсем маленьких крысят во время выработки условного рефлекса, как та активировалась и крысята вырабатывали избегание запаха. И наоборот, если у крысят-подростков во время обучения заблокировать глюкокортикоиды, то у них разовьется пристрастие к этому запаху. А если при эксперименте присутствует мать, то глюкокортикоиды у крысят не выделяются и опять же развивается тяга к «опасному» запаху. Другими словами, у совсем маленьких детенышей крыс даже неприятные стимулы получают подкрепление в присутствии Мамы, даже если Мама сама является источником неприятных ощущений. Как писали Салливан с коллегами, «привязанность [у этих детенышей] к опекуну сформировалась в результате эволюции таким образом, чтобы связь между ними не зависела от качества проявляемой заботы». Если ты попал в шторм, то сгодится любая мама.
Применительно к людям эти результаты объясняют, почему те, кого обижали в детстве, во взрослых отношениях часто ищут партнера, который бы их тоже обижал{346}. А как же быть с обратной стороной проблемы? Почему 33 % взрослых, испытавших издевательства в детстве, сами стали обидчиками?
Психологи и тут находят множество ответов, построенных на модели идентификации с насильником и на рационализации для умаления ужаса происходящего: «Я люблю своих детей, но иногда, если это необходимо, могу их поколотить. Мой отец поступал так же, значит, и он меня любил». И, как и в предыдущем случае, здесь играет роль определенная глубинная биология – обезьянки-самочки, с которыми жестоко обращались матери, с большей вероятностью сами станут жестокими матерями{347}.
К месту назначения разными дорожками
Когда я начинал работать над этой главой, у меня был определенный план. С матерями разобрались, теперь можно рассмотреть последствия, скажем, отсутствия отца, пережитой в детстве нищеты или природной катастрофы. И задать уже знакомый нам вопрос: как каждый из этих факторов изменил биологию ребенка и в результате повлиял на склонность к тому или иному поведению?
Но план не сработал – последствия у столь разнообразных детских травм очень похожи, и различий между ними немного. Конечно, прослеживаются специфические корреляции – например, детство в ситуации домашнего насилия сильнее увеличивает вероятность будущих насильственных преступлений, чем пережитая в детстве природная катастрофа. Но все детские травмы можно обоснованно привести к общему знаменателю и объединить термином «неблагоприятные условия детства».
В общем, неблагоприятные условия детства увеличивают в будущем вероятность:
а) депрессии, тревожных состояний, алкогольной/наркотической зависимости;
б) снижения интеллектуальных возможностей, частично связанных с функционированием префронтальной коры;
в) нарушения самоконтроля и эмоциональной регуляции;
г) антисоциального поведения, включающего насилие;
д) формирования взаимоотношений, копирующих неблагоприятную детскую среду (например, привязанность к партнеру-насильнику){348}.
А некоторые, несмотря ни на что, переносят ужасное детство вполне нормально. Об этом мы еще поговорим.
Давайте рассмотрим биологическую связь между неблагоприятными условиями детства и увеличением риска всех перечисленных последствий у взрослых.
Психологический портрет с точки зрения биологии
Неблагоприятные условия, безусловно, являются причиной стресса и формируют характерные, связанные с ним физиологические аномалии. У многочисленных видов животных основные «младенческие» факторы стресса повышают уровень глюкокортикоидов не только у детей, но и у взрослых (а также КРГ и АКТГ – гормонов гипоталамуса и гипофиза, которые регулируют секрецию глюкокортикоидов) и способствуют гиперактивности симпатической нервной системы{349}. Фоновый уровень глюкокортикоидов высокий – реакция стресса в какой-то мере постоянно активирована – и после события-стрессора организм возвращается в «норму» с задержкой. Майкл Мини из Университета Макгилла показал, как стресс в начале жизни навсегда нарушает способность мозга держать секрецию глюкокортикоидов в узде.
Из главы 4 мы знаем, что «маринад» из глюкокортикоидов неблагоприятно воздействует на мозг, особенно в период развития: снижает интеллект, самоконтроль, извращает чувство эмпатии и т. д.{350} Это означает, что нарушилась зависящая от гиппокампа способность к обучению взрослого человека. К примеру, дети, перенесшие грубое обращение и страдающие от посттравматического расстройства, став взрослыми, имеют уменьшенный объем гиппокампа. Стэнфордский психолог Виктор Каррион в своих исследованиях продемонстрировал снижение темпов роста гиппокампа в течение нескольких месяцев после акта жестокости. Причина этого, возможно, в том, что из-за глюкокортикоидов идет на убыль выделение гиппокампом фактора роста BDNF.
Таким образом, неблагоприятные условия отрицательно влияют на память и обучаемость. И самое важное – они также тормозят развитие и функционирование лобной коры; здесь виноваты опять, вероятно, глюкокортикоиды и сниженный уровень BDNF.
Та же связка – неблагополучное детство и замедленное созревание лобной коры – относится и к пережитой в детстве нищете. Исследование Марты Фары из Пенсильванского университета, Тома Бойса из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и их коллег продемонстрировали нечто пугающее. Для детей до пяти лет выявились следующие закономерности: чем ниже социоэкономический статус (СЭС) ребенка, тем в среднем: а) выше фоновый уровень глюкокортикоидов и/или сильнее глюкокортикоидный стрессовый ответ; б) тоньше лобная кора и ниже ее метаболизм; в) хуже лобная кора справляется с задачами на рабочую память, регулирует эмоции и самоконтроль, принимает решения; более того, при решении одних и тех же задач у детей с более низким СЭС задействуется существенно больший объем лобной коры, чем у детей с более высоким. Вдобавок бедность нарушает созревание мозолистого тела (напомню – это пучок аксонов, соединяющих два полушария мозга и координирующих их функции). Как же это нечестно – по глупому стечению обстоятельств родиться в бедной семье и уже к детскому саду заранее убавить свои шансы на успех в зефирном экзамене жизни{351}.
Бедность «въедается в кожу» – многие исследователи посвятили работы механизмам этого процесса. Некоторые механизмы имеют отношение непосредственно к среде человеческого обитания: если вы бедны, то жилье вашего детства с большей вероятностью располагается вблизи источников загрязнения среды[185]{352}, или в вашем районе в магазинах продается больше алкоголя, чем экологически чистых овощей и фруктов, или вы учитесь в худшей школе и у родителей мало времени, чтобы почитать с вами книжку. Вокруг вас более скудное социальное окружение, а вы сами страдаете от заниженной самооценки. Но есть и другие механизмы, связанные с бедностью. Они отражают губительный эффект подчиненного положения у всех «ранговых» животных. У павианов, например, низкий ранг матери предсказывает повышенный уровень глюкокортикоидов у ее детенышей, когда они вырастают{353}.
Таким образом, неблагополучное детство ослабляет и притупляет функцию гиппокампа и лобной коры. А вот в миндалине все наоборот: при неблагоприятных условиях она увеличивается в размере и становится чрезмерно чувствительной. Из-за этого повышается риск тревожных расстройств; если же учитывать еще и дефектное созревание лобной коры, то становится возможным объяснить проблемы с эмоциональной и поведенческой регуляцией, особенно с самоконтролем{354}.
Тяжелое детство специфическим образом ускоряет созревание миндалины. Обычно в подростковом возрасте у лобной коры появляется способность блокировать ее действия, будто бы говоря: «На твоем месте я бы этого не делала». Но у неблагополучных детей, наоборот, миндалина обучается блокировать лобную кору: «Я все равно это сделаю, попробуй только меня остановить».
Неблагополучие детства наносит ущерб и дофаминовой системе (а также, следовательно, работе системы награды, ее ожиданию, целенаправленному поведению), и это имеет два неприятных последствия.
Во-первых, формируется организм, более подверженный алкогольной или наркотической зависимости. Подобная уязвимость, по-видимому, объясняется совокупностью трех причин: а) влиянием на развивающуюся дофаминовую систему; б) увеличенным уровнем глюкокортикоидов у взрослого, способствующим тяге к алкоголю и наркотикам; в) слабо развитой лобной корой{355}.
Во-вторых, трудное детство увеличивает риск депрессии у взрослого. Определяющий симптом депрессии – ангедония, полное равнодушие и невосприимчивость к радости. Хронический стресс приводит к недостатку дофамина в мезолимбической системе, отсюда и развитие ангедонии[186]. Так что же представляет собой биологическая связь между неблагополучным детством и последующей «взрослой» депрессией? Это структурные нарушения развития мезолимбической системы и повышенный уровень глюкокортикоидов у взрослых, который истощает запас дофамина{356}.
Риск депрессии увеличивается еще и «опосредованно»: понижаются пороги возбудимости, и поэтому те стрессовые ситуации, которые обычно легко переживаются, для человека с тяжелым детством могут вызвать депрессивный эпизод. Такая уязвимость очень понятна. Депрессия – это по сути болезненное ощущение потери контроля (классически депрессия описывается как «выученная беспомощность»). Если ребенок перенес тяжелую травму, когда был не в состоянии контролировать ситуацию, то при самом благоприятном исходе, став взрослым, он решит: «Это все было ужасно, но тогда я ничего не мог поделать». В случаях же, когда из-за детских травм возникает депрессия, делается болезненное сверхобобщение: «В жизни все ужасно, и никогда ничего нельзя сделать».
Два отступления
Итак, самые разные факторы неблагополучия в детстве формируют одинаковые проблемы у взрослых уже людей. Тем не менее хотелось бы остановиться подробнее на двух факторах.
Свидетели насилия
Что происходит, когда дети становятся свидетелями домашнего насилия, военных действий, группового убийства, побоища в школе? В течение нескольких следующих недель снижается концентрация и самоконтроль. Присутствие при насилии со стрельбой удваивает вероятность того, что свидетель сам совершит грубое насилие в ближайшие два года. Сюда же причисляются знакомые нам депрессия, тревога и агрессия. Исследования подтверждают, что преступники, совершившие насилие над личностью, чаще были свидетелями насилия в детстве, чем те, кто совершил ненасильственное преступление[187]{357}.
Это дополняет нашу общую картину неблагополучного детства. Отдельной темой является влияние на детей насилия в средствах массовой информации.
Существует множество работ, изучавших эффект наблюдаемого детьми насилия по телевизору, в кино, новостях, музыкальных клипах, а также их участия в видеоиграх с насилием. Краткие выводы.
Насилие по телевизору или в кино увеличивает вероятность агрессивного поведения вскоре после просмотра эпизода{358}. Интересно, что этот эффект сильнее проявляется у девочек (притом что у них общий уровень агрессии ниже). Эффект тем сильнее, чем младше дети, или чем более реалистично показано насилие, или/и если оно подается как героизм. Также в результате подобного воздействия дети начинают относиться к агрессии терпимее: одно из исследований показало, что девочки-подростки после просмотра музыкальных клипов с насилием с большей готовностью соглашались терпеть его во время свиданий. Ключевым фактором здесь является именно насилие: ничто иное – ни возбуждение, ни волнение, ни разочарование – не увеличивает агрессию.
Если воздействие медианасилия сильно и постоянно, то можно предсказать более высокий уровень агрессии у молодежи обоих полов (агрессия понимается в широких рамках – от поведения в условиях эксперимента до криминального насилия). Это мощный эффект, он различим даже на фоне воздействия массмедиа в целом, влияния физического истощения и запущенности, СЭС, уровня преступности в районе, образованности родителей, психиатрических заболеваний, показателя IQ. Все это надежные результаты огромной важности. Связь между воздействием медианасилия в детстве и усилением агрессии в зрелом возрасте сильнее, чем между воздействием свинца и IQ, или количеством принятого кальция и костной массой, или присутствием асбеста и раком гортани.
Два момента: а) не существует научного подтверждения того, что особо опасные преступники (например, учинившие кровавую бойню) стали таковыми из-за воздействия медианасилия в детском возрасте; б) подобное воздействие совсем не обязательно ведет к усилению агрессии – самый сильный эффект медиа оказывает на тех, кто и так уже предрасположен к насилию. Насилие на экране лишь делает их более безразличными и упорядочивает их собственную агрессию[188].
Травля
Травля – еще один фактор неблагополучия в детстве, и последствия от нее в зрелости сравнимы с последствиями грубого отношения дома{359}.
Тут есть одна сложность. Мы все так или иначе наблюдали, или чувствовали на собственной шкуре, или участвовали в третировании бедняг, поэтому мы знаем, что жертва травли не выбирается случайным образом. Дети с шуточной бумажкой на спине «пни меня» часто или сами имеют проблемы с психикой, социальным и эмоциональным развитием, или они есть у них в семье. У таких детей и без того высок риск неблагоприятных последствий по достижении совершеннолетия, а если сюда добавляется травля, то их будущее выглядит еще более унылым.
Портрет хулигана-задиры тоже вполне типичен: начать с того, что по большей части такие дети растут в семьях матерей-одиночек или очень молодых родителей, малообразованных и с неопределенными перспективами трудоустройства. Обидчики делятся на два типа: самый распространенный – это тревожный, одинокий ребенок, который не умеет общаться; он третирует другого от отчаяния или с целью добиться признания. Такие обычно вырастают и прекращают третирование. Второй тип – уверенный в себе, равнодушный, социально развитый ребенок с трудновозбудимой симпатической нервной системой; так выглядит будущий социопат.
И еще одно поразительное наблюдение. Хотите увидеть ребенка, который почти наверняка превратится в совершенно несчастного взрослого? Найдите такого, который одновременно и гонитель, и гонимый, который терроризирует слабого в школе, а дома над ним издевается кто-то более сильный{360}. Такие дети с большей вероятностью (чем просто обидчики или жертвы) страдают от душевных расстройств, хуже успевают в школе, слабее адаптируются в обществе. С большей же вероятностью от них можно ожидать использования оружия или нанесения серьезного ущерба. По достижении совершеннолетия риск депрессии, тревожных расстройств, самоубийства у них также выше.
В одном исследовании детям из трех перечисленных категорий предлагалось прочитать разные сценарии травли{361}. Жертвы издевательств осуждали травлю и выражали сочувствие. Хулиганы-обидчики тоже порицали травлю, но находили ей логическое обоснование (к примеру, «в этом конкретном случае жертва сама виновата»). А что же жертвы-обидчики? Они говорили, что травля – это нормально. Неудивительно, что последствия для них самые плохие. «Слабак заслуживает травли; поэтому ничего страшного, что я его задираю. А это значит, что я заслуживаю глумления дома. Но я же не заслуживаю, это тот ненавистный родственник ужасен. Тогда, может, и я ужасный, что кого-то третирую. Но я же не ужасный, это они, слабаки, сами заслужили…» Вот такая кошмарная лента Мебиуса[189].
Ключевой вопрос
Мы рассмотрели, как на взрослом человеке отразятся разные факторы неблагополучного детства, а также биологические компоненты, обеспечивающие эту связь. И все же зададим ключевой вопрос. Да, жестокое обращение с ребенком увеличивает вероятность получить взрослого-насильника; присутствие при насилии поднимет риск посттравматического расстройства; смерть родителя обозначает более вероятную депрессию в зрелом возрасте. И тем не менее многие, наверное, даже большинство жертв неблагополучия выходят из всех передряг вполне нормально функционирующими взрослыми. Остаются из детства темные углы с монстрами, прячущимися в тенях, но в общем и целом все идет хорошо. Откуда берется жизнестойкость?
Как мы увидим, имеют значение гены и внутриутробная среда. Но вот что самое важное. Давайте вспомним, почему мы объединили разные типы травм в одну категорию. Потому что имеет значение конечный итог – сколько раз ребенка испытывала жизнь и сколько у него каждый раз находилось защитных факторов. Если ребенок подвергся сексуальному насилию или стал свидетелем насилия – его прогнозы на будущее лучше, чем если он пережил и то и другое. Или, скажем, бедность: будущее гораздо светлее у того ребенка, которому досталась хоть и бедная, но крепкая и любящая семья, чем у росшего в семье состоятельной, но разваливающейся, да к тому же в которой и обстановка была желчная. Вполне очевидно, что чем больше разных тягот выпадает на долю ребенка, тем меньше шансов вырасти в счастливого, полноценного взрослого{362}.
Кувалда
Что происходит, когда плохо все – ни матери, ни семьи, почти нет общения со сверстниками, налицо сенсорная и интеллектуальная запущенность, отсутствует нормальное питание?{363}
Эта фотография, сделанная в детском приюте в Румынии, иллюстрирует, каким кошмарным может быть детство. В 1980-х гг. румынский диктатор Николае Чаушеску запретил контрацептивы и аборты и потребовал, чтобы женщины рожали минимум по пять детей. Вскоре детские учреждения заполнились тысячами детей всех возрастов, включая младенцев, от которых отказались обнищавшие семьи (многие считали, что сумеют поправить дела и забрать детей)[190]. Детей «пачками» сдавали в эти переполненные детские дома, а уж там их ждали недоедание и отсутствие элементарной заботы. История вышла наружу, когда в 1989 г. режим Чаушеску был сброшен. Многих детей усыновили на Западе, и внимание международного сообщества заставило румынские власти как-то улучшить условия в детских учреждениях. С тех пор некоторые дети, взятые на воспитание на Запад, вернулись к своим семьям, а те, что остались в приютах, привлекли пристальное внимание исследователей; в основном их изучал Чарльз Нельсон из Гарвардского университета. Достигнув совершеннолетия, эти дети стали именно такими, какими и ожидалось. Низкие умственные показатели и посредственные когнитивные навыки. Проблемы с формированием привязанности, часто на грани аутизма. Море депрессий и тревожных состояний. Чем больше времени они провели в приюте, тем печальнее был прогноз.
А что у них с мозгами? Общий объем мозга уменьшен, меньше серого вещества, белого вещества, замедлен метаболизм лобной коры, нарушена связь между разными участками мозга. А миндалина? Она как раз увеличена. Что тут еще скажешь…
Культура С прописной и строчной К
В главе 9 мы подробно рассмотрим зависимость поведения, хорошего и плохого, от культуры. Здесь же мы предварим эту главу, остановившись на двух аспектах: во-первых, детство является тем периодом, когда культура «врастает» в нас, а во-вторых, родители способствуют этому процессу.
В разных культурах приемы воспитания детей тоже разнятся; различается то, как долго дети находятся на грудном вскармливании и сколько раз в день их кормят, насколько часто дети общаются и разговаривают с родителями, сколько времени они плачут, пока к ним не подойдут и не успокоят, в каком возрасте детей оставляют спать одних.
Воспитание ребенка в кросс-культурной семье часто рождает отчаянные стычки и невротизм у родителей: у какого народа воспитание дает лучшие результаты? Должна же существовать какая-то идеальная комбинация из детской диеты индейцев квакиутл, тробрианского режима детского сна, обучения музыке методами конголезцев и т. д. Но этнографического идеала воспитания не существует. Культура (начиная с родителей) растит детей так, чтобы поведение будущих взрослых соответствовало ценностям данной культуры; это подчеркнула Мередит Смол из Корнеллского университета{364}.
Мы начнем со стиля воспитания – именно так младенец впервые сталкивается с культурными ценностями. Интересно, что типология стилей воспитания (напишем с маленькой буквы) логически вытекает из стилей культурных (а здесь положены заглавные буквы).
Оглядывая руины послевоенного мира, ученые пытались понять, откуда берутся Гитлеры, Муссолини, Франко и их приспешники. Двое самых влиятельных в этой области исследователей – Ханна Арендт и Теодор Адорно – в свое время эмигрировали, спасаясь от гитлеровского преследования. Арендт в 1951 г. написала книгу «Истоки тоталитаризма» (The Origins of Totalitarianism)[191], а среди многочисленных работ Адорно есть труд, опубликованный в сборнике 1950 г. «Авторитарная личность» (The Authoritarian Personality) совместно с Эльзой Френкель-Брунсвик, Дэниелом Левинсоном и Невиттом Санфордом[192]. Адорно особенно интересовала личность фашиста и ее определяющие черты, включая крайний конформизм, готовность к подчинению, доверие к начальству, агрессивность, неприятие вдумчивого взгляда на окружение и на самого себя – т. е. черты инфантильные, уходящие корнями в детство{365}.
Этот массив исследований подтолкнул психолога из Калифорнийского университета в Беркли Диану Баумринд определить три ключевых стиля воспитания (с тех пор ее исследования успешно адаптировали к различным культурам для практического использования){366}. Начнем с авторитетного. Правила поведения и ожидания при таком стиле четко обозначены, постоянны и выражены в явном виде; фраза «потому что я так сказал» вычеркнута из обихода, что дает возможность гибкости применения правил; поощрение и прощение перевешивают наказание; родители с готовностью выслушивают пожелания и мнение детей; важнейшим является поддержка потенциала и растущей компетентности и автономности. В результате вырастают нормальные люди – счастливые, эмоционально и социально зрелые и состоявшиеся, независимые, самостоятельные – в общем, отвечающие стандартам самого беспокойного родителя, который возьмется читать эту книгу (не говоря уж про писателя…).
Следующий стиль – авторитарный. Масса жестких, произвольных требований и правил, которые постулируются, а не объясняются; поведение ребенка в основном контролируется наказанием; эмоциональные нужды редко принимаются во внимание. Родители считают, что детей нужно готовить к жизни в жестоком, беспощадном мире. В результате авторитарного воспитания взрослый может быть успешен в узкой профессиональной области, но он склонен следовать чужим указаниям, приспосабливаться к другим (за этим конформизмом часто стоят обида и горечь, и человек может в какой-то момент взорваться); он не особенно счастлив. Его социальные навыки не развиты, потому что вместо того, чтобы учиться полагаться на свой опыт, он подражает другим.
Третьим назовем либеральный стиль воспитания, породивший поколение «бумеров»[193] и культурную фантасмагорию 1960-х гг. К детям предъявляется минимум требований и ожиданий, насаждается вседозволенность, никто не следит за выполнением правил; дети сами отвечают за распорядок. В результате получаем потворствующего своим желаниям индивида, не умеющего себя контролировать, несдержанного; к этому добавляются неадекватные социальные навыки из-за отсутствия как положительного, так и отрицательного подкрепления в детстве.
Три стиля Баумринд доработали психологи Элеанор Маккоби и Джон Мартин из Стэнфордского университета, включив туда индифферентный стиль{367}. С этим добавлением мы получаем таблицу из двух рядов и двух колонок, матрицу 22: авторитетный стиль (высокие требования, высокие чуткость и динамичность), авторитарный (высокие требования, низкие чуткость и динамичность), либеральный (низкие требования, высокие чуткость и динамичность), индифферентный (низкие требования, низкие чуткость и динамичность).
Важно понимать, что каждым стилем воспитания формируется определенный тип взрослой личности, но в разных культурах отдается предпочтение какому-то одному конкретному стилю.
Вслед за воспитанием культурные ценности внедряются в сознание детей посредством общения со сверстниками. Эту сторону дела исследовала психолог Джудит Рич Харрис в работе «Самонадеянность воспитания» (The Nurture Assumption). Харрис не работала ни в одном научном институте, не имела ученой степени, но приобрела широкую известность среди коллег, отстаивая неординарную точку зрения: влияние родителей на формирование личности ребенка сильно преувеличено{368}. Вместо них уже с самого юного возраста решающее влияние оказывают сверстники. Аргументация Харрис включала следующие пункты:
а) На практике влияние родителей часто опосредовано, а первым звеном являются сверстники. Например, риск антисоциального поведения возрастает не потому, что детей воспитывает мать-одиночка, а потому, что в такой семье обычно ниже уровень доходов и, следовательно, живет семья в районе победнее, где круг общения ребенка часто составляют отпетые хулиганы.
б) Сверстники влияют на формирование лингвистических навыков, например, дети подхватывают акцент товарищей, а не родителей.
в) Молодежь у других приматов учится адаптироваться в сообществе в основном с помощью сверстников, а не матерей.
Книга Харрис вызвала много споров (частично потому, что основная мысль книги так и напрашивалась на то, чтобы ее переврали, – мол, психологи доказали, что родители не нужны) и критических откликов, но одновременно и бурных одобрений[194]. Когда страсти улеглись, была выработана стабильная позиция, признавшая, что действительно роль товарищей недооценивалась, но что и родители играют очень важную роль, влияя, в частности, на выбор социальной группы, в которой и будет в дальнейшем приобретать опыт их отпрыск.
Почему же сверстники так важны? Общение учит социальной компетентности: как вести себя в тех или иных обстоятельствах, как дружить или враждовать, как определить свое место в обществе. Для этого детство предоставляет растущим организмам первоклассный инструмент, идеально подходящий для обучения, – игру{369}.
Что означает для детей социальная игра? Пишем большими буквами: Набор Поведенческих Приемов, которые необходимы для совершенствования социальной компетенции. Напишем среднего размера шрифтом: фрагменты будущего взрослого поведения, установление стабильных элементов рисункаповедения, возможность примерить на себя разные роли и улучшить моторные навыки. Теперь маленькими буквами, с учетом эндокринологии: испытать на собственном опыте, что средний, быстро проходящий стресс, т. е. стимуляция, – это неплохо. И с учетом нейробиологии, тоже мелким шрифтом: с помощью этого инструмента система решает, от каких избыточных синапсов можно избавиться.
Историк Йохан Хейзинга охарактеризовал человечество как Homo Ludens, «человек играющий», т. е. всю жизнь участвующий в игре по определенным правилам. Тем не менее игра универсальна для всех высокосоциальных видов, повсеместно распространена среди малышей и достигает пика активности в подростковом возрасте. Любая игра предусматривает одинаковое знаковое поведение, это становится ясно, если посмотреть на дело глазами этолога (например, доминантная собака, чтобы затеять игру, припадает к земле, будто заискивая, чем показывает доброжелательность и неопасность; доминантный малыш-павиан в этой же ситуации покажет зад потенциальному товарищу низшего ранга).
Игра жизненно необходима. Ради игры животные забывают о еде, тратят калории, отвлекаются и перестают контролировать опасность, отслеживать хищников. Молодежь разбазаривает драгоценную энергию на игры в голодные периоды. Редко встретишь довольного жизнью и общением взрослого, который бы в детстве был лишен игр или не интересовался ими.
Главное, что игра приносит удовольствие, иначе зачем вообще шевелиться, тем более в неподходящей обстановке? Во время игры активируются дофаминовые пути; играя, крысята издают те же звуки, что и при вознаграждении едой; собаки виляют хвостами и тратят на это половину калорий – и все ради того, чтобы заявить о своем присутствии и готовности играть, подкрепляя согласие феромоновым духом. Как специально отмечал психиатр Стюарт Браун, основатель Национального института игры, противоположностью игры является вовсе не работа, а депрессия. Трудность состоит в том, чтобы определить, как при такой вариабельности игр в мозге организуется положительное подкрепление. Ведь играют все и во всё – от математиков, подкалывающих друг друга с помощью хитроумных алгебраических шуточек, до мальчишек, которые хохочут, издав уморительный пукающий звук подмышкой.
Один важный тип игр включает элементы агрессии. Его Харлоу называет «куча-мала» – дети пихаются и толкаются, подростки импала стукаются головами, щенки покусывают друг друга{370}. Такое поведение свойственно скорее самцам, и, как мы вскоре увидим, этому способствует внутриутробный тестостерон. Является ли куча-мала репетицией предстоящего соревнования за статус – сражения длиною в жизнь? Или роли уже распределены? Да и да – комбинация и того и другого.
Культурные ценности считываются, естественно, не только со сверстников, но и непосредственно с окружения. Мусор на улице валяется? Дома разваливаются? Чего больше: кафе, церквей, библиотек или магазинов оружия? Парки есть? В них безопасно гулять? А что рекламируют билборды и наклейки на машинах: рай духовный или материальный? Подвиги мучеников или доброту и толерантность?
Теперь давайте взглянем на культуру в масштабе племен, наций и государств. Приведем кратко культурные различия в приемах воспитания.
Коллективистские и индивидуалистические культуры
Из главы 9 станет понятно, что контраст между коллективистским и индивидуалистическим аспектами культур является самым популярным среди исследователей. Типичным объектом изучения становится сравнение восточноазиатской коллективистской культуры и архииндивидуалистической культуры Америки. Коллективизм делает упор на взаимозависимость, гармонию, умение подстраиваться, права и обязанности всей социальной группы; в противоположность этому культуры индивидуализма ценят независимость, соревнование, нужды и права каждого конкретного человека.
В среднем матерям из индивидуалистических культур по сравнению с коллективистскими мамами свойственно громче говорить, громче включать музыку, более явственно выражать чувства мимикой{371}. Они считают себя скорее учителями, чем защитниками, терпеть не могут скучающих детей, ценят бурное и открытое выражение эмоций. Они побуждают к соревновательным играм, поощряют хобби, где нужно что-то делать, а не просто наблюдать. Детей учат разговаривать уверенно, быть независимыми и ценить свое мнение. Дайте такой матери фотографию косяка рыб с одной рыбкой впереди – и она пояснит ребенку, что отдельная рыбка – это вожак[195].
Матери культур коллективизма больше ласкают и успокаивают детей, побуждают к контактам с другими взрослыми. Они ценят эмоциональную сдержанность и оставляют спать малышей одних в более позднем возрасте. Из игр предпочтительнее те, в которых требуется проявить сотрудничество и умение приспособиться к другим. Если мать играет с ребенком, например, в машинки, то акцент делается не на то, чтобы освоить машинку и понять, что же такое автомобиль, а на процесс «совместности» игры, на то, чтобы поделиться («Спасибо, что дал мне машинку, а теперь я тебе ее дам обратно»). Детей учат подлаживаться, думать о других, принимать ситуацию и адаптироваться к ней вместо того, чтобы менять ее; мораль и конформизм оказываются практически синонимами. Та же фотография рыбок будет объяснена по-другому: с той рыбкой впереди никто не хочет играть, потому что она наверняка сделала что-то плохое.
Логично предположить, что у детей из индивидуалистических культур модель психического состояния развивается позже, чем у детей-коллективистов, и что их мозг должен активировать больше нейронных связей, чтобы добиться того же уровня социальных навыков. Ведь для коллективистов социальная компетентность состоит как раз в том, чтобы принять точку зрения другого{372}.
Интересно отметить, что японские дети (коллективисты) больше играют в видеоигры с насилием, чем американские, но при этом проявляют меньше агрессии. Более того, медианасилие вызывает у них меньше агрессии, чем у американских детей{373}. В чем же дело? Нужно учитывать три возможных фактора: а) американские дети чаще играют сами с собой, вроде волка-одиночки на своей территории; б) японские дети редко имеют компьютер или телевизор в спальне и поэтому чаще играют с родителями; в) насилие в японских видеоиграх чаще имеет просоциальные, коллективистские сюжеты.
В главе 9 мы еще разовьем тему коллективизма и индивидуализма в культурах.
Культура чести
В этих культурах особо ценятся воспитанность, хорошие манеры, гостеприимство. За поругание чести – собственной, семейной или клановой – полагается мстить, а иначе позор. В данной среде постоянно происходят вендетты, практикуются месть и «убийства чести». Тут никто не подставит другую щеку. Классическая культура чести – американский Юг, но, как мы прочитаем в главе 9, подобные культуры распространены по всему миру, и для них характерна определенная экология. Когда же культура чести комбинируется с культурой «преследования», то выходит нечто смертельное: с вами плохо поступили на прошлой неделе, или в прошлом месяце, или в прошлом тысячелетии, а у долга чести нет срока давности.
Воспитание в культурах чести обычно авторитарное{374}. Дети ведут себя агрессивно, особенно если задета честь, и неизменно одобряют ответную агрессивную реакцию в подобных ситуациях.
Классовые отличия
Детеныш павиана, как мы уже рассказывали, узнает о своем месте в иерархической структуре от матери. У людей все гораздо сложнее: тут и косвенные сигналы, и тонкие языковые нюансы, интеллектуальный и эмоциональный исторический груз («Когда твой дедушка иммигрировал сюда, он не мог даже…»), надежды на будущее («Когда ты вырастешь, ты сможешь…»). Мамы-павианы учат своих детей, как и когда себя вести, а человеческие мамы – о чем имеет смысл мечтать.
Различия в воспитании у разных социальных классов западных стран напоминают различия между воспитанием на Западе и в развивающихся странах. На Западе родители поощряют детей осваивать мир. А в тех уголках земли, где жизнь немыслимо тяжелая, перед родителями стоит благороднейшая задача – сохранить ребенку жизнь и оградить от опасностей грозного мира[196].
Типология Баумринд хорошо описывает различия в воспитании у разных классов в западных культурах. В более статусных социоэкономических слоях общества распространены авторитетный и либеральный стили. А в среде с низким СЭС преобладает авторитарное воспитание с двумя характерными чертами. Одна из них – защита. В каких случаях высокостатусные родители становятся авторитарными? Когда ребенку грозит опасность. «Детка, ты молодец, что думаешь своей головой. Но если ты выбежишь на улицу и я закричу “Стой!”, то нужно остановиться». А ребенка из семьи низшего класса всегда подстерегает множество опасностей. Вторая характерная черта – подготовка детей к трудностям жестокого мира: предполагается, что во взрослой жизни к беднякам в основном будут обращаться в повелительном наклонении.
Антрополог Адри Куссеров из колледжа Святого Михаила в своем классическом труде изложила классовые различия в воспитании. Она подытожила обширные наблюдения за родителями из трех «племен»: это были богатые семьи на востоке Манхэттена, сообщество хорошо трудоустроенных рабочих и семьи бедняков, в среде которых процветает криминал (две последние группы – из района Квинс в Нью-Йорке){375}. Разница оказалась поразительной.
В бедном районе поощрялся «жесткий защитный индивидуализм». Там алкоголизм соседствовал с наркоманией, было полно бездомных, постоянно кого-то арестовывали, кто-то умирал. И родители старались оградить детей от улицы в прямом и переносном смысле. Их речи были свойственны метафоры, отражающие идею сохранения достигнутого: «стой на своем», «храни достоинство», «не давай другим лезть в душу». Практиковалось авторитарное воспитание, причем родители еще и усложняли цель. Например, ни в каком другом сообществе родители не дразнят детей так часто, как в том сообществе бедняков.
В семьях представителей рабочего класса стремились воспитать «жесткого напористого индивидуалиста». Родители уже начали подниматься по социоэкономической лестнице и хотели бы, чтобы дети продолжили начатый путь. Их речь изобилует образами движения, прогресса, спортивной соревновательности: «двигайся вперед», «пробуй свои силы», «разведывай обстановку», «стремись к победе». Неослабевающее усилие, мотивированное надеждами поколений, – и ребенок будет способен покорить новую ступень социальной лестницы среднего класса.
И в той и в другой группе воспитатели прививают уважение к власти, особенно внутри семьи. Более того, дети воспринимаются как некая категория, а не как самоценные индивиды: «Дети, подойдите» вместо «Люси, Джон, подойдите».
За этим следует «мягкий индивидуализм» воспитания преуспевающей части среднего класса[197]. В данной группе подразумевались как само собой разумеющиеся будущий успех (в принятых стандартах) и физическое здоровье детей. Намного более уязвимым считалось их психическое здоровье; когда перед ребенком открыты все дороги, на родителях лежит ответственность поддерживать благородное движение к самореализации. Ее категории часто выходили за рамки общепринятых: «Я надеюсь, моему мальчику/девочке никогда не придется вкалывать на неинтересной работе просто ради денег». Это и понятно, ведь фольклор данной группы составляют рассказы об успешном бизнесмене, который, уже практически став владельцем корпорации, бросает все, чтобы посвятить себя резьбе по дереву или игре на гобое. Язык родителей пестрит метафорами, указывающими на реализацию потенциала: расцвести, процветать, цвести пышным цветом. Стиль воспитания культивируется авторитетный или либеральный, осложненный двусмысленностью распределения власти между детьми и родителями. Вместо требования «Дети, уберите бардак» мы слышим более индивидуализированную, более оправданную просьбу: «Кейтлин, Зак, Дакота, приберите тут, пожалуйста. Малала придет в гости»[198].
Итак, мы узнали, почему обстановка детства – от первых контактов с матерью до воздействия культуры – оказывается постоянно действующим фактором и какая биология опосредует это влияние. Учитывая «пройденное» в предыдущих главах, мы покончили со списком факторов среды, влияющих на совершенный здесь и сейчас поведенческий акт издали – от момента рождения до этого здесь и сейчас. По сути, мы разобрали среду, пора заняться генами.
Однако мы упустили важный момент: среда начинается не с рождения.
Девять долгих месяцев
Что слышно в утробе
В результате ряда исследований выяснилось, что плод в утробе матери на последних сроках беременности способен слышать (что происходит снаружи), ощущать вкус (околоплодной жидкости), запоминать это и потом оказывать предпочтение именно тем стимулам. Для демонстрации упомянутых удивительных фактов разработали остроумные эксперименты, а затем полученные знания донесли до широкой общественности.
Эксперимент показал: если в околоплодную жидкость крысы ввести раствор с лимонным ароматизатором, то родившиеся вскоре крысята предпочтут именно этот запах. Кроме того, букет некоторых специй проникает в околоплодную жидкость беременных женщин. Может быть, именно из-за этого нам нравится та еда, которую мама любила во время беременности – довольно неожиданный способ передачи культурных норм{376}.
Слуховые эффекты тоже прослеживаются в период внутриутробного развития, как показал Антони Декаспер из Северо-Каролинского университета{377}. Голос беременной женщины слышен в утробе, и младенцы способны распознать его; они отдают предпочтение голосу матери[199]. Чтобы это доказать, Декаспер использовал прием из этологии: новорожденного можно научить сосать соску по-разному, двумя разными сочетаниями коротких и длинных «засасываний». Новорожденный сосет соску одним способом – и слышит мамин голос. Другим способом – отзывается другая женщина. И выяснилось, что новорожденные хотят слышать мамин голос. Некоторые элементы языка выучиваются еще до рождения: общий рисунок младенческого плача схож с интонациями речи языка матери.
Интеллектуальные способности плода на последних сроках и вовсе удивительны. Например, плод способен различить пары бессмысленных слогов («биба» и «баби»). Спросите, откуда нам это известно. А вот откуда: мама повторяет «биба, биба, биба», и в это же время считываются показания сердечного ритма плода. «Скукотища» или «Все спокойно!», – думает плод, и его сердце замедляется. Затем мама переключается на «баби-баби». Если бы ребеночек в животе не мог различить эти «биба» и «баби», то сердечный ритм продолжал бы замедляться. Но он заметил: «Ой, что там происходит?» – и его сердце ускоряется. Именно это и обнаружил исследователь{378}.
Затем Декаспер с коллегой Мелани Спенс провели еще один замечательный эксперимент. Они показали (с помощью все тех же разных способов сосания соски), что новорожденным все равно, читает ли мама вслух абзац из детской книжки «Кот в шляпе»[200] или из ритмически схожей «Король, мыши и сыр»[201]{379}. Но те новорожденные, чьи мамы читали вслух «Кота в шляпе», пока они еще были в животе, предпочитали Доктора Сьюза. Вот так-то.
Несмотря на остроумие всех этих экспериментов, внутриутробное обучение – не совсем предмет данной книги. Не думаю, что найдется много новорожденных с готовым желанием прочитать, скажем, «Майн кампф». Тем не менее влияние некоторых внутриутробных факторов весьма значительно.
Устройство и особенности мозга мальчиков и девочек, что бы это ни значило
Мы начнем с упрощенного объяснения, что значит «среда» для мозга плода: это питательные вещества, передача иммунитета и – самое главное – доставка гормонов к мозгу.
Едва развившись, соответствующие железы вполне способны вырабатывать у плода положенные им гормоны. А это имеет важные последствия. Когда в главе 4 гормоны впервые появились в нашем повествовании, мы рассуждали об их способности активировать те или иные процессы и о длительности такой активации. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Совсем другие последствия от работы гормонов у плода: они оказывают на мозг «организационный» эффект, определяющий его структуру и функционирование на всю жизнь.
Примерно через восемь недель после зачатия половые железы человеческого плода начинают секрецию стероидных гормонов (тестостерона у мужского плода и эстрогена с прогестероном у женского). Тестостерон плюс антимюллеров гормон (он тоже вырабатывается в семенниках) оформляют маскулинные признаки мозга.
Три проблемы, в порядке усложнения:
а) У многих грызунов при рождении мозг не имеет половых различий, а описанные гормональные воздействия продолжаются после рождения.






