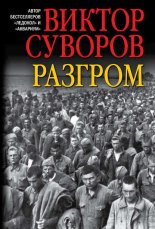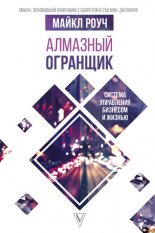Про Н., Костю Иночкина и Ностальжи. Приключения в жизни будничной и вечной Круглов Сергий

Пришед в гости к батюшке, Н. обнаружил, что тот завел себе красноухую черепашку, посадил ее в тазик с водой и кормил тараканами.
– На газоне нашел. Их нередко выбрасывают, когда обнаруживают, что они кусачие, – сказал батюшка. – Лежала на спине, лапками шевелила…
– Померла бы?
– А то… Сама-то перевернуться не может. Падшесть, понимаешь, она такая… Правда, Ван Цюи писал, что не таковы, одни из всех, нефритовые черепахи: они приучаются выживать в перевернутом мире, и одна лишь нефритовая черепаха может, вопреки природе, стать приемной матерью-кормилицей киноварного цилиня…
– Типа Церковь?
– Типа. Хочешь покормить?
– Я? Э-э… Нет, вы уж лучше сами… вы все-таки в сане, и все такое… – пробормотал Н., а черепашка внимательно посмотрела на него ничего не выражающим вековечным глазом, приняла в клюв таракана и, погрузившись с головой в праматерию, стала питаться.
«Запомнила», – содрогновенно подумал Н.
Н. спросил у батюшки:
– Отче, а как вы относитесь к экуменизму?
Батюшка, примерившийся налить чаю из чашки в блюдце, остановил движение на полпути:
– В каком смысле?
– Ну… Наши перегородки до неба не доходят, и все такое…
– Перегородки? А помнишь лихие девяностые? У нас тогда ежедневно крестилось человек по полста, считали их партиями, да отпевания, да венчания, да все подряд… Помню, в одном углу храма я вполголоса покойника отпеваю, а в другом мой сослужитель вполголоса две пары подряд венчает, в одном углу – многая лета, в другом – вечная память… И ничего. И перегородки не доходят. Вот это был экуменизм!
«У попов на все готов ответ», – подумал Н. Но вслух, конечно, не сказал – батюшку он любил. И Ностальжи ничего не сказала, ее на тот момент поблизости не было.
Н. иронически наблюдал, как Ностальжи роется в своей сумочке, уйдя туда по плечи и время от времени длинно, чувствительно чертыхаясь.
– О Дамская Сумочка, модель мироздания!.. – пропел Н. на неопределенный мотив. – Архетип ищем?
Косматая Ностальжи вынырнула из сумочки и уставилась на него недвижными яростными желтыми глазами Минервиной совы, от горя сошедшей с ума.
– Какой еще архетип?
– Ну-у… – осторожно сказал Н., на всякий случай передвигая задом табуретку к дальнему краю стола. – Какой у вас там, женщин, бывает архетип… Например, Маленькое Черное Платье. У каждой женщины в ее Дамской Сумочке должно быть ее Маленькое Черное Платье.
– Нет. Большой Серый Пиджак, – сдавленно выговорила Ностальжи.
– О! Мадам феминистка?.. – продолжал было Н., ловко увернувшись от Дамской Сумочки, пущенной ему в физиономию, по бессмертному булгаковскому примечанию, метко и бешено.
И страсть, как свидетель, поседела в углу.
Н. вытащил ящики письменного стола, вывалил все залежи на пол и, сидя среди вываленного на корточках, как ночной вран на нырищи и как птица, особящаяся на зде, перебирал бумаги.
– Слушай, ты не помнишь, кто это снимал? – он протянул Ностальжи серый, с одной стороны глянцевый в трещинах, прямоугольничек. На обороте имелся круглый след, видимо от чайной чашки, и химическим карандашом было написано: «Весеннее половодье на р. Лета».
Ностальжи долго смотрела, наконец сказала:
– Не помню…
– А в каком году хоть?
Но нет, ни Ностальжи, ни сервис гугла «Поиск по картинке», в который ввели сфотанный телефоном снимок, не помнили ничего.
Выйдя вынести мусор, Н. нашел возле баков выброшенный кем-то красный советский двенадцатитомник Дюма издательства «Художественная литература», и по этому поводу друзья справляли небольшую тризну, подымая нечокаемые тосты за времена, потом за нравы и прочее. После четвертого тоста Н. ударился в патетику на тему былой ценности подписных изданий и пересказал правдивую историю, как в оные времена такой вот двенадцатитомник обменяли на четыреста двенадцатый «Москвич».
– Ой, да ладно врать-то, – перебил его Костя Иночкин. – Сто раз рассказываешь одно и то же… Не был это четыреста двенадцатый «Москвич».
– А что это было, по-твоему?! – пошел пурпурными пятнами Н.
– Ушастый «Запорожец» был, – вылавливая в банке вилкой одиноко ускользающий микроскопический корнишон, авторитетно сказал Костя.
– И не обменивал его никто, – неожиданно вставила Ностальжи. – А ушастый этот «Запорожец» вы разбили в стройотряде. В райцентр ночью за водкой поехали. Придурки.
– Точно! – воздел вверх вилку Костя. – А «Запорожец» еще был из деревенских чей-то.
– Но позвольте!.. – опешил от такого поворота Н. – А при чем же здесь Дюма?!
Никто ему не отвечал, потому что Дюма действительно был ни при чем. Но это только с одной стороны.
Н. читал вслух:
«Весело катился Пушкин по дорожке из Одессы и пел песенку:
- Я от Вертера ушел,
- От Чайльд-Гарольда я ушел,
- От Мельмота ушел,
- От Гяура я ушел,
- От тебя, романтизм,
Всяко-разно уйду! И покатился Пушкин в Михайловское, прямо реализму в зубы…»
Собака Собака уснула на солнышке, плотоядно повизгивала, посучивала ногами во сне. Н. закрыл книгу, положил на лавочку, иэхх! потянулся с хрустом: весна, товарищи!.. С обложки книги на него строго и приязненно глядел пожилой ученый автор, в бровях и пышных вековечных усах.
Костя Иночкин перечитал стихотворение, потом еще раз перечитал, отложил листок, и Н. с деланой небрежностью спросил:
– Ну как?
– Хорошо, – сказал Костя, – мне нравится. Только вот давно хотел тебя спросить: чего это ты в последнее время стихи пишешь без знаков препинания? Фейсбучной моды, что ли, нахватался? А помнишь, как я всегда любил твою любовь к знакам препинания! Точка и тире; многоточия; сложная система скобок; и особенно эти твои точка с запятой…
– Ну да, любил… когда это было-то!.. При чем тут мода вообще! – уязвленно сказал Н. – Просто это новый взгляд, другая тональность, другое дыхание и все такое…
– А по-моему, ерунда. Знаешь, зачем в стихах знаки препинания? Чтоб они торчали как заусенцы, и тогда стих у Бога в ушах застревает. И Он его запоминает. А так – в одно ухо влетело, в другое вылетело.
– Ишь ты. У Бога в ушах. Тебе самому бы стихи писать…
– И зря иронизируешь, – неожиданно серьезно продолжал Костя, перегнувшись к другу через стол, положив ему руку на плечо и глядя в глаза. – Ты ведь для Бога пишешь?
– О!.. А чего это ты про Бога вдруг заговорил?
– Я-то? Да стареем, стареем понемногу!.. – криво усмехнулся Костя, откинулся обратно на спинку стула, замолчал, стал выковыривать из пачки сигарету.
«Действительно, кстати, стареем!..» – подумал Н. И еще подумал, ну и слава Богу, коли так. Значит, еще год-два, и былая любовь к точке с запятой вернется к нему снова.
– Зря вы тогда расстались, – сказала Ностальжи. – Такая любовь была!..
– Такая, да… – сказал Н. – Собственность – это тоже форма любви. Болючая, страстная. Знаешь, говорят, в аду, когда кто-то умирает, ему перед смертью зашивают рот. Чтоб не смог сказать: «Господи, помилуй!» и не исчез бы из ада. Хотят оставить его себе навсегда.
– Форма любви, – повторила Ностальжи. – Если так подумать, то все на свете – форма любви.
– Да, – сказал Н.
Дочку Ностальжи зовут Ляля, Ляле пять.
Стремительно, как несомая ветром Мэри Поппинс, летя на работу, Ностальжи попросила Н. посидеть с временно отлученной от садика Лялей – у Ляли какие-то гланды, а у Н. как раз отгул.
– Ну что, почитаем сказку? – бодро сказал Н.
– Не зна-аю… – уйдя в глубины кресла и подрыгивая босой ногой, Ляля искоса снизу сквозь челку внимательно глянула на Н. и опустила глаза.
– Ну-у… Ты что же, не любишь сказки? – озадаченно спросил Н.
– Не зна-аю… – Ляля изогнулась, вытащила из-под себя бархатного, которому Питер бока повытер, ослика с заштопанным пузом, помяла перекатывающиеся внутри ослика остатки гранул наполнителя, натянула ему уши под подбородок и сделала старушку.
– Но ведь сказки – это классно! – бодро сказал Н. – Там всегда все заканчивается хорошо! Да же?
– Да-а… – ковыряясь с осликом, протянула Ляля. – А мне грустно…
– Грустно? Отчего это?
– А что заканчивается хорошо… Что хорошо только в конце. И что как только хорошо, так всегда – конец.
На это Н. не нашелся что ответить.
Однако, что бы там ни глаголила истина устами данного младенца, день надо было как-то скоротать, и он таки откашлялся и раскрыл книжку.
Два поэта вошли в храм помолиться. Один был Н., а другой верлибрист.
Н., став впереди, молился так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие литераторы, грабители, обидчики традиции и разорители скреп, беспутные постмодернисты, или как этот верлибрист. Пощусь два раза в неделю, применяя теорию стихосложения».
Верлибрист же стоял вдали. Он не смел даже поднять глаз своих к небу, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!»
Один вышел более оправданным, другой – более-менее оправданным, один сунулся к другому сигаретой: «Огонька не найдется?», другой чиркнул зажигалкой.
И каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей.
Последние часы перед концом света Н. обычно проводил у Марфы, на даче в Семхозе.
– Прошу вас, варенье помешивать надо строго по часовой стрелке! – говорила ему Марфа, одновременно утверждая живенькому мясу, норовившему вылезти наружу из мясорубки, вилку в темя, чтоб оставалось в сущем сане, а другой рукой в прихватке отворяя заслонку духовки – взглянуть на пирог.
Н. послушно переиначивал свои внутренние беспокойные эсхатологические ритмы на часовую стрелку и мерно вращал деревянную мутовку в недрах медного таза, стараясь захватывать булькающие и томящиеся в сиропе райские яблочки не только по краям, но и в глубине.
Потом, как всегда, грохотало и бухало, воздух студенел и ядовито наливался ало-зеленым, и Н. всем существом ощущал радиоактивную взрывную волну, впрочем, как всегда, обходившую стороной Семхоз, отчего Н. натужно усмехивался сам себе и пытался шутить, рифмуя «Семхоз» и «невроз».
Марфа взглядывала на кухонные часы.
– О, управимся ли к обеду!..
Н. в этом месте смотрел на нее просительно и смиренно, стараясь лицом походить на старого лабрадора.
– Ладно-ладно, знаю я вас, уж никакого терпежу!.. Только одну, слышите, молодой человек? ОДНУ рюмочку!.. Как говаривала моя бабушка, кто не ждет гостей – не дождется в Царстве Божьем добрых вестей!
Н. благодарно принимал из ее рук рюмочку смородинной настойки и, парно вздохнув, как молочное дитятя, и опустив лицо в рюмочку, глотками выпивал.
– Ну и слава Богу! Молодой человек, вилки, вы разложили вилки?
– Ой!.. – обычно говаривал Н. и, ухватив жменю мокрых сияющих мельхиоровых вилок, принимался проворно их протирать реденьким старым свежевыстиранным льняным полотенчиком и раскладывать аккуратно окрест тарелок, от возраста инде щербатых, но сияющих паче солнца.
Тут, как обычно, хлопала дверь дощатого домика, и на веранду входили Христос и Мария, возбужденные, блистатоочитые, местами обгоревшие, обсыпанные радиоактивным пеплом, горячо описывающие друг другу детали только что совместно пережитого события.
Марфа снова взглядывала на часы, морщилась:
– Опять?!.. Ну что ж это такое!..
– Прости, Марфа!.. – торопился объяснить Христос, а благородная Мария, не желавшая, чтоб ее выгораживали, останавливала его значительными взглядами и жестами и торопилась объяснить сама:
– Это вы меня простите!.. Я там, пока шла, благую часть избрала, а как грохнуло – ну и выронила и потеряла, а потом пока нашла, да пока подобрала…
Тут Христос и Мария, продолжая возбужденно обсуждать яркие моменты своего приключения, лезли было, отодвинув стулья, за стол, но Марфа была начеку:
– Так, стоп! Господи, это что такое! Мыться, немедленно мыться!
Осекшись на полуслове, Христос и Мария замолкали, потом смиренно молча шмыгали в дверь, гремели рукомойником.
Вот и сейчас – Марфа, скрежетнув дверцей духовки, вздохнула:
– Ну вот, все и готово… Молодой человек, выгляните в окно – идут?
Н. выглянул.
По Сергиевой тропе, от железнодорожной станции Семхоз по лесенке вверх, потом – мимо храма, меж дубов, ныряя в тень и снова появляясь, шел отец Александр в сияющей шляпе и белоснежном летнем альто, помахивая портфелем.
– Идут!..
– Слава Богу!.. Много с ним?
– Сейчас… Пять… Восемнадцать… Сто сорок два… Ой, вы знаете, думаю, что порядочно… я сбился.
– Ну вот, ну вот!.. Я так и знала, что будут нужны еще рюмки!.. Голубчик, прошу вас, помогайте, доставайте вон там, в буфете!..
И Марфа, по выражению Ностальжи, которое тут же вспомнил Н., вертя дыру на месте, взмахнула передником, как крылом.
Н. приснилась Ностальжи. Она как будто бы жила на книжной полке, в книге «Домострой», и когда Н. постучал в обложку, выглянула оттуда на минуту, вся нечесаная и отекшая, с огромным животом, и глухо сказала: «Муж наложил на меня бремена неудобоносимые, а сам и пальцем не дотрагивается, чтоб их понести», и опять скрылась.
Н. как будто бы хотел что-то ей на это сказать сочувственное, но обнаружил, что и сам живет на книжной полке, и все его друзья – на ней же: собака Собака – в «Муму», батюшка – в «Лествице», Костя Иночкин – в сорокинской «Норме», а сам Н. – в Туве Янссон.
Долго извиваясь и крича немым нутряным мыком, Н. наконец рванулся, совместился сам с собой и проснулся, весь мокрый.
«Хорошо еще, что это была „Шляпа волшебника“… жить можно, ничего… Или все-таки – „В конце ноября“? Тогда швах, плохо мое дело…» – до утра, не спя, думал Н.
На ночь Н. читал «Лествицу».
Во сне ему привиделась эта лестница, похожая на боттичеллиеву воронку, отверзтую внутрь человеческого естества, а сам Иоанн, игумен горы Синайской, был Вергилием: по главам-ступеням страстей – вниз, по главам-ступеням добродетелей – вверх. «Зачем ты написал эту книгу таким архаическим языком? Я не монах, и мне страшно ее читать!» – спрашивал у Иоанна Н., а тот, весь коричневый, ссохшийся, но изнутри, под глянцевой корочкой аскезы, медовый и лучащийся, как финик, вздыхал и говорил: «Да ничего я не писал. Я только включаю свет здесь, на лестнице, – а видишь самого себя в этом свете ты сам. И решаешь, оставаться тебе или выползать, тоже ты…» – и плоской иконописной дланью указывал на большой, в пятнах ржавчины, железный рубильник.
Н. вспомнил картинку в посте из фейсбука: под водой два аквалангиста сидят в защитной клетке, а снаружи плавает акула и говорит: «Выходите из зоны комфорта, измените вашу жизнь!», и комментарии типа «ага, щас». Повернувшись на бок, Н. уснул снова. На этот раз приснилась ему темная толща воды, и клетка комфорта, и собственная асфиксия, и страх, и эта самая акула; потом, пристально вглядевшись, Н. понял, что это не акула, а совсем другая рыба, или даже – Рыба, примерно та самая, из которой когда-то Иона вышел совсем другим человеком, а именно – самим собой.
Н. зашел на кухню, наполненную паром, чадом, запахами свежеиспеченных куличей, свежекрашеных яиц и булькающего на плите студня, и заглянул в холодильник. Подсвеченная пустота гудела ровно.
– Велик день тоя субботы, – сказал Н. и закрыл холодильник.
Ностальжи, шинкующая лук, знала, что изъясняться церковнославянскими цитатами Н. начинает в минуты особой туги и предельного над собою смирения, и промолчала.
– В день тоя субботы еды-то вокруг много, а пожрать нечего, – по-русски уточнил Н., обращаясь как бы к мирозданию. Просунувшая часть рыла в ту же кухонную дверь собака Собака – услышав голос Н., она воспряла: «Наши в городе!» и в четвертый раз попыталась проникнуть в запретное пространство кухни – как бы негласно соглашалась с ним; черный ее соплеватый нос в розовых плешинах подрагивал от голода и удалой трусливой отваги.
– Кто не дает-то. Открой зеленый горошек, – ровным голосом, щелкая ножом по доске, сказала Ностальжи.
– Горошек!.. Очи мои изнемогосте от поста, – отвечал Н. и дрогнувшим голосом пояснил: – Видеть ваш силос уже не могу.
– Это колени изнемогосте от поста, – все так же ровно отвечала Ностальжи, и ровность эта приобрела уже нехороший оттенок. – А очи – они изнемогосте от нищеты. Образованец.
И глаза ее наконец стали медленно подыматься от ножа и доски; приготовленная Н. цитата про Марфу-Марфу и куличи мнози замерла в горле его; едва успел он ногой выпихнуть из кухни собаку Собаку и вместе с ней исчезнуть, пока эти глаза не поднялись окончательно.
Открыв фейсбук, Н. прочел:
«Вы теперь можете отмечать людей в своих статусах и публикациях. Введите @, потом имя друга. Например: „Я и @Иван Иванов вместе обедали“».
– Я и собака Иван Иванов. Обедали. Вот так-то, – сказал Н.
Собака Собака, которая привыкла откликаться на, в общем-то, любое имя, всем видом выразила постоянное и неизбывное согласие обедать вместе и немедленно.
Про бывшего Ностальжи мало кто что знал. Даже Н. Ну, на то и бывший, был и был. Знали только (по ее же немногословным рассказам), что он был очень страстный.
– Ага. Страстный. Со многими страстями. Любоначалие, чревоугодие, гортанобесие там, мшелоимство… – добавлял при этом Костя Иночкин.
Н. излагал батюшке содержание прочитанного апокрифа:
– Ну и дальше там написано, что Мария была из священнаго рода Моисея, а Марфа – из священнаго рода Аарона; и потому род Марфин печется о мнозе, а род Мариин благую часть избра; и так эти роды – и по сей день… Как вам такое?
Батюшка аккуратно поставил чашку ровно в середину блюдца:
– Как есть, так и есть: одни попы все требничают, а другие – все небничают, и друг друга с трудом переносят.
– И что?..
– Да как что: несмы якоже прочии человецы.
И батюшка, сцепив на пузике персты, откинулся на спинку стула, склонил голову к плечу и ласково и пристально, как добрая неясыть, поглядел на Н.
Накануне просмотра последней серии «Игры престолов» Н. не удержался – залез в один фанатский чат и даже поставил там кому-то лайк.
Немедленно зазвонил телефон.
– Я существую! – на том конце сказал Костя Иночкин пароль.
– Воистину существую! – севшим голосом бодро отозвался Н.
– Не смотришь? – спросил Иночкин.
– Нет! – соврал Н.
– И я нет! – в ответ соврал Иночкин, который только что побывал в том же чате и, вне сомнения, видел Н-ский лайк.
Они помолчали.
– Ну… спокойной ночи!
– И тебе!
Перед сном Н. вспоминал один особо его задевший гомилетический комментарий из чата, о том, что «Игра престолов» – измышление антихристово и нет в ней покаяния. Уснул он только под утро и во сне видел огненные слова: «Я ТЕЧЬ ВО МНЕ, Я ПОЗОРНЫЙ НА СПИНЕ», пылавшие на внутренней стороне смеженных век до самого утра.
Ностальжи знала по опыту: когда в дверь звонят в полвторого ночи – лучше открыть.
На пороге стояли двое. Точнее, один: Н. стоял, а Костя Иночкин висел у него на плече – глаза заплыли синяками, на скуле засохла кровь, рукав куртки полуоторван…
– И где вы были? – спросила Ностальжи, обрабатывая Костины раны перекисью водорода из бутылочки.
– Да, понимаешь, я сам в шоке… Ничего такого, понимаешь, зашли тут в паб пива выпить…
– В какой паб?
– Да тут у вас на углу… Ну, недавно открылся…
– В «Дракарис»?!
– Да, вроде так называется…
– Вы с дуба упали?! Там же фанаты «Игры престолов» тусуются!
– А что такого-то? Мы тихо зашли, спросили чего подешевле… Козела пару старопоповицкого… Вокруг – нормальные вроде люди, никаких там нефоров, женщины в основном, библиотекарского вида, бальзаковского возраста…
– И что вы сделали?
– Да ничего мы не сделали! Сидели, пиво пили… За соседним столиком две дамочки разговаривали… про драконов… Обсуждали, как у разных видов устроены огненные железы и за сколько времени можно сжечь Дубровник скандинавским драконом, а за сколько – китайским…
– И?..
– И Костя просто решил сказать доброе слово… Поднялся, улыбается этак светло, и говорит: милые дамы, ну не будем же ссориться, ведь ваш сериал, в конце концов, – это же просто сказка, вымысел! И тут началось, ты себе не представляешь…
– Я не представляю? Я как раз представляю. Идиоты… Купили бы пива и пили дома, так нет же!.. Давай его на тахту в комнату. Да осторожно, не бревно тащишь! Вот так… клади.
Н. присел на край тахты:
– Нет, я все понимаю… Но откуда такая жестокость?
– Жестокость!.. Скажи, он как это говорил? Ну, про сказку?
– Да как. Нормально говорил. Без наезда, не нагло, он и не пьяный был совсем. Мирно говорил… тихо, кротко.
– Вот именно! Тихо, кротко – значит, на правду претендовал! Лучше бы он их матом обложил, им бы не так невыносимо было!..
И, махнув рукою, второю Ностальжи подхватила, выходя из комнаты, тазик с водой и размокшими клоками ваты.
Когда в городе снесли очередной памятник вождю, от него долгое время оставалась куча щебня, посреди щебня торчал великански небольшой обломок гранитной ноги. Молодежь любила фотаться с этой ногой и выкладывать фотки в соцсети.
Шестого июня Н. тоже пришел к куче, имея в руках портрет Пушкина. Чтоб почтить память поэта, он влез на гранитную ногу с портретом в обнимку, балансировал там и кричал: «Болярину Александру – многая небесная лета!», а Костя Иночкин щелкал телефоном. Потом снимок появился в инстаграме с подписью: «Н. был с Пушкиным на короткой ноге».
– Что у тебя завтра? – спросил Костя Иночкин.
– Андерсеновские чтения, – ответил Н.
– Ага, помню, ты говорил. Написал сказку-то?
– Написал. – Н. откинулся на спинку стула, снял очки и потер глаза.
– И про что она?
– Про то, как в ночь накануне выборов в кабинетике секретаря уездного горкома КПРФ оживают вещи. И как между собой разговаривают, например, пресс-папье, иконка святителя Николая Чудотворца и гипсовый бюстик Ленина.
– И о чем разговаривают?
– Да какая разница, о чем… Разница – как.
Н. помогал Ностальжи с ужином – резал лук и напевал:
- Ой, цветет калина
- в поле у ручья,
- селективный ингибитор обратного захвата
- серотонина
- полюбила я…
Внезапно он отложил нож и, утирая слезы, спросил:
– Кстати, вот интересно: обратный захват серотонина – это как?
– Вот так, – ответила Ностальжи, взяла апельсин, крикнула: «Але оп!», подбросила его правой рукой, левую ловко вывернула и завела себе за спину, не моргнув глазом поймала этой левой апельсин, стремительно вывернула левую руку снова наружу и, по-цирковому улыбаясь, подала апельсин Н.
Н. говорил собравшимся, пронзительно и профетивно-кокетливо не глядя ни на кого, примерно как Достоевский в исполнении актера Миронова:
– Ваша актуальная поэзия кончится первой. Главная черта актуального поэта – обычная фисиологическая обезьянья цепкость на детали, на всю эту «памяти памяти», детали, они и поражают читателя в самое сердце, и он обильно ставит лайки, рукоплещет, мреет и цепенеет в пароксизмах. Актуальных поэтов вычленят (в это время Н. прихлебывал чай, одновременно раскуривая новую папиросу, и это «-чле-» прослюнчало сквозь его зубы особенно как-то смешно, дико и обезоруживающе) первыми и поставят в первом ряду на колени у расстрельной ямы истории.
Ностальжи поглядела на собравшихся за столом, подавшихся как бы вперед, под выцветший абажур низко нависшей над столом лампы, выхватившей напряженные лбы, одышлую пепельницу-ощетинницу, чайник, коричневатые отчашечные следы на скатерти, и сказала, тоже как бы на публику:
– Ну а вы что, метафизики, идеалисты, которые всякую там Добродетель с большой буквы писали? Вас в каком ряду поставят?
Н. замолчал и посмотрел прямо на Ностальжи, уже как Достоевский не в исполнении Миронова, а глубже и землянее, как в исполнении Солоницына:
– Нас?.. Нас не поставят… мы там уже… мы все – там.
И лампа затрещала и мигнула; но никто за столом не пошевелился, думая о своем.
- – И он к устам моим приник,
- И вырвал грешный мой язык,
- И празднословный и лукавый!..
Н. закрыл книгу.
– Да-а… – протянул батюшка.
– Да, – подтвердил Н. – Ему проще – ему ангел вырвал… А нам, непророкам, – самим приходится управляться, с празднословным-то нашим и лукавым.
Батюшка вздохнул:
– Это да…. Ну, значит, и подвиг каждого из нас потяжелее и повыше будет, чем пророчий.
– Угу… – Н. помолчал и осторожно спросил: – А вот это вот, чей подвиг-то выше, кто должен измерить и определить? А?..
Батюшка молниевидно переменился в лице.
– А чего на меня-то смотришь?! Я-то при чем!.. Я такой же человек, как и…
– Да я знаю, знаю… – вздохнул Н. – Но и все же… Нет, значит, специального определяющего?..
– Нет-нет! – отмахнулся батюшка, суетясь вокруг ботинка и с кряхтением ища ложечку.
– А вообще-то, жалко… Насколько бы проще было, правда?
– Правда… Не все то правда, что правда, – глухо сказал батюшка, завязывая шнурки.
Н. сидел у дома на лавочке. Смеркалось; микрорайонный дождь моросил, переставал, начинался снова. Два из шести фонарей лили во двор жидкое свечение.
Молодые люди на соседней лавочке беседовали:
– Смори, Волоха! Дедухан с шестого подъезда какой молодец. Опять на турник пошел.
– Физкультурник, чо. Ветеран. Треники зачотные у него.
– Бэтмен.
– Спи спокойно, родимый Готэм. Ах-ха-ха-ха-ха.
– О, смори, смори!.. висит.