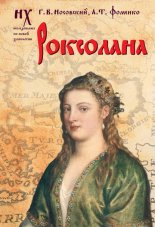Самая хитрая рыба Михалкова Елена

– Она предлагала возить корм и лекарства в собачий приют! – взвыл Бабкин. – А ты на неделю сослал меня черт знает куда! Оторвал от семьи, от ребенка…
– Твоему ребенку восемнадцать лет, – хладнокровно заметил Илюшин. – И это не твой ребенок. Или ты усыновил Костю?
– С чего бы мне его усыновлять? У него родной отец есть, который о нем заботится. Вон, в Берлин его повез, на концерт «Рамштайн».
– Умеет Маша выбирать мужей, – одобрительно сказал Макар.
Бабкин задумался, считать ли это комплиментом, но спохватился.
– Зубы заговариваем? Благотворительствуем за чужой счет? Вот сам бы и ехал сюда, спал в яме, укрывался лапником.
– Командировочные расходы будут полностью оплачены из частных взносов пожертвователей, – успокоил Илюшин.
– Каких еще пожертвователей?
– Меня. Разве мог бы я отправить тебя вкалывать бесплатно?
– От тебя всего можно ожидать, – проворчал Бабкин, успокаиваясь. – Так я могу сворачиваться? Бережкова славная старушенция, но дело ясное: на почве конфликта с новым соседом она выдумала его покушение на супругу. Мансуров действительно не самый приятный человек. А для нее так и вовсе невыносимый.
– А жена? – спросил Илюшин.
– Тихая, милая. Но она сирота, наследства нет и не будет, и за эти дни она выезжала с территории поселка лишь затем, чтобы отвезти ребенка на кружок пения. Если ты предполагаешь мотив мести за измену, нужно устанавливать основательную слежку. Минимум на месяц.
Макар молчал так долго, что Сергей подул в трубку и сказал:
– Раз-раз, проверка связи.
– Дежурь еще неделю, – прорезался Илюшин. – Можешь заглянуть к Бережковой, чтобы не скучать.
Бабкин заскрипел зубами, но Макар уже отключился.
5
Разговор с клиенткой оказался напрасным. И нового не выяснил, и старуху восстановил против себя.
– Вы мне не верите? – сверкала голубыми глазами за стеклами очков Анна Сергеевна. – Удивительное предубеждение для человека вашего возраста! Признайтесь, вы на стороне Мансурова лишь потому, что он молод.
– Я не на его стороне…
– Нет уж, позвольте угадать! Я обвинила соседа в убийстве, поскольку он мешал мне ходить привычной тропой, не так ли?
Сергей маялся и не знал, куда деться.
– Ждите здесь! Я вам кое-что покажу.
Хозяйка ушла, шаркая тапочками. Чтобы занять себя, Бабкин стал рассматривать статуэтки на каминной полке. Его внимание привлек забавный сидящий человечек с ухмылкой на бородатом лице. Сергей сжал его в ладони, и тут за спиной позвали:
– Глядите же!
Он вздрогнул, словно его застали за чем-то неприличным, и бородач сам собой скользнул в карман.
– Вот, полюбуйтесь! – Бережкова держала раскрытый справочник грибов. – Здесь на одной странице опята и бледные поганки, именно для сравнения, это очень удобно. Как по-вашему, можно их спутать, если вы не новичок?
– Анна Сергеевна, я ведь не об этом!
– Тогда мне неясна цель вашего визита. Да, я не стала упоминать о наших отношениях с Мансуровым, чтобы вы не заподозрили меня в предвзятости. Это было правильное решение! Теперь вы приписываете мне бог знает какие мотивы…
– Анна Сергеевна!..
– …и не отдаете себе отчета в том, насколько это оскорбительно!
– Анна Сергеевна, послушайте!..
– Ян Валерьевич описал вас как людей чрезвычайно умных, незашоренных, способных на оригинальные решения… Не сочтите за грубость, но разве соответствует ваш подход к делу этой характеристике?
– Дело не в том, чему я соответствую, – сказал Бабкин, потеряв терпение, – а в том, что ваш сосед за неделю с лишним не дал ни одного повода подозревать его в чем-то, кроме ухода от налогов. Он даже не изменяет жене. Простите, мне пора.
– Значит, расписываетесь в собственном бессилии? – вслед ему крикнула старуха.
Сергей аккуратно прикрыл за собой дверь. Провел ладонью по перилам и коротко зашипел, уколовшись о розовый побег. Тьфу, черт! Все здесь против него. Ногу бы не сломать на провалившейся ступеньке. Вся эта хоромина на ладан дышит.
О человечке в кармане он позабыл.
6
Семь дней.
Протянуть семь дней.
Бабкину было не привыкать к однообразной работе, но впервые за много лет он был вынужден заниматься делом даже более бессмысленным, чем слежка за спящим котом. На кота хотя бы приятно смотреть. Рядом с котом не глотаешь дважды в день дорожную пыль. Не нужно уминать себя в тесную коробчонку машины. Диван, на котором спал Сергей, с каждой ночью проваливался все глубже, приобретая сходство с панцирными кроватями из его пионерского детства, и сны на нем снились Бабкину скверные, заполненные чьими-то горластыми детьми и злыми собаками.
К его облегчению, последние три дня из семи, назначенных Илюшиным, Мансуров провел в поселке. Сергей совершенно расслабился. Мансуров устроил песочницу для дочери, привез из леса какую-то зеленую колючку и вкопал перед домом. Трижды ходил в магазин, возвращался с желтыми шарами дынь-«колхозниц». По утрам бегал вдоль реки в наушниках. Вечерами сидел в саду, потягивая пиво.
Пару раз он прошел близко от машины, из которой Бабкин вел наблюдение, но подержанный «Хендай» его не заинтересовал: Мансуров скользнул по водителю безразличным взглядом и отвернулся.
7
– Как все прошло? – спросила Маша, когда Сергей вернулся домой.
– Ванну мне! – простонал Бабкин. – Чашечку кофе! Какаву с чаем!
Жена, смеясь, поцеловала его.
– Измучился?
– Будь проклята жизнь на лоне природы и Илюшин вместе с ней. – Он заперся в ванной и через дверь крикнул: – Если когда-нибудь Макар начнет втирать тебе про благотворительность, убей его скалкой.
Несколько дней спустя, разбирая вещи, Сергей наткнулся на фигурку в кармане джинсовой куртки. Несколько секунд он непонимающе глядел на нее, а затем вполголоса выругался.
Старуха и так о них дурного мнения. А теперь он еще и вор.
– Что-то не так? – спросила Маша, взглянув на его лицо.
– Придется ехать в Арефьево.
Бабкин отыскал номер Бережковой и позвонил, настроившись на тяжелый разговор.
Телефон старухи не отвечал.
«Абонент временно недоступен», – услышал он два часа спустя. И вечером. И на следующее утро. Человечек с бородой насмешливо и многозначительно смотрел на Бабкина большими темными глазами.
8
– Макар, мне нужен номер того преподавателя, который сосватал тебя Бережковой.
– Зачем? – удивился Илюшин.
Выслушав объяснение, он вздохнул и достал телефон.
– Ян Валерьевич, здравствуйте! Это Макар Илюшин, частный детектив. Да… да. Ян Валерьевич, вот какое дело: никак не получается дозвониться до Анны Сергеевны. Не могли бы вы… Что?
Бабкин вздрогнул и поднял на него глаза.
– Примите мои соболезнования, – медленно сказал Илюшин. – Но при каких обстоятельствах?.. Понимаю. Да. Простите.
Он положил телефон на стол.
– Что у них произошло? – резко спросил Бабкин. – Макар!
– Три дня назад в поселке случился пожар, – ровным голосом сказал Илюшин. – Дом Бережковой сгорел дотла.
– Где она сама? В больнице?
Илюшин молча покачал головой.
– Господи… – выдохнул Бабкин.
Он посмотрел на фигурку бородача, которую держал в ладони. Маленький человечек безжалостно улыбался.
Глава 3
Анна Сергеевна Бережкова
1
С первого взгляда эти двое не показались мне людьми, заслуживающими доверия. С первого, я подчеркиваю, взгляда!
Разве можно было присылать на такое деликатное дело этого, простите, дуболома. Что он может понимать в психологии убийцы!
Но как выяснилось, я тоже мало что в ней понимала.
Вечером следующего дня ко мне зашел Мансуров. Я открыла дверь, не подозревая плохого, скорее взвинченная, чем расстроенная. Тогда мне казалось, что неудавшееся расследование – всего лишь первый блин, который вечно получается комом, и мне нужно только найти правильных людей, чтобы вывести Мансурова на чистую воду. И еще, если говорить начистоту, я чувствовала себя очень умной и хитрой. Как охотник, поставивший капкан на крупного хищника.
Мансуров прошел в комнату и без разрешения снял с полки старинную керосиновую лампу, доставшуюся мне от дедушки. Я не пользуюсь ею, хотя она в рабочем состоянии. Мне нравится изящная стеклянная колба, напоминающая бутон, и латунный корпус.
Мой гость щелкнул по чаше.
– Сейчас же поставьте на место! Вы ее разобьете!
Он прислонился к дверному косяку и, глядя на меня сверху вниз без улыбки, процитировал Хармса:
– Долго учат лошадей делать в цирке чудеса. Мы же наших лошадей обучаем в полчаса. – И без перехода добавил: – Что-то мне подсказывает, что вы, Анна Сергеевна, абсолютно необучаемая коняга.
– В чем дело? Что такое?
– Начали с кляуз, закончили слежкой. Ни стыда, ни совести.
Он вытащил из нагрудного кармана сложенный вчетверо лист, развернул и протянул мне. Я уставилась на две знакомых физиономии, не в силах выговорить ни слова.
– И нет бы профессионалов нашли! – Мансуров брезгливо подергивал передо мною мятым листом с фотографиями, распечатанными из интернета. – Но ведь сыщик ваш – полное говно.
Возражать было глупо.
– Зачем вам частные детективы, Анна Сергеевна? Что такого вы хотите обо мне узнать, чего бы я сам вам не рассказал?
– Я хочу узнать, зачем вам убивать собственную жену.
Слова сорвались с моих губ раньше, чем я успела подумать.
Мансуров замер.
Дом, мой дом, который никогда не был мне другом, моя крепость на вырост, королевство во главе с самозванкой, вздрогнул и пришел в движение. Заскрипели массивные шкафы, выстраиваясь в оборонительный рубеж, взмыла с пола стая паркетных дощечек, и сквозняки, сухие звонкие сквозняки закрутили их в воздухе, создавая вокруг меня хрупкий кокон. Тяжелая бабушкина люстра предупреждающе запела в высоте. Он оказался умнее меня, мой старый дом, который я ненавидела столько лет.