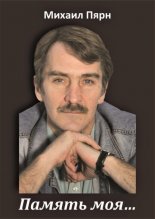Поселок на реке Оредеж Григорян Анаит

– Ну-ка… Сережа мой в отъезде, поехал утром в Куровицы, только завтра вернется.
Пока закипала первая порция воды в чайнике, Татьяна принесла несколько больших махровых полотенец, две пары шерстяных носков и пару рубашек, потом заставила Комаровых раздеться и вымыла обеих в тазу, поливая сверху разбавленной, но все равно слишком горячей водой. Ленка ойкала, когда вода попадала ей на рану, и дергала головой, но Татьяна все равно тщательно все промыла и намазала какой-то мазью с горьким травяным запахом. Потом она укутала сестер в полотенца и напоила чаем, дав к чаю пирога с капустой и яйцом и булки с малиновым вареньем. Сама села напротив, подперев подбородок ладонью. Жалко, что Сережи нет, он бы с ними поговорил, он всегда найдет слово утешения, не зря при нем чуть не половина поселка стала ходить в церковь. Татьяна вздохнула. В лесу плаксиво закричала выпь. Ленка вытянула худую шею и прислушалась:
– Это она к несчастью кричит…
Татьяна широко перекрестилась:
– Что ты, Лена, бог с тобой! К какому еще несчастью?
И скатерть, и занавески на окнах тоже были чистые, без единого пятнышка, как будто их только что выстирали, и за ними просвечивало несколько кустиков красной герани в керамических горшках. Комарова поглядела на Татьяну. Татьяна тоже была чистая. Как говорил батя, «плюнуть и отвернуться».
– Теть Тань… а далеко эти Куровицы?
Татьяна пожала плечами:
– Да не близко…
– Небось и электричка туда не ходит.
– Так слово Божие везде нужно, вот он и ездит… и без электрички, так… бывает, кому по пути, тот подвезет…
Она снова вздохнула и задумалась. Сергий в свободное время обыкновенно либо читал Священное Писание, либо рисовал, а она пристраивалась рядом с вышивкой. С ней он разговаривал немного, только и разговору, что перекрестит трижды на ночь и пожелает крепкого сна. Ленка запихала в рот последний кусок булки с вареньем, облизала пальцы. Старшая Комарова молчала и глядела в окно, как будто хотела рассмотреть что-то в темноте. Вот же – дал Бог людям детей, а на что им? Татьяна потеребила пальцами угол скатерти. Дал же Бог людям детей…
– Теть Тань… – Ленка поерзала на стуле.
– Что такое, Лена?
– А вы в городе когда-нибудь бывали?
Комарова вздрогнула, коротко глянула на Ленку, потом снова отвернулась.
– Никогда не бывала, – почему-то смутившись, ответила Татьяна. – Я дальше Сусанина нигде не бывала… А в Сусанине красиво, и церковь там старенькая, с иконами мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии, и киот мраморный…
– Угу, понятно, – кивнула Ленка, и видно было, что ей неинтересно. Комаровой захотелось еще раз дать ей по уху.
Татьяна уложила их спать на печной лежанке: дом у Сергия был новый, но в нем стояла громадная, сложенная по всем правилам русская печь. На досуге Сергий расписал и ее, и по всему опечью, трубе и своду тянулся узор: чудные звери и птицы сидели на переплетенных ветках и листьях, ухватившись за них цепкими лапами. На стене Сергий изобразил рыжего кота с круглыми зелеными глазами и свернутым в кольцо хвостом. В комнате было жарко, и печь была теплой: Татьяна топила ее ранним утром, решив, что уже пора. По правде, она всегда ждала холодов, чтобы можно было топить печь хоть каждый день и в ней же готовить: на газовой плите у нее выходило плохо, все никак не получалось приноровиться. Комарова вытянулась под тонким шерстяным одеялом. В доме стояла тишина, только Татьяна пару раз громыхнула в кухне тазами: она не любила оставлять дом на ночь неприбранным. Ленка лежала у стены на животе, уткнувшись лицом в подушку, и тихо посапывала. Спустя некоторое время Комарова услышала, как что-то тяжело вспрыгнуло на лежанку. Обнаружив на лежанке сестер, Татьянина кошка осторожно прошла по ее краю, понюхала Комаровой лицо, щекочась усами и влажным носом, пару раз ткнулась в щеку, и Комарова, выпростав руку из-под одеяла, погладила ее по выпуклому пушистому боку.
– Хорошая киса, хорошая, – зашептала Комарова, чувствуя, как к горлу подкатывается ком и хочется разреветься – громко, навзрыд, как Ленка. – Хорошая, хорошая киса, добренькая.
Кошка повертелась еще немного, еще потыкалась ей в лицо и шею, потом неуклюже через нее перепрыгнула и ушла спать в ноги. Комарова подвинулась, устраиваясь поудобнее, закрыла глаза, и день вдруг показался ей очень длинным и очень далеким, как будто все произошло не с ними, а с кем-то другим.
Проснулась она ни свет ни заря – Ленка еще спала, с головой накрывшись одеялом. Комарова спустила ноги с лежанки, повисла на руках и спрыгнула на пол; босые пятки тихо стукнули о доски, и Ленка что-то застонала сквозь сон. Она на цыпочках пробралась в кухню, съела всухомятку кусок вчерашнего пирога и наскоро умылась – вода в умывальнике за ночь совсем остыла. Платья их висели на спинке стула: Татьяна застирала им подолы и зашила прорехи. Комарова быстро оделась, сунула ноги в туфли. Татьяна, наверное, еще спит, не разбудить бы. Сергий ее в Куровицах. Комарова зажала рот ладонью, чтобы не рассмеяться, сама не зная чему. Куровицы – слово смешное, что ли… Небо за окном было чистое, как будто его протерли влажной тряпкой, и розовело на горизонте. Она тихо прокралась по дому, вышла во двор, прошла мимо будки; громадная лохматая собака лежала, высунувшись на улицу и положив голову на лапы; почуяв Комарову, она приоткрыла глаза и тотчас снова закрыла. В поселке всех собак звали либо Шариками, либо Дружками, только у Комаровых был Лорд – это мать так придумала.
– Шарик… – шепотом позвала Комарова.
Пес не отозвался.
– Дружо-ок…
Пес вздохнул, снова приоткрыл глаза и приподнял голову.
– Дружо-ок, хоро-ошая собака…
Поселок просыпался поздно; с рассветом вставали только те, кто держал корову или другую скотину, но таких оставалось все меньше: большинство работали, а летом сдавали дачи и потом полученные за три месяца деньги и заготовки с огорода умудрялись растягивать на весь оставшийся год. Комаровы тоже несколько лет подряд сдавали дачникам второй этаж, пока не вышло скандала: батя напился и пристал к дачнице, студентке из города, и парень этой студентки набил бате морду и спустил его с лестницы. На следующий же день они съехали, а когда мать заводила разговоры о том, что надо бы сдать несколько комнат, батя начинал орать, что больше не потерпит в доме никаких городских, что грязи от них много, а пользы – с гулькин нос.
За домами застучала по рельсам электричка, и Комарова прибавила шагу. Может быть, и права Ленка, что так хочет уехать в город. Если ее причесать, она и на человека будет похожа, никто не скажет, что приехала из поселка. Комарова провела пятерней по голове, поморщилась, случайно выдернув несколько волосинок. Бабка говорила: «Раскрасавицы мои, вот вырастете – все женихи будут ваши». Ленка, тогда еще совсем мелкая, радовалась, а Комарова на «раскрасавицу» злилась и как-то раз отказалась есть сваренную бабкой манную кашу, и бабка, подвинув к ней тарелку, сказала: «Ну ешь, ешь, кикимора моя». Ленка тогда сильно смеялась на «кикимору» и чуть не подавилась. Комарова пнула подвернувшийся под ногу камешек, и он запрыгал по дороге, как живой. Вот распустит она волосы, спутает их колтунами, наденет платье шиворот-навыворот, пойдет на болото к кикиморам и скажет: «Это я, Комарова Екатерина Михайловна, больше никакая не раба Божия Екатерина, а просто Комарица, примите меня к себе» – и останется навсегда жить в лесу…
На станцию Комарова пришла, когда уже совсем рассвело. В поселке соединялось несколько пассажирских и грузовых направлений – можно было подняться на высокий пешеходный мост и увидеть сверху тянущиеся в обе стороны рельсы. Комаровы пытались пересчитать пути и несколько раз сбивались со счета, пока им это не надоело. Путей было много, они то сливались, то снова расходились. На путях отдельно друг от друга стояли электрички и товарняки. Комарова поднялась на платформу: несколько человек рассеянно бродили по ней, другие сидели на деревянных скамейках или прямо на платформе, подстелив что-нибудь из верхней одежды. На самом краю лежала, подобрав под себя лапы, пушистая серая кошка. Комарова присела рядом на корточки.
– Чего, Люська, поезда ждешь?
Кошка не пошевелилась: она была глухая и жила на станции, сколько Комарова себя помнила. Комарова погладила ее и пожалела, что ничего не взяла с собой ее угостить.
– Лежи, Люська, лежи.
Кошка мрлыкнула, дернула ухом, и Комарова еще несколько раз провела пальцами по ее серой, как будто выцветшей от солнца спине.
– Совсем ты старая стала, Люська…
Ее окликнул по имени знакомый голос, и она обернулась: по платформе, широко размахивая руками, шел Максим. Комарова встала, отряхнула подол и помахала в ответ. Максим подошел и пожал ей руку, как парню:
– Ну что, Катя… на поезд пришла посмотреть?
– Не ушел еще?
– Да куда он денется… – Максим поскреб пятерней затылок. – Они тут подолгу стоят, на сортировке. Пока то, пока это…
– Понятно…
Максим похлопал себя по карманам, досадливо поморщился:
– Папирос нет. Вчера все мужикам роздал.
Комарова вытащила из кармана беломорину, взятую с вечера у Олеси Иванны. Хорошо, Татьяна не нашла – было бы разговоров.
– Угощаю.
– Вот спасибо.
Максим взял папиросу, помял пальцами патрон, зажал между зубами, щелкнул зажигалкой и с удовольствием затянулся:
– Утро мне спасла, Катя…
Комарова почувствовала, что краснеет, и опустила голову. Асфальт на платформе был старый и кое-где совсем отвалился, так что видны были серые бетонные плиты. Из стыков рос плотный ярко-зеленый мох. Ходят все по этому мху, топчут ногами, и ничего ему не делается, только гуще становится.
– Ну, пойдем, что ли?
Комаровы и раньше с другими ребятами бегали на сортировку смотреть на товарняки, работники станции их гоняли, а одного мальчика из дачников как-то раз даже сдали в милицию за то, что он лазал через сцепку. Родители его наказали и запретили играть с «деревенскими». Вблизи товарные поезда были похожи на громадных спящих животных со страшными мордами, и шедший от них запах гари, смазки, свежеспиленного дерева – те, что шли в сторону города, были по большей части гружены сосновым лесом – смешивался с запахом креозота, поднимавшимся от шпал.
– Это вагон для песку, с открытым верхом, – пояснял Максим, дымя папиросой. – А это – цистерна… в ней нефть возят ну или, например, бензин. Короче, всякий жидкий груз. Сейчас они тут пустые стоят. – Максим стукнул по цистерне кулаком, и она ответила низким металлическим гулом.
– А это?
– Это хоппер. Он для зерна, вот у него внизу вроде коровьего вымени, чтобы зерно ссыпать.
Комарова приподнялась на цыпочки, чтобы потрогать цистерну. Максим вдруг обхватил ее обеими руками за талию и легко поднял, так что она чуть не ткнулась носом в давно не мытый, весь в густых желто-черных потеках бок цистерны и, испугавшись, ухватилась за руки Максима.
– Да не бойся, Кать, не уроню!
От цистерны шел такой сильный запах, что у Комаровой заслезились глаза.
– Ну, как оно?
Комарова потрогала стенку сначала кончиками пальцев, потом приложила к ней обе ладони: стенка была теплая, шершавая и немного липкая.
– Да ничего так!
Максим опустил ее на землю, улыбнулся. Комарова улыбнулась в ответ. Солнце светило ей прямо в глаза, и видела она только блестевшие белым зубы Максима и светящуюся шапку волос на его голове.
– Катя…
– Чего?
– Да так, ничего…
Максим наклонился, растер о рельсу тлеющий бычок. Они прошли между поездами; товарняк, о котором рассказывал Максим, и вправду был очень длинным, и Комаровой, пока шли от его хвоста до плоской железной морды, показалось, что он тянется до следующей станции – в поселке было несколько станций с названиями «Платформа-1», «Платформа-2», «Платформа-4» и «Платформа-5», третьей почему-то не было, и только на «Платформе-1» и «Платформе-2» останавливались пассажирские. Когда поднялись на перрон, как раз подошла электричка. Один мужик спал, сидя враскоряку на скамейке и уронив на грудь голову. Максим подошел к нему, потряс за плечо:
– Твой поезд пришел! Вставай уже!
Мужик открыл глаза, пробормотал что-то и снова провалился в сон. Комарова подошла ближе, дернула Максима за рукав:
– Не трожь его. Проснется – даст еще по роже.
– Я сам кому хочешь по роже дам, – добродушно ответил Максим и показал Комаровой кулак. Кулак был большой, с набитыми на костяшках мозолями. Комарова уважительно присвистнула.
Электричка лязгнула дверями, дернулась и поползла, все быстрее стуча колесами, в сторону города. Кошка Люська сидела на краю платформы, склонив набок голову и перебирая лапами, и сосредоточенно смотрела вслед исчезающему за поворотом хвосту.
– Слушай, Кать…
– Чего?
– Да я так… ничего…
– Да говори, чего там…
– А не обидишься?
– Да нет… чего обижаться?
– Слушай… говорят, твоя бабка в войну партизанкой была.
Комарова вспомнила, как бабка, сидя сгорбившись за столом, макает в чай печенье, и руки у нее трясутся так, что она не всегда доносит размоченное печенье до рта, и кусок с мокрым шлепком падает на клеенку, и как отец таскал ее за длинные седые космы по двору, и Лорд прыгал вокруг своей будки, звеня цепью и заливаясь визгливым лаем. Она отрицательно покачала головой.
– Что, ничего не рассказывала?
– Да говорю же…
– А она у тебя какого года?
– Двадцать шестого.
Максим нахмурился, поскреб пятерней затылок.
– Значит, в войну была девчонкой навроде тебя. Ты б смогла поезд под откос пустить?
Комарова пожала плечами:
– Так ведь если в войну… может, и смогла бы.
– А человека из винтовки застрелить?
Комарова задумалась, потом сказала неуверенно:
– Так ведь если война…
– Вот видишь! – обрадовался Максим. – Значит, была твоя бабка партизанкой и вражеские поезда под откос пускала.
– Это почему это?
– Сама же говоришь – если бы война, смогла бы.
– Так то я, а то моя бабка, – заупрямилась Комарова.
После того как им влетало от бати или от матери, они приходили к бабке в комнату – крохотную, узкую, где помещались только кровать, маленький столик и шкаф с тряпьем. Печки в комнате не было, поэтому осенью и зимой там было холодно, и бабка сидела на кровати в шерстяных носках и валенках и куталась в шерстяное одеяло. Когда Комаровы приходили, она откладывала в сторону вязанье, пододвигалась, чтобы они могли присесть рядом на кровати, и рассказывала что-нибудь из прошлого. Однажды было про какого-то заезжего комиссара, который в нее влюбился и обещал увезти в город, но что-то у них не заладилось, и комиссар уехал один. Комарова с Ленкой представляли себе этого комиссара на коне и с саблей, с орденами и медалями на груди, и каждой хотелось, чтобы когда-нибудь к ней тоже приехал такой комиссар, только Ленка мечтала, чтобы он увез ее в город, а Комарова – чтобы остался с ней в поселке, и они спорили и чуть не дрались, потому что комиссар был один, а их – двое, и, кого из них он бы выбрал, было непонятно.
Про войну бабка не рассказывала, говорила только, что было такое время, когда есть было совсем нечего, и что зимой люди насмерть замерзали прямо у себя в постелях. А про вражеские поезда и про винтовки – не говорила. Ну и что, в позапрошлую зиму дед Иван, живший на самом краю поселка на высоком берегу, тоже помер в своей кровати, и, когда его выносили, он был твердый, как ледышка, потому что печь две недели простояла нетопленой. Комарова вздохнула и поковыряла носком туфли торчавший из трещины в асфальте мох.
– Чего нос-то повесила, Катя? Обиделась, что ли?
Она пожала плечами.
– Да это же почетно – в войну партизанить. Это же… ну… – Максим развел руками.
– Может, и почетно… Она померла давно – какая теперь разница?
– Так люди говорят… интересно же.
– Чего интересно?
– Ну, узнать, как на самом деле было.
– Ничего не интересно, – буркнула Комарова и отвернулась. – Болтают только…
Когда бабка померла и ее хоронили на кладбище возле церкви, кроме двух мужиков, за бутылку вызвавшихся копать могилу, была бабка Женька и две тетки с другого конца поселка, которых Комаровы не знали; эти две незнакомые тетки пришли на похороны, только чтобы поклевать кутьи (кутью сварила Татьяна, не пожалев меда и изюма, и тетки, чего не съели, завернули в платки и унесли с собой). Сергий говорил над гробом какие-то слова, но Комарова не слышала, потому что от слез ей заложило уши, и она стояла, бессмысленно глядя перед собой, и зачем-то думала о тетках, воровавших кутью, и о том, что теперь бабкину комнату завалят хламом.
– Болтают, чего сами не знают…
– Ну ладно, – примирительно сказал Максим. – Ты не обижайся только. Не обижаешься?
– Да не обижаюсь я. – Комарова улыбнулась. – За что обижаться?..
Максим хотел спросить что-то еще, но промолчал. На дорогу он предложил напоить Комарову чаем в домике дежурного по станции, который все называли «зеленым домиком», потому что он был выкрашен всегда свежей зеленой краской: красила его каждое лето тетя Света. Тетя Света, как говорила бабка Марья, работала на станции «со времен царя Гороха» и давно уже была не тетей, а бабкой, но «бабка» к ней так и не прилепилось. Когда Максим с Комаровой вошли в крохотную кухоньку, тетя Света, отработавшая ночную смену, как раз закипятила воду на плитке и собиралась пить чай. На холодильнике стояло видавшее виды радио, из которого сквозь потрескивания и электрический шорох Алла Пугачева пела про грозу в городе и расставание с любимым. Увидев Комарову, тетя Света всплеснула руками и прикрутила радио, отчего Пугачеву стало совсем не слышно, а потрескивания и шорох остались.
– Ой, кого привел! Ну, здравствуй, Катя-Катерина!
Она полезла в шкафчик, тоже покрашенный зеленым, нашла чашку, бросила в нее чайный пакетик и залила кипятком.
Максим сел возле окна и тоже заварил себе чаю. При Светке он обыкновенно молчал: из всех баб, работавших на станции, она была самой болтливой, хотя и не самой вредной. Вот сменщица ее, Олька-Коза, та была стерва, и к тому же за свою смену обыкновенно сжирала все неприколоченное, а сама никогда ничего не приносила, за что Светка ругала ее бесстыжей прорвой и однажды отхлестала по спине мокрой тряпкой. Коза за это оговорила Светку начальнику станции, и ту чуть не оштрафовали, но потом все как-то само собой разрешилось. Лучше бы Козу оштрафовали. Светка выставила тарелку с пирожками, накрытую полотенцем, и подвинула к столу табуретку:
– Ну, садись, красавица, что встала?
Комарова уселась, обеими руками подвинула к себе горячую чашку.
– Сто лет тебя не видела, а ты что-то и не выросла совсем, худенькая вон, птичьи косточки торчат. Не кормят тебя, что ли?
– Да кормят, чего… – Комарова вытащила из-под полотенца пирожок и надкусила. Пирожок оказался с яйцом и рисом – тетя Света готовила вкусно, почти как Татьяна.
– Твои покормят, как же! Нарожают детей, а потом дети у них как сироты…
– Теть Света, ну чего вы… – вступился Максим.
– Ой, молчун наш заговорил! – удивилась Светка. – Да не обижу я твою подружку… я же так только…
Светка протянула руку, чтобы погладить Комарову по макушке, но та шарахнулась в сторону, и Светка рассмеялась.
В приоткрытую дверь проскользнула Люська, подошла к тете Свете и уселась у ее ног. Та взяла пирожок, разломила надвое, наклонилась, накрошила перед Люськой прямо на пол начинку. Люська понюхала, шевельнула усами и стала есть. Тетя Света выпрямилась, доела тесто и запила чаем.
– Дома-то у тебя как?
– Да так… – Комарова пожала плечами и вытащила из-под полотенца еще один пирожок. – Так как-то…
– Что, пьянствует отец? – не отставала тетя Света.
– Пьянствует, – нехотя призналась Комарова.
– Бьет вас?
– Да так…
– Да ты сахару, сахару насыпь, что ты без сахару-то… – тетя Света подвинула к Комаровой фарфоровую сахарницу. Комарова наскребла себе сахара, который из-за того, что все лазили в него мокрыми ложками, слипся и откалывался маленькими глыбками.
– Ну так что? Бьет он вас?
– Тетя Света, чего вы к человеку пристали… – снова начал Максим.
– А ты мне не чевокай! – обиделась Светка. – Вчера только вылупился, а туда же!
Комарова размешала сахар, поболтав ложку в центре чашки, как учила бабка Марья, чтобы ложка не стукала о стенки. Тетя Света облокотилась на стол, подперев подбородок ладонями. Своих детей у нее было четверо, все давно уехали в город, жили там семьями и ее к себе особенно не звали.
– А мать как?
– Да тоже как-то так…
– Покойная Марья ее очень любила, – тетя Света вздохнула.
По растрескавшейся оконной раме полз маленький паучок с красной спинкой, таких было много у них на огороде – Ленка называла их земляными клопами и почему-то считала, что от них бывают бородавки. Один раз, когда они сильно поссорились, Ленка насобирала целый коробок этих земляных клопов и высыпала Комаровой на голову, а потом, когда помирились, каждое утро внимательно рассматривала ее лицо, так что Комарова наконец обозлилась и съездила Ленке по уху. Небось спит там еще. Надо было разбудить и сказать, чтобы сразу шла домой и нигде не шлялась и чтобы не вздумала опять заявиться в магазин.
– А начиналось-то у них все как… Отец твой каждую пятницу на мосту стоял, ждал, издалека смотрел электричку: как ее увидит, сразу бегом на платформу – встречать. Всегда по пути цветов каких-нибудь нарвет… она с института после занятий прямо к нему ехала, совсем была еще девчонка… ты вот на нее очень похожа.
– Я знаю, теть Света.
– Очень похожа… – задумчиво повторила тетя Света, рассматривая Комарову. – Прямо одно лицо.
Не пойдет она домой, бати забоится. Паучок дополз до угла рамы, встал на задние лапки, помахал в воздухе передними, ища опоры, и ухватился за край кружевной занавески.
– Это она уж когда тобой беременная ходила, он ее бить-то начал… Все хотела уйти, уезжала несколько раз, но куда с ребенком… С ребенком-то никуда… вот так и вышло…
Это Комарова знала, мать много раз говорила, что беременная хотела сбежать от бати или утопиться и даже подолгу стояла на берегу, но так и не решилась: река казалась страшной. Утопилась бы – стала бы русалкой, как все утопленники, жила бы с водяным в самом глубоком омуте и таскала бы под воду дачников. И она, Комарова, родилась бы водяницей – всё лучше, чем кикиморой. Вот Максим пошел бы летом купаться, она бы и его утащила. Комарова поглядела на Максима: тот сидел, закинув ногу на ногу, и рассматривал узор на клеенчатой скатерти.
– Сволочь все-таки ваш отец! – разобидевшись на то, что разговор не клеится, сказала тетя Света. – И Марью он в могилу свел.
Комарова пожала плечами. Мать тоже говорила, что батя бабку в могилу свел, – она бабку любила, а та ее жалела, и когда батя зверел и кидался на мать с кулаками, то крепко обхватывала ее руками и закрывала своим телом, которое чем дальше, тем больше становилось похожим на старое сухое дерево, и тогда батя молотил их обеих кулаками и чем под руку попадется. Вечерами бабка с матерью сидели на кухне, и мать приглушенно выла, что уйдет в одном исподнем куда глаза глядят, а бабка уговаривала потерпеть, ведь у нее Катя, Лена, Ваня, Оля – тогда их было только четверо; уже после того, как бабка померла, родились Аня, Света и младшенький Саня, который все время болел, и мать часто повторяла, что лучше бы он совсем умер.
– Теть Света… мне пора, наверное. Спасибо за пирожки, вкусные очень.
– На дорожку-то возьмешь парочку? – оживилась тетя Света.
Комарова посмотрела в раздумье на несколько пирожков, остававшихся под полотенцем, потом перевела взгляд на Максима и махнула рукой:
– Да ладно. Меня Олеся Иванна чем-нибудь покормит.
– Олеська-то… эта… – тетя Света хотела что-то сказать, но сдержалась.
Когда Комарова с Максимом уже стояли в дверях, тетя Света вдруг спросила:
– Ты уехать-то отсюда не хочешь?
Комарова отрицательно покачала головой.
– Ну и правильно, где родился – там пригодился. – Тетя Света засыпала словами, как горохом, боясь, что не успеет наговориться напоследок. – Вон, Максимка наш… – она дернула подбородком, – сидит на месте, не рыпается. А такого парня где хочешь бы с руками оторвали. Нравится он тебе?
– Ну, теть Света, вы чего… – обалдел Максим. – Ну это вы даете…
– А чего ты мне чевокаешь? – сразу вскинулась Светка. – Где я неправду сказала?
– Да ну вас совсем! – Максим хлопнул дверью кухоньки и повернулся к Комаровой.
– Ты на Светку внимания не обращай… она вообще добрая, только дура.
– Угу, – глядя себе под ноги, бурнула Комарова.
– Ты не обиделась на меня, Кать?
– За что обижаться?
– Ну… за бабку твою партизанку… – Максим наклонился, пытаясь заглянуть Комаровой в лицо, но она опустила голову еще ниже – в прихожей было сумрачно и не видно было, что у нее горят щеки. – Это же я так просто…
– Угу…
– Ты сама-то дойдешь? – Максим помялся, не зная, что еще сказать, наконец прибавил: – Проводить тебя?
– С чего это еще? Я тебе что, дура из города, дороги не знаю? – вскинулась Комарова.
– Да я так просто… Ну, давай, что ли… – Он протянул руку для пожатия, но Комарова вдруг отвернулась и выбежала на улицу, оставив дверь домика открытой.
Максим в растерянности посмотрел на свою ладонь, потом пошарил по карманам, привычно ища папиросы, вспомнил, что папирос нет, хмыкнул, вышел вслед за уже пропавшей куда-то Комаровой, сорвал травинку и зажал в зубах. Светка, наверное, неделю теперь будет на него дуться как мышь на крупу. И эта тоже… Он сплюнул. Хорошо бы успеть вечером зайти к Олесе Иванне за папиросами – их можно было взять и в ларьке, но хотелось почему-то лишний раз увидеть Олесю и посмотреть, как она будет, усмехаясь, накручивать на палец темный локон. Он улыбнулся и сорвал еще одну травинку. Хорошо!
Солнце припекало почти по-летнему, и от намокшей за ночь земли и травы поднимался пар. Комарова наклонилась, поднесла руку к земле, и тонкие, прозрачные усики пара, как живые, потекли между пальцами. Навстречу шло уже довольно много народу – кто на рынок, кто на станцию, кто просто так, «свою дурость людям показать», как говорила бабка Марья. Куда-то топала своим солдатским шагом тетка Нина.
– Теть Нина! – зачем-то окликнула ее Комарова. – Здравствуйте!
Нинка остановилась, оглядела Комарову с головы до ног и буркнула:
– Откуда чешешь, егоза?
– На станции расписание электричек смотрела, – соврала Комарова первое, что пришло в голову. – Сколько сейчас времени, не знаете?
– Одиннадцатый час. И на кой тебе расписание?
И всего только одиннадцатый час – можно было еще полчаса гулять по сортировке, и Максим бы рассказал про всякие другие вагоны, и как они устроены, и как их нагружают зерном или лесом, а некоторые возят живых коров и лошадей – длинные платформы с высокими бортами, пахнет от них лошадиным и коровьим навозом и перепревшей травой.
– Ну? – пристала Нинка. – На кой тебе расписание? Куда собралась?
Комарова попятилась. Нинка буровила ее взглядом. Дернул же черт у нее время спросить!
Нинка тем временем углядела среди идущих в сторону станции Алевтину Степанову.
– Алевтина, ты это куда?! – крикнула ей Нинка. – Подойди-ка!
Алевтина подошла ближе, держа перед собой обеими руками большую клетчатую полиэтиленовую сумку. Комарова Алевтину не очень любила: у той всегда был какой-то затравленный вид и глаза такие, будто она сейчас расплачется.
– На рынок иду…
– А наша егоза собралась куда-то, на станцию бегала, расписание электричек смотрела. – Нинка не глядя ухватила Комарову за плечо и сгребла пятерней рукав ее платья.
– Куда же это ты собралась, Катя? – наклонившись к Комаровой и заглядывая ей в лицо влажными коровьими глазами, спросила Алевтина. – А родители как же? А маленькие? Кто останется дома за старшую?
На месте ее Алексея любой бы от такой сбежал. Когда он с мужиками сидел на старом мосту – это было любимое место всех поселковых посиделок, и занять его старались еще днем, чтобы не перебила другая компания, – Алевтина притаскивалась, вставала как-нибудь поодаль, но на виду, склоняла набок повязанную платком голову, складывала на груди руки и устремляла на мужа укоризненный взгляд своих коровьих глаз. Алексей отворачивался, пытался как ни в чем не бывало разговаривать разговоры, но через некоторое время сдавался, виновато прощался с собутыльниками и перся вслед за Алевтиной домой.
Комарова молчала, опустив голову. Нинка тряхнула ее за плечо:
– А им все равно. Они только о себе думают. Видишь, молчит, как партизан.
Алевтина покачала головой:
– Так нельзя, Катя. Ты бы о других подумала.
– А они не думают, – повторила Нинка. – Твой много думал, когда в город от тебя сбежал? Ты еще скажи спасибо, что у тебя не семеро по лавкам… Думают они… как же!
– Как там мой Алексей… – плаксиво растягивая слова, завела Алевтина. – Как он там в городе-то…
– Нагуляется и вернется, – грубо оборвала Нинка. – Нашел там себе какую-нибудь кралю вроде нашей Олеськи… клейма на ней негде ставить.
Комарова медленно присела, так что складки ее рукава начали выскальзывать из толстых Нинкиных пальцев.
– Небось лучше, чем ты здесь, – продолжала Нинка. – Небось о тебе-то он там и не вспоминает…
Алевтина вздрогнула и прижала к груди сумку, как будто защищаясь.
Комарова дернулась, едва не упав на колени, вырвалась из Нинкиных рук, вскочила и побежала.
– Куда?! – заорала Нинка. – А ну, стой! Вот я матери скажу, она тебя по жопе выдерет!
Вот привязалась, до всего ей дело, понесет теперь по всему поселку. Комарова, отбежав на достаточное расстояние, свернула на безлюдную боковую улицу и перешла на быстрый шаг, хотя Нинка и не думала за ней гнаться, а Алевтина так вообще стояла столбом, вытаращив глаза и вцепившись в свою сумку. Руки у нее были большие, как Нинкины, только пальцы потоньше, а суставы похожи на деревянные шарики, перекатывающиеся под кожей, и кожа красная и потрескавшаяся. Комарова вытянула перед собой руку и помахала ею в воздухе. У нее тыльная сторона ладони тоже была красная и сухая, вся в паутинке мелких трещин. Она попыталась вспомнить, какие руки у Ленки, но вспоминалось только, что очень грязные.
– Эй, Комарица!
Комарова вздрогнула, но заставила себя не поворачивать голову.
– Далеко собралась? Стой, поговорить нужно…
Если он один, можно попробовать отбиться и убежать. Но он один не ходит. Комарова сжала кулаки, так что ногти больно впились в ладони. Был бы у них старший брат вроде Максима, он бы им показал, а у них не братья, а смех один: Ваня и Саня, не успеваешь им сопли вытирать.
– А сестра твоя где?
Босой забежал вперед и оказался прямо перед ней. Комарова остановилась. Подошли еще трое: семринский парень с разбитой губой – кровь он смыл, но губа все равно оставалась распухшей и синей, Стас и Косой, прозванный так за то, что правый глаз у него не открывался и вместо него была узкая щелочка.
– Ну? – Босой улыбнулся, показав два отсутствующих зуба, ухватил Комарову пальцами за подбородок. Она дернулась, но он держал крепко. – Ну, ну, что дергаешься, Комарица?