Стрелок. Путь на Балканы Оченков Иван
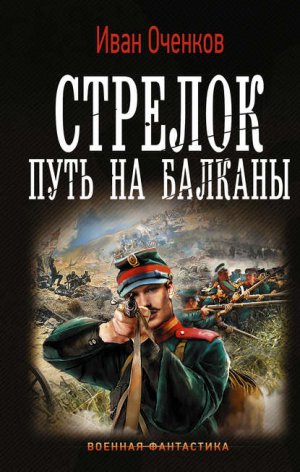
– Так точно!
– Отстань от его покуда, – прервал уже почти кричавшего ефрейтора фельдфебель, – я его в твоё звено[7] написал, так что успеешь еще.
За этой сценой со стороны наблюдали живущие в той же казарме вольноопределяющиеся. В первое время подобное вызывало у них протест, но затем почти привыкли. «Почти», потому что Лиховцев уже собирался вмешаться, но Штерн остановил его.
– Держу пари, он сам справится, – загадочно улыбнувшись, прошептал он ему.
– Кто он?
– Посланец грядущего, разумеется, ты разве его не узнал?
– Нет.
– Ну как же! А впрочем, что тут удивительного, когда мы его видели, ты глаз с Сонечки не сводил, а я успел хорошенько разглядеть. Это точно он!
– Постой, ты о том пациенте своего дядюшки?
– Браво! Не прошло и недели, как ты сообразил. Право же, дружище, армейская служба плохо отражается на твоих умственных способностях. Может, сходим вечером в город, развеемся?
– Пожалуй.
Ефрейтор Хитров невзлюбил Будищева с первого взгляда. В другое время он просто избил бы ершистого новобранца, просто чтобы показать свою власть. Но вот ротный такое вряд ли спустит, а за происходящим внимательно следят его любимчики-вольноперы. Так и зыркают, заразы, того и гляди донесут. Но ничего, видали мы таких!
– Будищев, ступай за мной. Пособить надо.
– Есть, – нехотя отозвался тот, но перечить не посмел и послушно двинулся за командиром звена.
Выведя непонравившегося ему новичка из казармы, он отвел его в небольшой закуток между двумя строениями и внезапно заорал: «Смирна!», попытавшись тут же ударить. Однако проклятый Будищев, как будто заранее знавший, что его ожидает, был наготове и, перехватив руку ефрейтора, кинул его через себя. Не успел тот опомниться, как новобранец сидел на нем верхом, закрутив при этом одну руку и сжав второй горло.
– Ты что, под суд захотел? – прохрипел ошеломленный Хитров. – Пусти, больно!
– Слушай сюда, – прошептал ему на ухо Дмитрий, и от его шепота ефрейтору стало страшно. – Я тебе сейчас руку сломаю, причем так, что ни один коновал потом не сложит. И гортань раздавлю так, что говорить у тебя точно не получится.
– Что?! – вытаращил глаза Хитров и попытался вырваться, но державшие его руки обладали поистине железной хваткой.
– Тихо ты, – продолжил Будищев и заломил руку так, что противник застонал и сразу же прекратил сопротивление. – А ротному доложу, что ты – извращенец! Понял?
– Это чего такое?
– Ну как, блин… а типа ты захотел, чтобы я с тобой содомским грехом занялся, понял?
– Тебе никто не поверит! Мое слово против твоего…
– Какие еще слова, ты забыл, что я тебе горло сломаю?
– Все одно не поверят!
– Может быть, только все равно запомнят. И «слава» эта к тебе навсегда прилипнет. Даже духи[8] будут пальцем тыкать – вон ефрейтор заднеприводный идет! Это, кстати, если ты просто не сдохнешь, потому как со сломанным горлом врачебной помощи можно и не дождаться.
Ефрейтор вдруг сообразил, что именно ему сказал этот непонятный новобранец, и отчаянно задергался, пытаясь освободиться, но его противник так завернул ему руку, что в глазах потемнело от боли, а из горла вырвался крик, больше похожий на стон. Тело мгновенно покрылось испариной, а только что бугрившиеся под сукном мундира мышцы обмякли, давая понять, что он сломлен.
– Что ты хочешь? – почти жалобным голосом прошептал испуганный Хитров.
– Служить спокойно хочу, чтобы всякие уроды вроде тебя не беспредельничали.
– Пусти, богом клянусь, не буду больше!
– Вот и ладушки. Кстати, если ты с остальными дедами решишь меня отметелить, то запомни, я потом тебя все равно достану!
Договорив, Дмитрий отпустил своего противника и легко вскочил на ноги. Затем протянул руку и помог подняться.
– Вставайте, тащь ефрейтор, а то простудитесь, – постарался обойтись без издевки в голосе Будищев и похлопал по форме, как бы помогая отряхнуться. – Мундир на вас опять же красивый.
– Ой, – застонал Хитров, – чуть руку не сломал, проклятый!
– Это пройдет. Ты ведь меня тоже сюда позвал не для того, чтобы пивом угостить. Ну, так мы договорились?
– Договорились, – хмуро отвечал старослужащий, – только по службе все одно спуску не дам!
– А вот это по-нашему! Кстати о мундире, нас когда обмундировывать будут, а то я как-то забодался в этих обносках ходить?
– Завтра в швальню поведут.
В казарму они зашли вдвоем, чем вызвали немалое удивление среди солдат. Необычно бледный ефрейтор, ни слова не говоря, прошел к своему месту и, не раздеваясь, рухнул на нары. Будищев же как ни в чем ни бывало стал осматривать помещение, очевидно, пытаясь найти себе место.
– Иди сюды, – махнул ему заросший окладистой бородой солдат. – Вот тут определяйся…
Спальное место, скажем прямо, было неказистым – двухэтажные дощатые, ничем не прикрытые нары. Ни подушки, ни матраса, ни одеяла на них не наблюдалось, как, впрочем, и в карантине. У прочих обитателей казармы особых излишеств тоже не было, если не считать таковыми тюфяки из рогожи, набитые сеном. Накрывались служивые вместо одеял шинелями, а под голову клали кто на что горазд.
– Да, это не Рио-де-Жанейро, – пробормотал Будищев, вызвав немалое удивление расслышавших его вольноперов.
– Это точно, – отозвался бородатый солдат, как будто понял, о чем тот толкует, – можешь меня дядька Никифоров называть.
– Дядька?
– Ага, для таких, как ты.
– В смысле прослужил много?
– Четвертый год уж пошел.
– Тогда получается – дедушка!
– Можешь и так, только я твоим дядькой[9] буду.
– Дмитрий, – коротко представился новобранец.
– Митька, так Митька! Но запомни, в строю ты новобранец Будищев! А как присягу примешь, так будешь – рядовой! Понял?
– Понял-понял, – пробурчал тот в ответ.
– А командир роты у нас их благородие штабс-капитан Гаупт!
– Ну, да, капитан…
– Не капитан, дурья твоя башка, а штабс-капитан! У капитана погоны чистые, а у их благородия – четыре звездочки.
– Вот блин!
– А вот блинов ты еще долго не попробуешь, чай не у тещи в гостях.
– Я холостой.
– А мне без разницы. Слушай дальше…
– Погоди, Никифоров…
– Дядька Никифоров! Чего тебе?
– Хорошо, пусть будет дядька. Нас когда из карантина забирали, там какой-то большой чин был, с погонами вроде как у полковника, только с чистыми. Это кто?
– Вот дурень, право слово, так у полковника и должон быть чистый погон, а был это не иначе как их высокоблагородие полковник Буссе. Полковой наш командир.
– А почему ротный просто «благородие», а тот «высоко»?
– Известно почему, тот полковник, а Гаупт – только штабс-капитан!
– А если погоны такие же, а на них три звезды?
– Подполковник, тоже «высокоблагородие».
– Вот же пропасть, – чертыхнулся Будищев, – все ни как у людей!
– Ничто, запомнишь еще, – усмехнулся старослужащий, – а не запомнишь, так унтера поспособствуют.
Ночью Дмитрию приснился чудной сон. Будто бы его опять призвали в армию, но не в Болховский полк, а в родную часть, где он уже отслужил срочную, вот только «дедов» надо было называть «благородиями», офицеров – «превосходительствами», а утреннюю поверку проводил отчего-то полковой священник отец Григорий. Ночные видения были настолько яркими, что он, потеряв разницу между сном и реальностью, при команде «подъем» вскочил, быстро оделся и выбежал из казармы на утреннюю зарядку. Холодный ветер ударил ему в лицо, и изумленный новобранец сообразил, что стоит перед казармой один, а сослуживцы с интересом наблюдают за его действиями. Как оказалось, никаких спортивных упражнений в Российской Императорской армии по утрам не предусмотрено. Впрочем, Будищев уже привык, что к нему относятся как к немного придурковатому, и потому решил поддержать свою репутацию. Поэтому он сделал вид, что все идет как надо, и невозмутимо принялся за разминку. Тут все и вовсе бросили свои дела и, столпившись кругом, смотрели на то, как он поочередно машет то руками, то ногами, затем стал приседать, наклоняться и еще бог знает что вытворять. Первым в себя пришел Северьян Галеев.
– Гимнастика! – авторитетно заявил многоопытный унтер и тут же обернулся к остальным: – А вы чего рты раззявили? За уборку, быстро! Эй, гимнаст, тебя тоже касается.
Уборка заключалось в том, что каждый солдат вымел из-под своих нар мусор на центральный проход, где его подобрали назначенные в наряд. Едва успели навести в роте минимальный порядок, последовала команда строиться.
Поскольку завтрака военнослужащим тоже не полагалось, после построения их развели на занятия, и до самого обеда они исправно маршировали, учились ружейным приемам и прочей солдатской премудрости. Была и гимнастика, но совершенно не такая, как в будущем. Вели эти занятия взводные унтера. Физическое развитие подчиненных их, очевидно, волновало не слишком, а вот возможность поиздеваться над подчиненными определенно привлекала. По крайней мере, именно так подумал Дмитрий, вдоволь находившись гусиным шагом. После гимнастики последовала опять уборка, причем главный фронт работ ожидаемо достался «молодым». После ее окончания фельдфебель Фищенко лично проверил качество, покрутил носом, но все же скомандовал идти на обед.
Состоял оный из неожиданно наваристых щей и каши, а также отварной говядины, которой полагалось по половине фунта на человека. За каждым столом сидело шестеро солдат, один из которых был «бачковым». То есть должен был получить харч на свой стол. Как и следовало ожидать, им оказался самый молодой, то есть Будищев. Ели все вместе, по очереди зачерпывая из общего бачка деревянными ложками. Мясо и хлеб лежали на деревянных мисках, специально выстроганных на такой случай. Еще их употребляли при чистке оружия, но об этом они узнали позже.
– Чего морду кривишь? – усмехнулся Никифоров, глядя, как его подопечный прихлебывает квас. – Али, может, ты, как господа, кофий привык пить?
– Ага, какао с сахаром, – согласился Дмитрий, – и хлеб, чтобы с маслом!
– Ишь ты, поди, в прислуге служил, раз барскую пищу привык есть?
– Нет, – помотал головой новобранец, – то я так, шучу.
– Да, понятно, мыслимое ли дело, каждый день какаву с сахаром… а вообще, чем до службы занимался?
– Деревенские мы, – отвечал ему Будищев, подражая говору, слышанному им в селе, – коров пасли!
– Эва как, а я уж подумал, что ты из благородных. Уж больно руки белые.
– Не, в благородные мы рылом не вышли.
После обеда солдатам дали немного отдохнуть. Новобранцев, впрочем, отделили от остальных, отдав под начало унтера Галеева, не упустившего возможность еще немного погонять «молодых».
– Становись! Равняйсь! Смирна! – заорал он на «молодых». – Шевелитесь, сукины дети, а то дух вышибу!
Погоняв своих подопечных по плацу, не забывая щедро осыпать при этом крепкой руганью, он остановил колонну и велел Дмитрию выйти из строя.
– Ты, болезный, часом не беглый?
– Никак нет!
– Уж больно хорошо шагаешь для новобранца, хоть правофланговым тебя ставь.
– Лучше сразу в генералы.
– Поговори мне еще, – рассвирепел Галеев, – я тебе не Хитров, я из тебя враз всю дурь вышибу!
– Виноват!
– То-то что виноват, – пробурчал унтер. – Ладно, встать в строй! Потом решим, что с тобой делать, а сейчас нале-во!
Нестройная толпа, лишь по недоразумению именуемая строем, пошагала к полковым швальням, где портные споро сняли с них мерки и принялись «строить мундиры». Как оказалось, солдату Российской Императорской армии положены: зимний мундир из темно-зеленого сукна, две пары шаровар, гимнастическая белая рубаха, такие же панталоны, шинель, башлык и кепи. Еще в хозяйстве был ранец, сухарный мешок, ножны для штыка и куча всего. Из-за спешки мундиры и кепи шились с упрощениями, так что даже на не самый внимательный взгляд было сразу видно, где старослужащий, а где только что призванный солдат.
Часть обмундирования им выдали сразу, к примеру, гимнастические белые рубахи, благо их фасон был совершенно немудрящ. Пока прочие новобранцы пытались разобраться с только что полученной новой одеждой, Будищев быстро переоделся и, подпоясавшись, одернул форму, будто носил всю жизнь.
– Гляди-ка, на человека стал похож, – осклабился солдат-кладовщик. – Давай, раз управился, получай прочее!
– И много там? – поинтересовался Дмитрий.
– А вон список на стене висит, – усмехнулся кладовщик, – читай, коли грамотный!
– Ремень поясной юфтевый с медной бляхой – один; ранец телячьей кожи – один; сумки патронные – две… – бегло прочитал, просмотрев список, новобранец.
– Ты чего, из студентов? – насторожился кладовщик.
– Нет, а что?
– Читаешь больно быстро.
– А что, только студенты читать умеют?
– Ну, еще господа офицеры, но на разжалованного ты точно не похож.
– Эй, хорош лясы точить! – прикрикнул на разговорившихся солдат Галеев. – Получай свою хурду и отваливай, дай другому получить.
– Слушаю, господин унтер-офицер, – вытянулся кладовщик и тут же прикрикнул на Будищева: – Получай давай, не задерживай!
Быстро получив все от казны положенное, Дмитрий принялся запихивать новое имущество в ранец, пытаясь заодно сообразить, что к чему. Особенное недоумение вызвал небольшой медный котелок, абсолютно нежелающий куда-либо помещаться.
– Его не внутрь, его сбоку пристегивают, – хмуро пояснил внимательно наблюдавший за его стараниями Северьян.
– Ага, понял, это что же, жрать варить?
– Как бы не так, это нашему брату на погибель придумали, – сплюнул унтер. – Как смотр, так морока! Ежели железный, так следи, чтобы навощен да покрашен и ни приведи господь ржавчины. А коли медный, как у тебя, так чисти, чтобы блестел…
– Как у кота яйца?
– Вот-вот, соображаешь.
– А почему фляги нет?
– Для воды-то? А не положено, язви его в душу! Однако ты правильно понимаешь, в поле без воды – смерть. Если найдешь где бутыль или флягу жестяную, тогда, считай, повезло. Только ее сукном обшить надо и лямку приделать.
– Понятно.
– Это хорошо, что ты понятливый, а вот скажи: пишешь ты так же бойко, как и читаешь?
– Давно не писал, – осторожно ответил Дмитрий.
– Понятное дело, для всякой работы свой навык нужен. Ладно, потом поглядим, чего ты стоишь.
Договорив, унтер отвернулся и тут же, без малейшего перерыва, обрушился с площадной бранью на очередного замешкавшегося новобранца. Впрочем, вскоре все получили положенное и так же строем отправились назад в казарму. Для хранения имущества солдат предназначалось довольно большое помещение, именуемое ротным цейхгаузом. Заведовал им каптенармус – старший унтер-офицер Василий Жуков. Довольно пожилой уже дядька с хитрым прищуром глаз и медалью «За усмирение польского мятежа», не тратя много слов, показал новобранцам, куда сложить вещи, и велел выметаться на построение.
Едва они успели встать в строй, прозвучала команда:
– На молитву, шапки долой!
Полковой священник, отец Григорий, проводил службу истово, не делая ни малейших отступлений от канона. Будучи небольшого роста, он тем не менее обладал совершенно невообразимым басом. Не выбери он своей стезей духовное служение, ему, вероятно, был бы рад любой оперный театр. Трубный глас его далеко разносился вокруг, а впечатленные им солдаты торопливо крестились и кланялись. Дмитрию, непривыкшему ни к молитвам, ни к церкви, поначалу было трудно. Однако взяв себе за правило: «делай как все», он крестился и кланялся вместе с остальными и не слишком выделялся из общей массы. Но, как оказалось, далеко не все прониклись торжественностью момента. Один из новобранцев, здоровый деревенский парень – Федор Шматов, как видно, услышал разговор Будищева с унтером и очень им заинтересовался.
– Митька, – шепотом спросил он, – а отчего ты сказал, будто котелок должон блестеть как у кота яйца? Они же не блестят!
Губы Будищева тронула легкая улыбка, но он ухитрился сохранить невозмутимое выражение лица и так же шепотом ответил:
– Федя, ты видал, что кот делает, когда ему делать нечего?
– Ну, спит.
– Или лижет себе…
– Точно! Только они все равно не блестят.
– Так это потому что на них шкура…
– Эва как, – покрутил головой Шматов, и в его голосе прорезалось понимание, – а ежели ее ободрать…
Стоящие вокруг солдаты прекрасно слышали весь этот разговор и еле сдерживали смех. Это немедля привлекло к себе внимание отца Григория, и он, сделав страшные глаза, строго посмотрел на своих сразу же притихших прихожан в форме. Впрочем, служба скоро закончилась, и священник начал читать проповедь. Посвящена она была событиям на Балканах. Тут актерское дарование иеромонаха развернулось во всю ширь. Трагическим тоном он повествовал о страданиях болгар и сербов под агарянским игом. Как страдали они за веру, как издевались над ними турки, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Затем он возвысил голос:
– Не переполнилась ли чаша терпения Господа нашего? Доколе терпеть новомученикам христианским?
К большому удивлению Дмитрия, солдаты внимательно слушали своего пастыря, и каждое его слово находило в их сердцах живой отклик. Вообще, пообщавшись некоторое время с сослуживцами, Будищев был уверен, что большинство из них знать не знает, где эта Болгария и для чего им нужно идти куда-то воевать с турками. Единственным исключением были вольноопределяющиеся. Вчерашние студенты, добровольно вступившие в армию, они как раз очень ясно представляли себе цели предстоящей войны и по возможности пытались донести ее до прочих солдат. Однако, несмотря на все их усилия, это им плохо удавалось. Трудно сказать, что было тому виной, возможно, традиционное недоверие вчерашних крестьян к барам, а вольноперы с точки зрения солдат были барчуками. А может, им просто не удавалось найти общий язык, поскольку речь людей образованных уж слишком отличалась от речи простонародья. Но вот священнику, как это ни странно, удалось пробиться к сердцу простых солдат, и они внимательно его слушали и выражали полное понимание. Надо сказать, сам Дмитрий весьма мало сочувствовал целям предстоящей войны. Во-первых, он прекрасно помнил, на чьей стороне будут воевать болгары в следующих войнах. Во-вторых, ему совсем не хотелось идти воевать. На войне он уже был, хоть и недолго. Ему повезло, его миновали вражеские пули, он не подорвался на растяжке, а единственный большой бой запомнился только грохотом выстрелов, свистом пуль и взрывами сыпавшихся на них мин. По нему стреляли, он стрелял в ответ, но не был уверен, попал ли хоть раз. Потом подоспели вертушки и ударили по духам, но те испарились так, будто их и вовсе тут не было. И все бы ничего, но его лучший друг Витька лежал, раскинув руки, на земле, а его глаза бессмысленно таращились в небо. И надо бы подойти и закрыть ему глаза, но сил на это не было ни физических, ни моральных. Это была не единственная потеря их взвода, но именно Виктор был его товарищем.
После молитвы был непродолжительный отдых, а затем снова начались занятия. На сей раз в класс, где они занимались, принесли винтовку. Ведущий занятие Галеев взял ее в руки и спросил у продолжавшего сидеть с задумчивым видом Шматова:
– Эй, новобранец, как тебя, хорош мух ноздрями ловить! Вот скажи, это что, по-твоему?
– Ружо, дяденька?
– Эх, ты, серость! Ну-ка, ты теперь, Анисимов!
Анисимов – невзрачного вида солдат с невыразительным лицом – тут же вскочил и отбарабанил:
– Это есть шестилинейная переделочная винтовка системы Крынка![10]
– Вот, это правильно! Повтори теперь ты, Шматов.
– Ружо, дяденька.
– Ты о чем думаешь, паразит? – изумился унтер.
– О том, как у кота яйца ободрать, – бесхитростно отвечал новобранец, вызвав просто дикий хохот у своих товарищей.
– У кота, врать не буду, не знаю, – нахмурился Галеев, – а вот у тебя, дурака, должно сегодня обдеру. Это кто же тебя, сукина сына, надоумил, интересно?
Сидевший в первом ряду ефрейтор Хитров обернулся и глазами стрельнул в сторону Дмитрия, что не укрылось от зоркого унтерского взгляда.
– Будищев!
– Я.
– Что это?
– Шестилинейная переделочная винтовка системы Крынка, – уверенно отвечал тот.
– Запомнил или видал прежде? – поинтересовался унтер-офицер.
– Запомнил.
– Ну-ка возьми в руки.
Дмитрий с интересом взялся за оружие и подбросил его в руках. Винтовка оказалась довольно тяжелой, но при этом неожиданно прикладистой и удобной. Калибр ее был большим, миллиметров пятнадцать или около того. Затвор откидывался в сторону, открывая казенник.
– Ничего себе, карамультук! – вырвалось у новобранца.
В этот момент в класс вошел поручик Венегер. Сегодня была его очередь наблюдать за учебой, однако их благородие до сих пор не проявлял интереса к сему действу, всецело доверяя педагогическим способностям унтеров. Но взрыв хохота после ответа Шматова привлек его внимание.
– Встать, смирно! – скомандовал Галеев, заметив офицера.
Солдаты и новобранцы дружно вскочили и, замерев, принялись есть глазами начальство. Старший офицер роты, очевидно, был в дурном настроении и искал, на ком бы его сорвать.
– Что за идиотский смех? – раздраженным тоном спросил он унтера.
– Не могу знать! – гаркнул тот в ответ.
Впрочем, Венегеру ответ и не требовался. Постепенно распаляя себя, он принялся кричать:
– Кому это служба цагю и отечеству кажется смешной? Кто это гешил, что он в цигке? Какая сволочь вздумала устроить из готы балаган? Может, это тебе смешно? – накинулся он на продолжавшего стоять с винтовкой Будищева.
– Никак нет!
– Скажешь, не ты смеялся, каналья?
– Никак нет!
– Может, скажешь, что ты и смеяться не умеешь, скотина?
– Кто в армии служил, тот в цирке не смеется! – громко выкрикнул Дмитрий и, спохватившись, добавил: – Ваше благородие.
– Что? – выпучил глаза поручик. – Впгочем, ответ недугён. За бойкость хвалю. Галеев, поставишь этого бойкого под гужье на тги часа и немедля! Смотги, пговегю!!
– Слушаю!
Когда офицер вышел, Галеев заметно выдохнул, а потом, приказав вести занятия Хитрову, велел Будищеву идти за ним.
– Смотри, паря, – хмуро сказал унтер, когда они дошли до плаца, – язык у тебя острый, а мысли где сказать, а где и промолчать надобно, как я погляжу, и вовсе нет. Потому говорю прямо: с офицерами не умничай, целее морда будет! Что у поручика на уме, я не знаю, но может, его нелегкая и сюда принесет. Так что стой смирно, а отвечай либо «так точно», либо «не могу знать». Может, и пронесет. И помни, то, что ты Хитрову ребра пересчитал и тебе это покуда с рук сошло, еще ничего не значит. Офицер не ефрейтор, он глазом моргнет, как небо с овчинку покажется!
Вольноопределяющиеся сегодня целый день наблюдали за странным новобранцем и иногда покатывались со смеху, как давеча на молитве. Его ловкий ответ Венегеру и вовсе привел приятелей в бурный восторг, однако назначенное поручиком наказание заставило их забеспокоиться. Дело в том, что старший офицер роты редко рукоприкладствовал при свидетелях, однако вполне мог избить стоящего под ружьем солдата один на один. Во всяком случае, однажды такое случилось.
– Кажется, нашему посланцу грядущего может прийтись несладко, – шепнул товарищу на ухо Николаша.
– Какая дикость, – скрипнул зубами Алексей, всегда близко к сердцу воспринимавший подобные инциденты.
– Подожди, кажется, у меня есть идея, – отозвался приятель и поднял вверх руку. – Господин ефрейтор, разрешите выйти?
Хитров подозрительно посмотрел на вольнопера, однако связываться с барчуком, имевшим почти приятельские отношения с командиром роты, не стал.
– Дозволяю, – сухо бросил ефрейтор и продолжил занятия.
Штерн же, выйдя из класса, бросился на поиски поручика и вскоре нашел его идущим к плацу.
– В чем дело, гядовой? – строго вскинулся тот, но, узнав Николашу, тут же сбавил тон: – Ах это вы, у вас какое-нибудь дело?
– Так точно, ваше благородие, – четко отрапортовал вольнопер и, подойдя поближе к офицеру, принялся ему что-то втолковывать.
– Вот как? – удивленно выслушал его Венегер. – Пгямо тайны мадгидского двога!
Штерн в ответ только развел руки, дескать, что есть – то есть. Поручик же еще на минуту задумался, а потом уточнил:
– Ггаф Блудов?
– Никак нет, просто Блудов, – тут же отозвался Николаша, – младшая ветвь.
– Ну, хогошо, – сдался офицер и с сожалением потер ладонью о кулак, – пегедайте унтегу, что я отменяю свой пгиказ. Полагаю, часа будет вполне достаточно.
– Слушаю, – вытянулся тот в ответ, – разрешите выполнять?
– Валяйте.
Полковые швальни старались изо всех сил, и на третий день после примерки мундиры и прочая амуниция были готовы. Когда призванные на военную службу новобранцы были наконец обмундированы и, как выразился подполковник Гарбуз, приведены в божеский вид, их было не стыдно предъявить на смотре.
Ради такого торжественного события в полк прибыло местное начальство во главе со здешним городским головой Николаем Дмитриевичем Живущим и протоиереем Иосифом Ширяевым. Отцы города с удовольствием наблюдали за бравыми военными и выразили всеобщее мнение, что такие молодцы разобьют всех супостатов в пух и прах, поддержав славу русского оружия. Потом должен был состояться парад, но прежде рядового Будищева привели к присяге. Как оказалось, его тезка не успел сделать это из-за болезни, что нашло отражение в соответствующих документах.
– Хочу и должен… – как эхо повторял Дмитрий слова воинской клятвы, введенной когда-то еще Петром Великим, – …верно и нелицемерно… не щадя живота…
Было уже довольно холодно, но в мундире и с теплым набрюшником под шинелью солдаты почти не чувствовали мороза. К тому же в такие торжественные дни к обычному рациону полагалась чарка водки, в чаянии которой многие готовы были и не на такие жертвы. Когда присяга была окончена, протоиерей выступил перед строем с прочувствованной речью:
– Благородные представители славного русского воинства! Господь да благословит ваш путь, в который зовет вас святая воля царская! Это путь высокосвященный, на нем по преимуществу возрастает и достигает полного расцвета святая любовь, полагающая душу за друзи своя…[11]
Будищев не слишком прислушивался к тому, что говорил священник. Накануне ему наконец удалось-таки избавиться от порядком надоевшей бородки и побриться. Дело это оказалось не самым простым. Безопасных бритв, одноразовых станков или чего-нибудь подобного не существовало еще в природе, а похожая на маленький тесак опасная бритва мало того, что стоила совершенно безумных для солдата-новобранца денег, так ей еще надо было уметь пользоваться. Можно было, конечно, обратиться к цирюльнику Федоту Скокову – такому же солдату, находившемуся в подчинении у ротного фельдшера. Но последний брал за такого рода услуги не менее полкопейки за раз, а взять их было неоткуда. Выручили, как ни странно, вольноперы Штерн и Лиховцев, с которыми у него постепенно установились почти приятельские отношения. Хотя сами они, подражая опытным солдатам, отпустили небольшие бороды, бритвенные принадлежности у них были, равно как и опыт обращения с последними. Ловко убрав щетину с его щек и подбородка, Николаша цокнул языком.
– Ну чем не граф?
– Да иди ты! – отозвался Дмитрий, внимательно разглядывая себя в маленькое зеркальце.
Оставленные самозваным брадобреем небольшие усики придавали ему немного пижонский или, как выразился Штерн, фатовской вид. Но нельзя не сказать, что ему они действительно шли. Так что усы остались, а кличка «Граф» намертво прицепилась к Будищеву среди солдат. Впрочем, чисто выбритое лицо, спрыснутое вежеталем, доставляло почти физическое наслаждение, так что со всем остальным можно было мириться. Все это время в полку не прекращались всякого рода учения и стрельбы, поэтому солдаты и офицеры порядком утомились. Их благородиям повезло больше, сразу же после окончания присяги отцы города пригласили их на торжественный обед, посвященный их отправке, так что с нижними чинами остались лишь дежурные. Вольноопределяющиеся, получив увольнительные билеты, также усвистали в город, а солдаты, набившись в казарму, оказались предоставлены сами себе. Выданной после присяги водки было достаточно, чтобы привести их в минорное настроение, но мало, чтобы подбить на «подвиги». Поэтому они, разбившись на кучки, вели негромкие беседы, вспоминали дом, а затем затянули песню. Дмитрий петь не умел, рассказывать о своей прошлой жизни ему было нечего, а потому он просто сидел в уголке, лениво прислушиваясь к происходящему. Рядом с ним устроился Федька Шматов, старавшийся в последнее время держаться рядом. Некоторое время он сидел молча, но подобное времяпровождение было совершенно не в характере молодого солдата, а потому, поёрзав, он сказал, вроде как ни к кому не обращаясь:
– Пашкова давеча опять под ружье поставили…
– Какого Пашкова? – хмуро спросил Будищев и тут же пожалел, что отозвался.
– Дык Семена Пашкова, который у их благородия поручика Венегера в денщиках служит.
– За какой хрен?
– Сказывают, ванну их благородию сильно нагрел.
– А, ну за это поделом, – буркнул Дмитрий, рассчитывая, что новоявленный приятель отстанет, но не тут-то было.
– Граф, а Граф, – снова заговорил тот минуту спустя, – а «ванна» – это чего такое?






