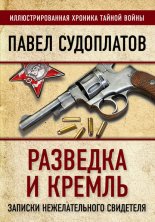140 бесед с Молотовым. Второй после Сталина Чуев Феликс
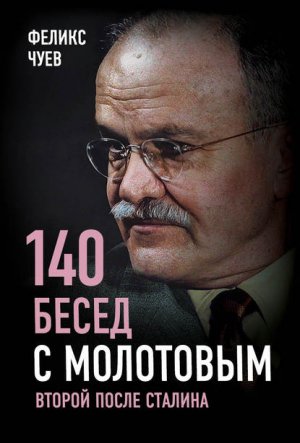
– Некоторые, маршал Голованов в частности, считают, что Генеральный штаб прозевал войну.
– Он не прозевал. Тут и по его вине, и потому, что у них директива была такая: не верить первым сообщениям, проверять. На это ушло какое-то время.
– Но это уже недоработка Сталина.
– Так можно, конечно, считать. Положение у него было очень трудное, потому что он очень не хотел войны.
– А может, Сталин переоценил Гитлера, думал, что тот все-таки поумнее и не нападет на нас, не закончив войну с Англией?
– Верно, верно, такое настроение было не только у Сталина – и у меня, и у других. Но с другой стороны, Гитлеру ничего не оставалось делать, кроме как напасть на нас, хоть и не кончена война с Англией, да он бы никогда ее не закончил – попробуй закончи войну с Англией!
– Один писатель так изобразил начало войны, – говорю я, – что Сталин проклинает посла в Германии Деканозова, а также Молотова, «похвалявшегося тем, что теперь у нас будет дружба с Германией».
– Плюет и размазывает по всему тиражу, – говорит Молотов, – зная, что я не могу теперь публично защититься…
– Сейчас пишут, что Сталин поверил Гитлеру, – говорю я, – что пактом 1939 года Гитлер обманул Сталина, усыпил его бдительность. Сталин ему поверил…
– Наивный такой Сталин, – говорит Молотов. – Нет. Сталин очень хорошо и правильно понимал это дело. Сталин поверил Гитлеру? Он своим-то далеко не всем доверял! И были на то основания. Гитлер обманул Сталина? Но в результате этого обмана он вынужден был отравиться, а Сталин стал во главе половины земного шара!
Нам нужно было оттянуть нападение Германии, поэтому мы старались иметь с ними дела хозяйственные: экспорт-импорт.
Никто не верил, а Сталин был такой доверчивый!.. Велико было желание оттянуть войну хотя бы на полгода еще и еще. Такое желание, конечно, было у каждого и не могло не быть ни у кого, кто был близок к вопросам того времени. Не могло не быть просчетов ни у кого, кто бы ни стоял в таком положении, как Сталин. Но дело в том, что нашелся человек, который сумел выбраться из такого положения, и не просто выбраться – победить!
Ошибка была допущена, но, я бы сказал, второстепенного характера, потому что боялись сами навязать себе войну, дать повод. Вот как началась, мы отвечаем за это.
Это, по-моему, не ошибки, а наши слабости. Слабости, потому что я думаю, что нам психологически почти невозможно было быть к этому вполне готовыми. Мы чувствовали, что мы не во всем готовы, поэтому, конечно, переборщить с нашей стороны было очень естественно. Но оправдать это нельзя тоже. А тут каких-либо ошибок я, собственно, не вижу. В смысле предотвращения войны все делалось для того, чтобы не дать повод немцам начать войну.
– Но Гитлер-то уже решил, уже на него было трудно повлиять…
– Мы все-таки в его голове не сидели. Он уже в 1939 году был настроен развязать войну. А когда он ее развяжет? Оттяжка была настолько для нас желательна, еще на год или на несколько месяцев. Конечно, мы знали, что к этой войне надо быть готовым в любой момент, а как это обеспечить на практике? Очень трудно.
…Сколько раз беседуем на эту тему, столько раз уточняю. И через пять, и через десять, и через пятнадцать лет Вячеслав Михайлович говорит одинаково, и у него это – не попытка оправдания, а неколебимое убеждение. Вот сидим на даче в Жуковке, приехал писатель Иван Стаднюк. Молотов следит за публикацией его романа «Война», оценивает положительно, дает советы. Прочитав третью книгу романа, упрекнул автора в том, что у него Сталин высказывает предположение о том, что немцы не нападут на нас ранее 1942 года, – Стаднюк в данном случае опирается на воспоминания маршала К. А. Мерецкова.
– А я это считаю неправильным, – говорит Молотов. – На мертвого валить, на Сталина, будто бы он это сказал? Во-первых, Мерецков – неточный человек, нельзя тут на него положиться. Сталин называл его «ярославец». Почему «ярославец»? В Ярославле, говорил он, такой оборотистый живет народ, что евреев там почти нет, там сами русские выполняют эти функции, и один из таких – Мерецков. Вряд ли Мерецков может быть точным, написав это! Я же со Сталиным общался, но я такого не помню, и никто из людей, кто близко, повседневно общался со Сталиным, не говорит об этом. Допускаю, что я что-нибудь забыл, может, что-то подобное Сталин допустил, но со словом «наверное»… Вы это сделали, чтоб оправдать Тимошенко, который размышляет у вас о начале войны. А Тимошенко ведь не последний человек был – народный комиссар обороны! А он-то на высоте был? Чего ж на Сталина?
…Молотов распалился в разговоре, лицо раскраснелось, глаза помолодели, засверкали прежним правительственным блеском.
– Я к вашему произведению отношусь строго. Появился человек, который сказал более правдивое слово, и вдруг он – против Сталина! Суть дела не в том, чтобы вовремя очень точно угадать, когда будет нападение, а суть в том, что не допустили Гитлера в Москву, не допустили в Ленинград и в Сталинград, – вот в чем суть! Суть, в конце концов, в конечной нашей блестящей победе! И бросить тень на Сталина теперь, когда его нет в живых…
– Я исходил из того, – говорит Стаднюк, – что это и оправдывает Сталина. Почему мы не были готовы, потому что полагали…
– А мы были готовы! – горячо перехватывает инициативу Молотов. – Как это – не были? Вот это и неправильно вы говорите, что мы не были готовы. В чем?
– В общем, ко дню нападения, к самому часу нападения мы не были готовы.
– Да к часу нападения никто не мог быть готовым, даже Господь Бог! – возражает Молотов. – Мы ждали нападения, и у нас была главная цель: не дать повода Гитлеру для нападения. Он бы сказал: «Вот уже советские войска собираются на границе, они меня вынуждают действовать!»
Конечно, это упущение, конечно, это недостаток. Конечно, есть и другие упущения. А вы найдите такую возможность, чтобы в подобном вопросе не было упущений. Но если на них сделать упор, это бросает тень на главное, на то, что решает дело. А Сталин еще никем не заменим. Я являюсь критиком Сталина, в некоторых вопросах с ним не согласен и считаю, что он допустил крупные, принципиальные ошибки, но об этих ошибках никто не говорит, а о том, в чем Сталин прав, без конца говорят как об отрицательном.
По сути, к войне мы были готовы в главном. Пятилетки, промышленный потенциал, который был создан, он и помог выстоять. Иначе бы у нас ничего не вышло. Прирост военной промышленности в предвоенные годы у нас был такой, что больше было невозможно![8]
Перед войной народ был в колоссальном напряжении. «Давай, давай!» А если нет – из партии гонят, арестовывают. Можно ли народ, или партию, или армию, или даже своих близких держать так год или два в напряжении?
Нет. И, несмотря на это, есть такие вещи, которые оправдывать нельзя.
Ошибки были, но все дело в том, как эти ошибки понять. Во-первых, чьи это ошибки, во-вторых, как их можно было избежать. По крайней мере, эти два вопроса возникают.
Напряжение ощущалось и в 1939-м, и в 1940-м. Напряжение было очень сильное, поэтому немножко, конечно, было добродушие какое-то, ну, желание передышки. Кто-то мне недавно говорил, упрекая: «Жданов-то где был?» Он в Сочи был, когда началась война. Ну конечно, можно было не ездить в Сочи в тридцать девятом году или в сороковом году, да и дальше в сорок первом, а в конце концов больному человеку, что с ним сделаешь, как-то надо дать передышку. Упрекают: «О чем они думали? О войне? Нет, они в Сочи сидели!» Оптимисты, мол, какие, члены политбюро.
Каждый день всех членов политбюро, здоровых и больных, держать в напряжении… А возьмите весь народ, все кадры. Мы же отменили семичасовой рабочий день за два года до войны! Отменили переход с предприятия на предприятие рабочих в поисках лучших условий, а жили многие очень плохо, искали, где бы получше пожить, а мы отменили. Никакого жилищного строительства не было, а строительство заводов колоссальное, создание новых частей армии, вооруженных танками, самолетами… Конструкторов всех дергали: «Давай скорей, давай скорей!» – они не успевали, все были молодые конструкторы!..
Я знал довольно хорошо Павлова, командующего Белорусским округом. Он был расстрелян как человек, который растерялся. Танкист, крепкий мужик и, конечно, преданнейший партии человек. Он готов был свою жизнь отдать в боях, в чем хотите, за нашу страну. Ну, дубоватый, ну, допустим, – это больше беда человека, чем вина. Ну уж не настолько он дубоватый, дорос до командующего! Это каждого можно так. Недостаточно умен, дубоват, но не каким-то, а честным путем, как коммунист, дорос до командующего. А двадцать первого июня оказался в театре. Ему говорят, что на границе не все спокойно, а он: «Ничего, вот после спектакля займемся этим делом». А как ему было сказать, что нельзя ходить в театр и в тридцать девятом, и в сороковом, и в сорок первом, – это тоже неправильно. Значит, тут уже получилась больше беда, с моей точки зрения. Не потому, что человек не хочет или даже не понимает, а потому, что утомляется, хочет передышки, и оставлять его без этого невозможно.
Герой Советского Союза генерал-полковник танковых войск Д. Г. Павлов
…Я говорю Молотову о том, как маршал Голованов рассказывал мне, что он лично был свидетелем разговора Павлова со Сталиным по телефону в кабинете Павлова, когда до начала войны оставались считанные недели. Сталин предупреждал о возможном нападении, но по разговору чувствовалось, что Павлов, находясь почти на границе, как ни парадоксально, не принимает всерьез это предупреждение.
– Дело в том, – говорю я Молотову, – сейчас существует мнение, что вы назначили таких неподготовленных людей, как Павлов, а вот если был бы Тухачевский…
– А такой, как Тухачевский, – ответил Молотов, – если бы заварилась какая-нибудь каша, неизвестно, на чьей стороне был бы. Он был довольно опасный человек. Я не уверен, что в трудный момент он целиком остался бы на нашей стороне, потому что он был правым. Правая опасность была главной в то время. И очень многие правые не знают, что они правые, и не хотят быть правыми. Троцкисты, те крикуны: «Не выдержим! Нас победят!» Они, так сказать, себя выдали. А эти кулацкие защитники, эти глубже сидят. И они осторожнее. И у них сочувствующих кругом очень много – крестьянская, мещанская масса. У нас в двадцатые годы был тончайший слой партийного руководства, а в этом тончайшем слое все время были трещины: то правые, то национализм, то рабочая оппозиция… Как выдержал Ленин, можно поражаться. Ленин умер, они все остались, и Сталину пришлось очень туго. Одно из доказательств этому – Хрущев. Он попал из правых, а выдавал себя за сталинца, за ленинца: «Батько Сталин! Мы готовы жизнь отдать за тебя, всех уничтожим!» А как только ослаб обруч, в нем заговорило…
Перед войной мы требовали колоссальных жертв – от рабочих и от крестьян. Крестьянам мало платили за хлеб, за хлопок и за труды – да нечем платить-то было! Из чего платить? Нас упрекают: не учитывали материальные интересы крестьян. Ну, мы бы стали учитывать и, конечно, зашли бы в тупик. На пушки денег не хватало!
Оттянули войну, это немножко успокоило людей. Если на год и десять месяцев оттянули, то, наверное, еще на месяц-другой оттянем. А все-таки, с точки зрения руководства, я об этом думал, и не только сейчас, надо было, конечно, учитывать, что лучшее время для нападения на Россию – июнь месяц. Это нигде, по-моему, в достаточной мере не учитывалось. Наполеон тоже в июне напал на Россию. Летние месяцы, они очень опасны. Но Советский Союз героически вышел из этого положения.
– Это был просчет.
– Да, просчет. Но июнь один уже прошел. Июнь сорокового прошел, и это настраивало на то, что пройдет и июнь сорок первого. Тут был некоторый недоучет, я считаю. Готовились с колоссальным напряжением, больше готовиться, по-моему, невозможно. Ну, может быть, на пять процентов больше можно было сделать, но никак не больше пяти процентов. Из кожи лезли, чтоб подготовить страну к обороне, воодушевляли народ: если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы! Ведь не заставляли засыпать, а все время подбадривали, настраивали. Если у всех такое напряжение было, то какая-то нужна и передышка…
– Но неудачно выбрали время для передышки.
– Нет, передышка все время была нужна – и в январе, и в феврале, и в марте, ну и дальше, но – когда нападут? Могут упрекать за то, что июнь следовало больше учитывать, чем май, но это уже надо быть буквоедом, чтобы за это упрекнуть при всех тех мерах, которые принимались. Если бы за это упрекнуть, то уж, собственно говоря, надо быть если не бюрократом, то именно буквоедом. Конечно, надо было в июне быть несколько больше, чем в мае, напряженным. Но уж и в мае было колоссальное напряжение, и беда в том, что организм не может без конца испытывать колоссальное напряжение, не имея никаких отдушин. Даже если предусмотришь в июне большее напряжение, все равно какие-то отдушины будут и в июне. Почему Жданов был в Сочи, почему офицеры были в отпусках, почему Павлов в театре? Господи ты боже мой! Конечно, этих деталей могло и не быть, но не они же решают дело!
– Зачем разрушили старую линию укреплений, а на новой границе не успели построить?
– Это просто объясняется: не было возможности. Не только не успели разрушить то, что нужно было разрушить, но и не успели заменить новым – это факт. Может быть, была такая торопливость, не исключаю.
– Но все-таки объективно получилось, что Гитлер перехитрил.
– Нет, нет, я с этим не согласен. Верно, у него свой расчет был. Для нападения лучшего времени не выберешь. А с нашей стороны требовать еще большего напряжения, чем в мае… есть опасность лопнуть. Все натягивалось, натягивалось, а кормить-то было тоже особенно нечем. Ошибка в сроках – это обвинение неправильное все-таки, да, неправильное. Тут был просчет, некоторый просчет, конечно, да. Но это не столько ошибка, не столько вина, сколько беда. Нам бы и хотелось дальше напрягать еще больше, но уже, знаете…
– Хрущев использовал слова Черчилля о том, что тот предупредил Сталина. Сталин потом сказал на это: «Мне не нужно было никаких предупреждений. Я знал, что война начнется, но думал, что мне удастся выиграть еще полгода». В этом обвиняют Сталина. На себя положился и думал, что ему удастся оттянуть войну.
– Но это глупо, потому что Сталин не мог на себя положиться в данном случае, а на всю страну. Он думал не о себе, а обо всей стране. Это же главный интерес был наш, всего народа – еще на несколько недель оттянуть.
– А Черчилль в тот период вроде бы ничего не мог против нас иметь…
– Да можно ли было Черчиллю верить в этом деле? Он был заинтересован как можно быстрее столкнуть нас с немцами, как же иначе!
– Посол Шуленбург предупреждал Деканозова о начале войны.
– Не предупреждал, он намекал. Очень многие намекали, чтобы ускорить столкновение. Но верить Шуленбургу… Столько слухов, предположений ходило! И не обращать внимания – тоже неправильно.
– Но если бы дали распоряжение военным…
– Это и есть провокация, – отвечает Молотов.
– Почему провокация? Тогда нападайте на безоружных? Дали отпуска военным…
– Не были безоружными, были начеку. А без отпусков целый год никто не работает. Избежать внезапности полностью, по-моему, в наших условиях было нельзя. Но все-таки к этому надо было готовиться. На героические дела идем, а вот выдержки длительной, постоянной, напряженной нам очень часто не хватает. И трудно обвинять, а есть и виноватые в этом. Немцы вышколены больше. Скажут им – и все. Потом и наши смогут – с большим напряжением. Но достаточной выдержки, достаточной систематичности еще, по-моему, не хватает. В этом наша крестьянская природа сказывается. Работает, до полусмерти пьет, страда… Внезапность, конечно, играет роль. Я уверен, что сейчас тоже поступают сообщения о том, что где-то что-то может начаться. У нас природа такая. И марксизм-ленинизм тут ни при чем. Он стоит за наступательные действия, когда есть возможность, а если нет – выжидаем.
– Пока мы соберемся со своими возможностями, нас клюнут.
– Это верно, это не исключено. И не потому что не соберемся, а потому, что не все умеем свой талант использовать. Это требует времени, а его не так много было.
Сталина изображают самовлюбленным, самонадеянным, дескать, будет так, как он хочет… Это неправильно и клеветнически. А что внезапность – это, к сожалению, было. И не могло не быть. И таких умников, пожалуй, не найдешь, которые могли бы о подобных вещах точно сказать в отношении своего противника.
– Пишут, что вера в Сталина основывалась, в частности, на раздуваемом им самим культе личности. Раздувал?
– Немножко, знаете, было. Человек все-таки есть человек. Но он много сделал, а это главное. В тех условиях никто бы не смог лучше, чем Сталин, – не только в войну – и до войны, и после войны.
У Жукова в книге много спорных положений. И неверные есть. Он говорит, как перед началом докладывает Сталину, я тоже присутствую, – что немцы проводят маневры, создают опасность войны, и будто я задаю ему вопрос: «А что, вы считаете, что нам придется воевать с немцами?» Такое бессовестное дело. По-последним дураком, так сказать. Все понимают, только я не понимаю ничего. – Молотов даже стал заикаться от волнения. – Пишет, что Сталин был уверен, что ему удастся предотвратить войну. Но если обвинять во всем одного Сталина, тогда он один построил социализм, один выиграл войну. И Ленин не один руководил, и Сталин не один был в политбюро. Каждый несет ответственность. Конечно, положение у Сталина было тогда не из легких. Что не знали, неправда. Ведь Кирпонос и Кузнецов привели войска в готовность, а Павлов – нет… Военные, как всегда, оказались «шляпы». Ну конечно, мы тогда были очень слабы по сравнению с немцами. Конечно, надо было подтягивать лучше. Но на этом деле лучшие военные у нас были. Жуков считается неплохим военным, он у нас был в Генштабе, Тимошенко тоже неплохой военный, он был наркомом обороны.
– А военные сваливают все на Сталина, что он связывал инициативу, ждали от него команды.
– Каждый здесь хочет снять с себя ответственность, – говорит Молотов. – Однако Кузнецов, моряк, морской министр, дал с вечера двадцать первого на двадцать второе июня указание быть готовым к авиационному налету. Жуков этого не сделал. Кузнецов храбрится, что он сделал по своей инициативе. В данном случае он оказался более прав, потому что от него не требовалось полной проверки, а от Генштаба она требовалась, и Генштаб находился под такого рода указанием, что – не торопись, проверяй, прежде чем принимать те сообщения на веру, которые к нам приходили в самые последние минуты перед началом войны. И тут задержка, известно, была, но она ничего не решала.
Маршал Г.К. Жуков
– Некрич пишет: «Сталин думал, что Гитлер ведет игру с целью вымогательства политических и экономических уступок».
– Ну а почему не думал? Тот, конечно, был вымогателем. Мог вымогать. Можно было рассчитывать на вымогательство. Тут вокруг каждого спорного вопроса могли быть и вымогательства, и обманы, и надувательства, и прославления, и… трудно сказать реально…
– В литературе основная мысль сводится к тому: Сталин не думал, что Гитлер начнет войну.
– Это да, так пишут. Василевский немного наивно пишет о начале войны. Я прочитал начало книжки Бережкова.
– Хорошая книжка.
– Не вполне, – замечает Молотов.
– Но интересная.
– Да, интересная. Я прочитал пока первые сто страниц, там две я заметил вещи, с которыми нельзя согласиться. Одна такая: Сталин считал, что Гитлер не нападет в этом году на СССР. Как же можно за Сталина это говорить, тем более сейчас, когда на него любое можно повесить! И он не может опровергнуть, и никто не может опровергнуть. Тем более: «Сталин считал, Сталин думал…» Будто бы кто-то знал точно, что Сталин думал о войне! Люди хотят, чтобы как можно благоприятнее условия были для трудных моментов. Конечно, немножко поддавались тому, что не в этом году начнется. И если будет, то несколько позже. Это я считаю законным, но утверждать, будто Сталин считал, что в этом году не будет войны, по-моему, нет оснований. Никто не может сказать так про другого человека. Это раз.
Второе. Он говорит насчет сообщения ТАСС. За неделю-полторы до начала войны было объявлено в сообщении ТАСС, что немцы против нас ничего не предпринимают, у нас сохраняются нормальные отношения. Это было придумано, по-моему, Сталиным. Бережков упрекает Сталина, что для такого сообщения ТАСС не было оснований. Это дипломатическая игра. Игра, конечно. Не вышло. Не всякая попытка дает хорошие результаты, но сама попытка ничего плохого не предвидела. Бережков пишет, будто это было явно наивно. Не наивность, а определенный дипломатический ход, политический ход. В данном случае из этого ничего не вышло, но ничего такого неприемлемого и недопустимого не было. И это не глупость, это, так сказать, попытка толкнуть на разъяснение вопроса. И то, что они отказались на это реагировать, только говорило, что они фальшивую линию ведут по отношению к нам. Они старались показывать перед внешним миром, будто бы какое-то законное мероприятие с их стороны проводилось, но само тассовское сообщение, по-моему, осуждать нельзя, и смеяться над ним было бы неправильно. А он как явно неправильную вещь расписывает, вроде того, что наивно. Ничего не наивно. Это действительно очень ответственный шаг. Этот шаг направлен, продиктован и оправдан тем, чтобы не дать немцам никакого повода для оправдания их нападения. Если бы мы шелохнули свои войска, Гитлер бы прямо сказал: «А вот видите, они уже там-то, войска двинули! Вот вам фотографии, вот вам действия!» Говорят, что не хватало войск на такой-то границе, но стоило нам начать приближение войск к границе – дали повод! А в это время готовились максимально.
У нас другого выхода не было. Так что, когда нас упрекают за это, я считаю, это гнусность. Сообщение ТАСС нужно было как последнее средство. Если бы мы на лето оттянули войну, с осени было бы очень трудно ее начать. До сих пор удавалось дипломатически оттянуть войну, а когда это не удастся, никто не мог заранее сказать. А промолчать – значит вызвать нападение. И получилось, что двадцать второго июня Гитлер перед всем миром стал агрессором. А у нас оказались союзники.
– Некрич пишет, будто Сталин надеялся, что ему удастся втянуть Гитлера в переговоры.
– Да, правильно. Надо было пробовать! Конечно, в таких случаях, с такими звероподобными людьми можно увидеть и надувательство, и не все удастся, но никаких уступок не было по существу, а пробовать вполне законно.
– Вроде бы Сталин отделял Гитлера от немецкой военщины, считал, что война может начаться с провокаций военных, а сам Гитлер не пойдет на нарушение пакта. Не думаю, что Сталин так считал.
– Я тоже так не думаю, – соглашается Молотов. – Это очень вольные рассуждения, лишь бы бросить тень на Сталина. Он не был наивным человеком, не был таким добродушным простаком, что его всякий мог… Но не пробовать тоже нельзя было, не искать путей к Гитлеру…
Как Сталин относился к Гитлеру
…Читаю Молотову так называемое «завещание Гитлера», запись, сделанную Борманом 14 февраля 1945 года:
– «Гибельным фактором этой войны оказалось то, что Германия начала ее слишком рано и в то же время слишком поздно. С чисто военной точки зрения нам следовало начать войну раньше. Я должен был захватить инициативу еще в 1938 году, а не разрешить втянуть себя в войну в 1939 году…»
– Конечно! – замечает Молотов.
– «…ибо война была в любом случае неизбежна. Тем не менее вряд ли можно обвинить меня, так как Англия и Франция согласились в Мюнхене со всеми моими требованиями!
С точки зрения сегодняшнего дня война намного запоздала. Но с точки зрения нашей моральной подготовки она началась намного раньше, чем следовало. Мои ученики еще не успели достичь полной зрелости…»
– Ну, это уже он дал! – восклицает Молотов.
– «…Мне, по существу, были бы нужны еще двадцать лет, чтобы сделать зрелой эту новую элиту, элиту юности, погруженную с самого раннего детства в философию национал-социализма. Трагедией для нас, немцев, всегда является то, что нам всегда не хватает времени. Обстоятельства всегда складывались так, что мы вынуждены были спешить, и если сейчас у нас нет времени, то это объясняется главным образом тем, что у нас не хватает пространства. Русские с их огромными пространствами могут позволить себе роскошь отказаться от спешки. Время работает в их пользу и против нас…»
– Но русские оказались в таком положении не в 1941 году, а задолго до этого, и он мог бы понять, но не понял. Вот его недостаток, – комментирует Молотов.
– «…почему именно 1941 год? Потому что, учитывая неуклонно нарастающую мощь наших западных врагов, если нам суждено было действовать вообще, мы должны были сделать это с минимальной отсрочкой. И обратите внимание: Сталин не сидел сложа руки…»
– Ну конечно! – кивает Молотов.
– «…Время опять было против нас на двух фронтах. В действительности вопрос заключался не в том, почему 22 июня 1941 года, а скорее почему не раньше?»
– Правильно, правильно.
– «…Если бы не трудности, созданные нам итальянцами, и не их идиотская кампания в Греции, я напал бы на Россию на несколько недель раньше…»
– Ну, надо было.
– «…Наша главная проблема сводилась к тому, чтобы удержать Россию по возможности дольше от выступления, и меня вечно терзал кошмар, что Сталин может проявить инициативу раньше меня…»
– Конечно, в этом тоже был известный вопрос, – соглашается Молотов.
– «…Мы можем с уверенностью предсказать, каков бы ни был исход войны, Британской империи пришел конец. Она смертельно ранена. Будущее британского народа – вымереть от голода и туберкулеза на своем проклятом острове…»
– Да, это он мне сам говорил. В таком роде он и говорил: «Какой-то проклятый остров…»
– А вы допускали такое, что если не они, то мы первые начнем?
– Такой план мы не разрабатывали. У нас пятилетки. Союзников у нас не было. Тогда бы они объединились с Германией против нас. Америка-то была против нас, Англия – против, Франция не отстала бы.
– Но тогдашняя официальная доктрина была: воевать будем на чужой территории, малой кровью.
– Кто же может готовить такую доктрину, что, пожалуйста, приходите на нашу территорию и, пожалуйста, у нас воюйте?! – говорит Молотов. – Военный министр скажет: «Приходите к нам!» Конечно, он будет говорить: «Малой кровью и на чужой территории!» Это уже агитационный прием. Так что агитация преобладала над натуральной политикой, и это тоже необходимо, тоже нельзя без этого.
– Гитлер говорит: «Нам нужно только одно – отказаться признать себя побежденными, ибо для германского народа сам факт продолжения независимости, существования – уже победа. Этого одного будет достаточно для оправдания данной войны, которая окажется не напрасной. В любом случае ее нельзя было избежать. Враги германского национал-социализма навязали ее мне еще в январе 1933 года…»
А начинает он вот с чего: «Если мне суждено погибнуть, то пусть погибнет и немецкий народ, потому что он оказался недостойным меня».
– Эта его фраза известна. Довольна глупая, – говорит Молотов.
– Как Сталин относился к Гитлеру как к личности, как его оценивал?
– Сказать «недооценивал» – это было бы неправильно. Он видел, что все-таки Гитлер организовал немецкий народ за короткое время. Была большая коммунистическая партия, и ее не стало – смылись! А Гитлер вел за собой народ, ну и дрались немцы во время войны так, что это чувствовалось. Поэтому Сталин, как человек хладнокровный при обсуждении большой стратегии, он очень серьезно относился к этому делу.
06.12.1969, 09.07.1971, 31.07.1972, 08.03.1974, 14.01.1975, 24.05.1975, 16.08.1977, 24.07.1978, 04.11.1978, 01.07.1979, 09.01.1981, 21.10.1982, 11.03.1983, 16.06.1983
Пошел принимать Шуленбурга
…Спрашиваю у Молотова:
– Я перечитывал «Воспоминания и размышления» Жукова, и для меня все-таки не совсем ясна ситуация 22 июня 1941 года. У него сказано: «Примерно в 12 часов ночи командующий Киевским военным округом генерал Кирпонос доложил, что появился еще один немецкий солдат-перебежчик и сообщил, что в 4 часа германские войска перейдут в наступление.
Все говорило о том, – пишет Жуков, – что немецкие войска выдвигаются ближе к границе. Об этом мы доложили в 00:30 ночи И. В. Сталину. И. В. Сталин спросил, передана ли директива в округа. Я ответил утвердительно.
После смерти И. В. Сталина появились версии о том, что некоторые командующие и их штабы в ночь на двадцать второе июня, ничего не подозревая, мирно спали или беззаботно веселились. Это не соответствует действительности… В 3 часа 07 минут мне позвонил по ВЧ командующий Черноморским флотом адмирал Ф. С. Октябрьский и сообщил: „Система ВНОС флота докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов…“ Я спросил адмирала: „Ваше решение?“ – „Решение одно: встретить самолеты огнем противовоздушной обороны флота“.
…В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного округа генерал В. Е. Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии… Нарком приказал мне звонить И. В. Сталину. Звоню. К телефону никто не подходит. Звоню непрерывно…» Это уже около четырех утра получается, – говорю я Молотову, отрываясь от книги.
– Да раньше мы собрались, раньше! – горячо возражает Молотов. – Ему хочется как-то себя показать, он верит, что он правильно понимал обстановку, но он тоже плохо понимал.
Продолжаю читать из книги Г. К. Жукова:
– «Наконец, слышу сонный голос дежурного генерала управления охраны. Прошу его позвать к телефону И. В. Сталина.
Минуты через три к аппарату подошел И. В. Сталин.
Я доложил обстановку и просил разрешения начать ответные боевые действия. И. В. Сталин молчит. Я слышу лишь его дыхание.
– Вы меня поняли?
Опять молчание.
Наконец И. В. Сталин спросил:
– Где нарком?
– Говорит с Киевским округом по ВЧ.
– Приезжайте в Кремль с Тимошенко. Скажите Поскребышеву, чтоб он вызвал всех членов политбюро».
– А это было раньше, – снова утверждает Молотов.
Продолжаю читать из книги Жукова:
– «В 4 часа я вновь разговаривал с Ф. С. Октябрьским. Он спокойным тоном доложил:
– Вражеский налет отбит. Попытка удара по кораблям сорвана. Но в городе есть разрушения.
…В 4 часа 30 минут утра все вызванные члены политбюро были в сборе».
– Раньше, – говорит Молотов.
– «Меня и наркома пригласили в кабинет. И. В. Сталин был бледен и сидел за столом, держа в руках набитую табаком трубку. Он сказал:
– Надо срочно позвонить в германское посольство.
В посольстве ответили, что посол граф фон Шуленбург просит принять его для срочного сообщения.
Принять посла было поручено В. М. Молотову.
Тем временем первый заместитель начальника Генерального штаба генерал Н. Ф. Ватутин передал, что сухопутные войска немцев после сильного артиллерийского огня на ряде участков северо-западного и западного направлений перешли в наступление.
Через некоторое время в кабинет быстро вошел В. М. Молотов:
– Германское правительство объявило нам войну.
И. В. Сталин опустился на стул и глубоко задумался». А это уже где-то около пяти утра получается, – говорю я.
– Да, неточно, неправильно, – отвечает Молотов. – Жуков тут не говорит о том, что Сталин дал указание за всем строго следить и докладывать, но надо понять, что, наверное, будут провокационные всякие сообщения – нельзя им на слово верить.
…Много раз за семнадцать лет наших встреч разговор возвращался к 22 июня. В целом, со слов Молотова, получалась такая картина.
– То ли Жуков ошибается, то ли я запамятовал, – говорит Молотов. – Позвонил Жуков. Он не сказал, что война началась, но опасность на границе уже была. Либо бомбежка, либо получили другие тревожные сведения. Вполне возможно, что настоящей войны еще не было, но уже накал был такой, что в штабе поняли: необходимо собраться. В крайнем случае около двух часов ночи мы собрались в Кремле, у Сталина, – когда с дачи едешь, минут двадцать – тридцать пять надо.
Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург
– Но Жуков пишет, что разбудил Сталина и доложил, что бомбят. Значит, уже в час ночи бомбили?
– Подождите… В этой части он, может быть, не точен. Жуков и Тимошенко подняли нас: на границе что-то тревожное уже началось. Может, кто-то раньше сообщил им о какой-то отдельной бомбежке, и раньше двух началось, это уже второстепенный вопрос. Мы собрались у товарища Сталина в Кремле около двух часов ночи, официальное заседание, все члены политбюро были вызваны. До этого, двадцать первого июня, вечером мы были на даче у Сталина часов до одиннадцати-двенадцати. Может быть, даже кино смотрели, в свое время мы часто так делали вечером – после обеда смотрели кино. Потом разошлись, и снова нас собрали. А между двумя и тремя ночи позвонили от Шуленбурга в мой секретариат, а из моего секретариата – Поскребышеву, что немецкий посол Шуленбург хочет видеть наркома иностранных дел Молотова. Ну и тогда я пошел из кабинета Сталина наверх к себе, мы были в одном доме, на одном этаже, но на разных участках. Мой кабинет выходил углом прямо на Ивана Великого. Члены политбюро оставались у Сталина, а я пошел к себе принимать Шуленбурга – это минуты две-три пройти. Иначе было бы так: если б на дачу мне позвонили, что просится на прием Шуленбург, то я должен был позвонить Сталину – послы министрам иностранных дел по ночам не звонят. И, конечно, в таком случае я без ведома Сталина не пошел бы встречать Шуленбурга, а я не помню, чтоб я звонил Сталину с дачи. Но я бы запомнил, потому что у меня не могло быть другой мысли, кроме того, что начинается война, или что-то в этом роде. Но звонил мне не Шуленбург, а чекист, связанный с Поскребышевым: Сталин дал указание собраться. Шуленбурга я принимал в полтретьего или в три ночи, думаю, не позже трех часов. Германский посол вручил ноту одновременно с нападением. У них все было согласовано, и, видно, у посла было указание: явиться в такой-то час, ему было известно, когда начнется. Этого мы, конечно, знать не могли.
– Но и в три немец еще не напал на нас…
– В разных местах по-разному. В Севастополе отразили налет. Часа в два-три напали. Чего вы держитесь за пустяковую часть этого дела? Все, конечно, интересно, и эти детали можно уточнить до минуты путем документов и расспросов, но они не имеют значения. Маленков и Каганович должны помнить, когда их вызвали. Это, по-моему, было не позже чем в половине третьего. И Жуков с Тимошенко прибыли не позже трех часов. А то, что Жуков это относит ко времени после четырех, он запаздывает сознательно, чтобы подогнать время к своим часам. События развернулись раньше.
– Известно, что Сталин по ночам обычно работал, а в эту ночь почему-то спал, и Жуков его разбудил…
– Да, Жуков хочет себя показать. Это не вполне точно, – отвечает Молотов.
– Не знаю, насколько это так, но кого спросить, если не вас, вы якобы сказали послу: «Чем мы это заслужили?»
– Если вы берете из книги Верта – это выдумка. Он же не присутствовал, откуда он мог знать? Это чистая выдумка. Конечно, я такой глупости не мог сказать. Нелепо. Абсурд. От кого он мог это получить? Были два немца и мой переводчик… У Чаковского тоже много надуманной психологии, когда он описывает этот эпизод. Но Шуленбурга принимал все-таки я, а не Чаковский…
– Известно, что граф Шуленбург был против войны с Советским Союзом. В связи с этим он даже перед войной направил меморандум Гитлеру. Помимо официальных, дипломатических слов что-нибудь личное он говорил?
– Тогда было не до личных разговоров. Шуленбург держался спокойно. Он, конечно, не мог ничего. Впоследствии он был расстрелян.
– Плохо сообщал Гитлеру о России?
– Ну это, вероятно, само собой. Но – участвовал в заговоре против Гитлера. А вот его переводчик, советник германского посольства Хильгер, когда вручали ноту, прослезился.
– Шуленбург тогда старый уже был?
– Что значит старый? Мо-моложе мо-моего теперешнего возраста, а я еще и сейчас в старики не гожусь.
06.12.1969, 31.07.1972, 15.08.1972, 21.05.1974
Растерялся ли Сталин?
– Жуков снимает с себя ответственность за начало войны, но это наивно. И не только снимает с себя, он путается. Двадцать первого июня представил директиву, что надо привести войска в боевую готовность. У него двусмысленность: то ли правильно, он считает, Сталин поправил, то ли неправильно, – он не говорит. А, конечно, Сталин поправил правильно. И вот в одних округах сумели принять меры, а в Белорусском не сумели…
08.03.1974
Когда началась война, рассказывает Молотов, он со Сталиным ездил в наркомат обороны. С ними был Маленков и еще кто-то. Сталин довольно грубо разговаривал с Тимошенко и Жуковым.
– Он редко выходил из себя, – говорит Молотов.
Далее он рассказал, как вместе со Сталиным писали обращение к народу, с которым Молотов выступил 22 июня в двенадцать часов дня с Центрального телеграфа.
– Почему я, а не Сталин? Он не хотел выступать первым, нужно, чтобы была более ясная картина, какой тон и какой подход. Он, как автомат, сразу не мог на все ответить, это невозможно. Человек ведь. Но не только человек – это не совсем точно. Он и человек, и политик. Как политик он должен был и выждать, и кое-что посмотреть, ведь у него манера выступлений была очень четкая, а сразу сориентироваться, дать четкий ответ в то время было невозможно. Он сказал, что подождет несколько дней и выступит, когда прояснится положение на фронтах.
– Ваши слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами» – стали одним из главных лозунгов войны.
– Это официальная речь. Составлял ее я, редактировали, участвовали все члены политбюро. Поэтому я не могу сказать, что это только мои слова. Там были и поправки, и добавки, само собой.
– Сталин участвовал?
– Конечно, еще бы! Такую речь просто не могли пропустить без него, чтоб утвердить, а когда утверждают, Сталин очень строгий редактор. Какие слова он внес, первые или последние, я не могу сказать. Но за редакцию этой речи он тоже отвечает.
Люди слушают обращение Молотова. 22 июня 1941 года
– А речь третьего июля он готовил или политбюро?
– Нет, это он. Так не подготовишь, За него не подготовишь. Это без нашей редакции. Некоторые речи он говорил без предварительной редакции[9]. Надо сказать, мы все раньше говорили без предварительной редакции. Даже в 1945-м или в 1946-м, когда я делал доклад на ноябрьской годовщине или в ООН выступал, это были мои слова, меня никто не редактировал. Я не по писаному говорил, а более-менее вольно.
То, что Сталин будет говорить на параде 7 ноября 1941 года, я, конечно, знал. Он говорил мне. Не помню, давал ли он читать речь, – наверное, даже давал читать. Обыкновенно давал читать. На параде 7 ноября его речь не была записана, он потом отдельно записал.
– Пишут, что в первые дни войны он растерялся, дар речи потерял.
– Растерялся – нельзя сказать, переживал – да, но не показывал наружу. Свои трудности у Сталина были, безусловно. Что не переживал – нелепо. Но его изображают не таким, каким он был, – как кающегося грешника его изображают! Ну, это абсурд, конечно. Все эти дни и ночи он, как всегда, работал, некогда ему было теряться или дар речи терять. (Знаменитый полярный летчик Герой Советского Союза М. В. Водопьянов поведал мне, что 22 июня 1941 года, узнав о начале войны, он прилетел на гидросамолете с Севера в Москву, приводнился в Химках и сразу же поехал в Кремль. Его принял Сталин. Водопьянов предложил осуществить налет наших бомбардировщиков на фашистскую Германию.
– Как вы это себе представляете? – спросил Сталин и подошел к карте.
Водопьянов провел линию от Москвы до Берлина.
– А не лучше ли отсюда? – сказал Сталин и показал на остров в Балтийском море.
Это было в первый день войны… – Ф. Ч.)
Поехали в наркомат обороны Сталин, Берия, Маленков и я. Оттуда я и Берия поехали к Сталину на дачу. Это было на второй или на третий день. По-моему, с нами был еще Маленков. А кто еще, не помню точно. Маленкова помню.
Сталин был в очень сложном состоянии. Он не ругался, но не по себе было.
– Как держался?
– Как держался? Как Сталину полагается держаться. Твердо.
– А вот Чаковский пишет, что он…
– Что там Чаковский пишет, я не помню, мы о другом совсем говорили. Он сказал: «Просрали». Это относилось ко всем нам, вместе взятым. Это я хорошо помню, поэтому и говорю. «Все просрали», – он просто сказал. А мы просрали. Такое было трудное состояние тогда. Ну, я старался его немножко ободрить.
– Больно, что погибла армия, – говорит Шота Иванович, – но, если бы немец не прорвался, а мы бы перешли в контрнаступление и успешно продвигались в Польше, Англия, Америка и другие страны разрешили бы нам раздавить Германию в 1941 году, были бы они с нами?
– Еще неизвестно, – отвечает Молотов.
– А сколько значило для советской власти, что мы получили в союзники Англию и Америку!
– Вот это правильно. Это правильно, – говорит Молотов.
31.07.1972, 15.08.1972, 09.11.1973, 16.06.1977, 16.08.1977, 24.07.1978, 01.07.1979, 13.01.1984
Кто бы стал иначе действовать…
Читаю Молотову из «Истории КПСС» о том, что Сталин не давал согласия на приведение войск приграничных округов в полную боевую готовность, считая, что этот шаг может быть использован фашистским правительством как предлог для войны.
– Кто бы стал иначе действовать, я хотел бы видеть! – сказал Молотов.
17.07.1975
Гитлер считал – Молотов допускал такую возможность, – что после него в Германии придет к власти более слабая личность, чем он, поэтому надо сейчас уничтожить СССР.
Стараются…
– Пишут о том, что вроде бы в 1943 году Молотов встречался с Риббентропом в районе Кривого Рога. Шли переговоры о перемирии, немцы предлагали установить границу по Днепру, а Молотов не согласился…
Вы уж сознайтесь, Вячеслав Михайлович, дело давнее, как вы в Кривом Роге с Риббентропом – он ведь ваш старый приятель…
– Да, старый знакомый, – улыбается Молотов.
– Вот ведь какой абсурд печатают!