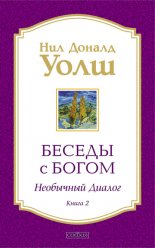Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека Кон Эдуардо

Мгновение спустя Лусио нажал на спусковой крючок. На этот раз ружье выстрелило с оглушающим тиийи.
Слово тиийи во многом продукт того, чем оно не является. Форма рта исключает все прочие звуки, которые мы могли бы издать. В результате остается звук, «соответствующий» объекту репрезентации, благодаря отсутствию множества других звуков. Второе отсутствие – это объект, которого в физическом смысле нет. И, наконец, тиийи включает еще одно отсутствие: это слово является репрезентацией будущего, привнесенного в настоящее в надежде на то, что это еще не свершившееся действие повлияет на настоящее. Лусио надеется, что его ружье издаст тиийи, когда он нажмет на спусковой крючок. Он привнес эту имитацию в настоящее из мира возможного, которое, как он надеется, станет реальностью. Это возможное будущее, мотивирующее Лусио к тому, чтобы предпринять все необходимые для его свершения шаги, также является неотъемлемым элементом отсутствия. То, чем тиийи является – следствие его обозначения или, проще говоря, значение, – зависит от всего того, чем он не является.
Все знаки (а не только те, которые мы бы назвали волшебными) движутся в будущее схожим с тиийи образом. Это призыв к действию в настоящем через отсутствующее, но репрезентированное будущее, которое посредством этого призыва сможет повлиять на настоящее. «Поторопись, теперь по-настоящему!» – увещевание Иларио за мгновение до выстрела включает предсказание, что «это» все еще будет на месте и его можно будет пристрелить. Это репрезентация в настоящем призыва из будущего.
Черпая вдохновение в размышлении древнекитайского философа Лао-цзы о том, что использование колеса стало возможным благодаря полому пространству в центре втулки, Терренс Дикон (2006) называет «конститутивным отсутствием» («constitutive absence») особого вида ничто, ограниченное спицами колеса, или стеклом колбы, или формой рта, произносящего «тиийи». По Дикону, конститутивное отсутствие встречается не только в мире артефактов и людей. Такого рода отношение к тому, что отсутствует во времени или пространстве, является ключевым в биологии и для любого вида самости (см. Deacon, 2012: 3). Это указывает на особый способ того, как «в мире разума ничто (т. е. то, чего нет) может быть причинои» (Bateson, 2000a: 458, цит. в: Deacon, 2006 [Беитсон Гр. Форма вещество и различие // Беитсон Гр. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М., 2000. С. 417]).
Далее в этой и последующих главах речь пойдет о том, что конститутивное отсутствие лежит в основе эволюционных процессов. Тот факт, что ряд поколений все более соответствует определенным условиям окружающей среды, является результатом «отсутствия» всех прочих рядов поколений, которые были исключены. Самые различные знаковые процессы (а не только те, что напрямую связаны с биологической жизнью) обретают значение благодаря отсутствию: иконичность – продукт того, что осталось незамеченным; индексальность подразумевает предсказание того, чего еще нет; символическая референция посредством сложного процесса, включающего иконичность и индексальность, указывает на отсутствующие миры и изображает их благодаря своей встроенности в символическую систему, образующую отсутствующий контекст для значения любого произнесенного слова. В «мире разума» конститутивное отсутствие – это опосредованный способ, с помощью которого отсутствующее будущее влияет на настоящее. Поэтому целесообразно рассматривать телос – то будущее, ради которого что-либо существует в настоящем, – как реальную каузальную модальность в любом проявлении жизни (см. Deacon, 2012).
Постоянная игра между присутствием и различными видами отсутствия дает знакам жизнь. Благодаря этому знаки не просто следствие того, что было до них. Эта игра делает их образами и намеками на что-то потенциально возможное.
Описанные выше падающие пальмы, прыгающие обезьяны и такие «слова», как цупу, помогают нам понять, что репрезентация представляет собой нечто более общее и широко распространенное, чем человеческий язык. Эти случаи демонстрируют, что свойства других модусов репрезентации весьма отличны от свойств символических модальностей, от которых зависит язык. Одним словом, рассмотрение знаков, появляющихся и передающихся по ту сторону символического, помогает нам осознать необходимость «провинциализировать» язык.
Мой призыв к провинциализации языка отсылает к работе Дипеша Чакрабарти «Провинциализируя Европу» (2000), критически рассматривающей тот факт, что ученые, занимающиеся исследованиями стран Южной Азии, при анализе местных реалий опираются исключительно на западные социальные теории. Провинциализировать Европу – значит осознать, что эти теории (а также их предположения о прогрессе, времени и т. д.) выросли из определенного европейского контекста. По мнению Чакрабарти, социальные теоретики Южной Азии игнорируют специфику контекста и применяют эти теории так, словно они универсальны. Чакрабарти призывает нас задуматься о том, какого рода теория могла бы возникнуть в Южной Азии и других регионах, если бы мы обозначили пределы европейских теорий, которые мы считаем универсальными.
Показывая, что формирование корпуса социальной теории зависит от конкретного контекста и что существуют другие контексты, в которых эта теория неприменима, Чакрабарти косвенно утверждает о символических свойствах реалий, которые эта теория пытается понять. Контекст является следствием символического. Иными словами, без символов у нас бы не было лингвистического, социального, культурного и исторического контекстов в привычном нам понимании. Однако такой контекст не в полной мере создает и описывает нашу реальность: мир не ограничивается символами, и социальная теория должна учитывать это.
Аргумент Чакрабарти сформулирован в рамках гуманистических представлений о социальной реальности и потенциальной теории для ее рассмотрения. Таким образом, если воспринимать этот аргумент буквально, его применение в антропологии по ту сторону человека весьма ограничено. Тем не менее провинциализация кажется мне полезной метафорой, напоминающей нам о том, что символические сферы, их свойства и анализ всегда ограничены более широким семиотическим полем.
Необходимость провинциализировать язык продиктована тем, что объединение репрезентации и языка отражается в нашей теории. Мы обобщаем эту человеческую склонность, предполагая, что любая репрезентация исходит от человека и обладает языковыми свойствами. То, что стоило бы обозначить как нечто уникальное, ложится в основу наших предположений о репрезентации.
Мы, антропологи, обычно рассматриваем репрезентацию как исключительно человеческое занятие. При этом мы обращаем внимание только на символическую репрезентацию, то есть на семиотическую модальность, присущую исключительно человеку[28]. Символическая репрезентация, наиболее явно воплощенная в языке, является общепринятой и «произвольной»; она встроена в систему других подобных символов, которая, в свою очередь, поддерживается социальными, культурными и политическими контекстами, обладающими схожими системными и конвенциональными свойствами. Ранее я упоминал, что система репрезентации, ассоциируемая с Соссюром и лежащая в основе значительной части современной социальной теории, имеет дело только с этим произвольным и конвенциональным знаком.
Есть еще одна причина провинциализировать язык: мы смешиваем язык с репрезентацией, даже если наш теоретический инструментарий напрямую не основан на языке или символах. Это смешение наиболее явно прослеживается в наших представлениях об этнографическом контексте. Подобно тому как слова приобретают смысл только в более широком контексте других слов, с которыми они системным образом связаны, антропологическая аксиома гласит, что социальные факты можно понять, только осмыслив их положение в контексте, созданном другими такими фактами. То же относится к паутинам культурных значений или сетям дискурсивной истины, обнаруживаемой генеалогией Фуко.
Однако понимаемый таким образом контекст – свойство общепринятой символической референции, создающей лингвистические, культурные и социальные реалии, отделяющие сферу человеческого. Он плохо применим в семиотических сферах, не ограниченных символами, например, в отношениях между людьми и животными. Иконические и индексальные репрезентативные модальности, общие для всех форм жизни, не зависят от контекста в той же мере, что и модальности символические. То есть такие репрезентативные модальности, в отличие от символических, не функционируют в связанной системе знаковых отношений – контексте. Поэтому в некоторых семиотических сферах контекст неприменим, и даже в тех сферах (например, человеческих), на которые контекст распространяется, он не является герметичным (это станет ясно при рассмотрении того, что лежит по ту сторону человека). Вкратце, комплексное целое является открытым целым – отсюда и название этой главы. Открытое целое, в свою очередь, выходит за пределы человека – отсюда и антропология по ту сторону человека.
Объединение репрезентации и языка, то есть предположение, что любая репрезентация обладает символическими свойствами, сохраняется даже в направлениях, занимающих критическую позицию по отношению к существующим культурным, символическим и лингвистическим подходам. Это заметно в классической материалистической критике символического и культурного, но также и в более современных феноменологических подходах, которые в попытке избежать антропоцентрической перспективы обращаются к телесным опытам, присущим не только людям (см. Ingold, 2000; Csordas, 1999; Stoller, 1997). Стоит отметить, что это также прослеживается в концепции мультинатурализма, предложенной Эдуарду Вивейрушем де Кастру (подробнее о ней речь пойдет во второй главе). Когда Вивейруш де Кастру пишет, что «перспектива – это не репрезентация, потому что репрезентации являются свойством разума или духа, тогда как точка зрения находится в теле» (1998: 478), он полагает, что внимание к телу и его природе поможет нам уйти от трудных вопросов, связанных с репрезентацией.
Параллели между людьми, культурой, разумом и репрезентацией, c одной стороны, и нечеловеческими существами, природой, телами и материей, с другой, остаются незыблемыми даже в постгуманистических подходах, которые стремятся размыть границы, проведенные ранее для того, чтобы объяснить оторванност человека от остального мира. По замечанию Джейн Беннет (2010), это справедливо и в отношении подхода Делёза, который полностью отрицает аналитическую ценность репрезентации и телоса, видя в них в лучшем случае исключительно человеческие ментальные занятия.
Схожая ситуация наблюдается в попытках исследований науки и технологий (science and technology studies – STS), особенно тех, что связаны с именем Бруно Латура, выровнять дисбаланс между бесчувственной материей (unfeeling matter) и испытывающими желание людьми (desiring humans). Для этого люди лишаются некоторой доли своей интенциональности (intentionality) и символического всемогущества, тогда как вещам приписывается большая агентность. Так, например, предложенный Латуром образ «речевых препятствий» – попытка найти средства выражения, которые бы преодолели аналитический разрыв между говорящими учеными и предположительно безмолвными объектами исследования. Он пишет: «Говоря о науке, лучше невнятно бормотать [have marbles in one’s mouth – буквально “говорить со стеклянными шариками во рту”. – Пер.], чем бездумно скатиться от безмолвных вещей к неоспоримому слову эксперта» (2004: 67). Чтобы рассматривать людей и нечеловеческих сущностей с одинаковых позиций, Латуру, объединяющему репрезентацию и человеческий язык, остается в буквальном смысле перемешивать язык и вещи – говорить со стеклянными шариками во рту. Однако такое решение лишь увековечивает картезианский дуализм, поскольку атомарными элементами остаются либо человеческий разум, либо бесчувственная материя, пусть они и перемешаны более тщательно, чем мог себе вообразить Декарт, и даже если считать, что смешение предшествовало их появлению. Этот анализ смешения создает маленьких гомункулов на всех уровнях. Дефис в понятии Латура (1993: 106) «природа-культура» («natures-cultures») – новый эпифиз в маленьком картезианском мозге, непреднамеренно порождаемый этим анализом. Антропология по ту сторону человека пытается выйти за рамки такого анализа смешения.
Стирая границы между человеческим разумом и остальным миром, равно как и стремясь к симметрическому смешению разума и материи, мы только способствуем возникновению этого разрыва в других местах. В этой главе я делаю важное заявление, на котором строится дальнейшая аргументация: отказ от репрезентации (а заодно от телоса, интенциональности, «предметности» и самости) или проецирование человеческих видов репрезентации на другие области – не самый действенный способ преодолеть этот дуализм. Вместо этого нужно в корне пересмотреть, что мы понимаем под репрезентацией. Для этого нам нужно сначала провинциализировать язык. Выражаясь словами Вивейруша де Кастру, необходимо «деколонизировать мысль», чтобы увидеть, что мышление вовсе не обязательно ограничивается языком, символами или человеком.
Это подразумевает переосмысление того, кто может репрезентировать, а также того, что считать репрезентацией. Кроме того, необходимо понять, как работают и взаимодействуют друг с другом разные виды репрезентации. Какие жизненные формы принимает семиозис, обойдя ловушки, расставленные человеческим разумом, и оказавшись за пределами сугубо человеческих возможностей (скажем, способность использовать язык) и вопросов, порожденных этими возможностями? Антропология по ту сторону человека побуждает нас исследовать то, как выглядят знаки по ту сторону человека.
Возможно ли такое исследование? Или же слишком человеческие контексты, в которых мы живем, препятствуют этому предприятию? Неужели мы навсегда останемся в ловушке нашего мышления, опосредованного языком и культурой? Я думаю, что нет: более полное понимание репрезентации, учитывающее, что этот исключительно человеческий вид семиозиса вырос из более распространенных видов репрезентативной модальности и постоянно с ними взаимодействует, поможет прийти к более плодотворному и надежному аналитическому решению этого устойчивого дуализма.
Не только люди совершают поступки ради будущего, репрезентируя его в настоящем. В том или ином виде это делают все живые самости. Репрезентация, цель и будущее существуют в мире, причем не только в той его части, которую мы называем человеческим разумом. Поэтому уместно сказать, что у живого мира есть агентность, выходящая за пределы человека. И все же свести агентность к причине и следствию – «влиянию» – значит обойти стороной тот факт, что и человеческое, и нечеловеческое «мышление» наделены агентностью. Свести агентность к своего рода общей предрасположенности, присущей не только людям (такой подход включает также и объекты), на основании того, что все эти сущности можно репрезентировать (или же они могут смешивать эти репрезентации) и они могут участвовать в некотором человекоподобном повествовании, – значит упростить это мышление. При таком допущении мы теряем способность различать виды мышления и неразборчиво приписываем логику человеческого мышления, основанного на символической репрезентации, любой сущности.
Задача заключается в том, чтобы остраниться (defamiliarize) от условного знака, свойства которого кажутся нам такими естественными, потому что они охватывают все, что так или иначе связано с человеком и с тем, что люди надеются узнать. Из-за того, что мы можем почувствовать цупу, не зная кечуа, язык кажется нам странным. Оказывается, не все знаки, которыми мы обмениваемся, являются символами, и несимволические знаки могут вырваться из такого ограниченного символического контекста, как язык. Это объясняет не только то, что мы можем почувствовать цупу без знания кечуа, но и то, почему Иларио может общаться с несимволическим существом. Прыжок испуганной обезьяны и вся поддерживающая ее экосистема образуют сеть семиозиса, в которой характерный для охотников-людей семиозис является лишь одной ее нитью.
Одним словом, знаки присущи не только человеку. Знаками пользуются все живые существа. Следовательно, мы, люди, имеем дело со множеством проявлений семиотической жизни. Наш исключительный статус – отнюдь не обнесенный стенами лагерь, который мы когда-то считали своим домом. Антропология, в центре внимания которой – отношения людей с нечеловеческими существами, заставляет нас сделать шаг за пределы человеческого. В процессе то, что мы считали человеческой долей, а именно парадоксальный и «провинциализированный» факт, что мы рождены, чтобы жить в «неестественном», сконструированном мире, начинает казаться немного странным. Научиться осознавать это – важная задача для антропологии по ту сторону человека.
Особенности жизни в Амазонии увеличивают и делают более заметными сети семиозиса, которые шире, чем те, что свойственны человеку. Позволив лесам Амазонии мыслить посредством нас, мы сможем осознать то, что мы тоже включены в эти сети, и научиться концептуализировать данный факт.
Вот что привлекло меня к этому региону. Однако я также многому научился благодаря тому, что обращал внимание на те времена, когда ощущал себя отрезанным от более широких семиотических сетей, простирающихся за пределы символического. Представленные ниже рассуждения навеяны одной из многочисленных поездок на автобусе из Кито в район Амазонии. Я передаю ощущения от произошедшего со мной во время этой поездки, а не потакаю своим слабостям, потому что, как мне кажется, это обнаруживает особое качество символического образа мышления, согласно которому символическая мысль должна вырваться из широкого семиотического поля, в котором она возникла, тем самым отделив нас от окружающего мира. Этот опыт как таковой может научить нас также пониманию отношений между символической и другими формами мировой мысли, с которыми она сосуществует и из которых она возникла. В этом аспекте обсуждение моего опыта также является частью более широкой развиваемой в последующих двух разделах критики дуалистических представлений, лежащих в основе многих аналитических моделей. Отклоняясь от основной линии повествования, я исследую опыт дуалистического становления (becoming dual) и ощущение утраты более широкого семиотического окружения, с которыми я столкнулся во время поездки в Эль-Ориенте – район Амазонии, расположенный на территории Эквадора к востоку от Анд. Я надеюсь, что этот рассказ позволит не только перевести дух от проделанной в этой главе концептуальной работы, но и составить некоторое представление об укорененности Авилы в историческом ландшафте. В этом путешествии прослеживаются маршруты многих других поездок, опутывающие это место самыми разными сетями.
Последние несколько дней на восточных склонах Анд было необычайно дождливо, и главную дорогу, ведущую в долину, периодически размывало. Вместе с моей кузиной Ванессой, приехавшей в Эквадор проведать родственников, мы сели в автобус до Ориенте. За исключением группы испанских туристов, занимавших задние места, автобус был набит местными жителями: как из поселений, расположенных вдоль нашего пути, так и из Тены, столицы провинции Напо и конечной точки маршрута. Я уже неоднократно проделывал этот путь. Мы собирались проехать по всему маршруту: от вершин Кордильер к востоку от Кито, отделяющих бассейн Амазонки от окруженной Андами долины, до самой низины, минуя деревушку Папайакта, раскинувшуюся в туманном лесу на месте доколумбовского поселения вдоль одного из основных торговых путей, по которому курсировали товары между горами и равнинами (см. рис. 1 на с. 32). Сегодня Папайакта – важная станция перекачки ресурсов Амазонии, например, сырой нефти, открывшей в 1970-х перед Ориенте путь к развитию и с тех пор преобразовавшей экономику страны. Кроме того, с недавнего времени с обширного водораздела к востоку от Анд отводится питьевая вода для Кито. Эта деревушка, расположенная в горной цепи с регулярной геологической активностью, славится своими горячими источниками. Сегодня в Папайакте, как и во многих других городках на нашем пути по туманным лесам, живут в основном выходцы с гор. Дорога прорезает скалистые ущелья в долине реки Кихос; в доколумбовскую и раннюю колониальную эпоху здесь располагалась цитадель альянса племенных вождей Кихос. Предки руна из Авилы были частью этого альянса. Расчищая лесистые склоны под пастбища, фермеры часто выставляют на обозрение тысячелетние террасы жилых домов. Далее дорога следует по старым пешеходным тропам, которые до 60-х годов XX века соединяли Авилу и другие деревни равнинных руна с Кито – тогда это непростое путешествие занимало восемь дней. Мы проезжаем по этому пути, минуя городок Баеза, который, подобно Авиле и Арчидоне, был в числе первых испанских поселений в Верхней Амазонии. Баеза была почти полностью разграблена и разрушена во время уже упомянутого регионального восстания коренного населения в 1587 году. Восстание, вспыхнувшее после того, как шаману явился бог в обличье коровы, полностью уничтожило Авилу и почти всех испанцев. После крупного землетрясения в 1987 году Баеза была перенесена на несколько километров и сегодня мало чем напоминает тот исторический город. На подъезде к нему дорога разветвляется. Одно ответвление уходит на северо-восток по направлению к городку Лаго-Агрио. Название этого первого крупного центра нефтедобычи в Эквадоре буквально переводится как «кислое озеро» – именно в месте с таким названием была открыта нефть в штате Техас и основан концерн Texaco. Другая дорога – по ней мы и направляемся – следует по более старому пути к городку Тена. В 1950-х Тена служила границей между цивилизацией и «дикими» язычниками (ваорани) на востоке. Сегодня это симпатичный городок. Преодолев отвесный подъем, мы пересекаем реку Косанга, где сто пятьдесят лет назад итальянского исследователя Гаэтано Оскулати бросили его проводники-руна; в результате он провел в одиночестве несколько жутких ночей, стараясь не подпустить к себе ягуаров (Osculati, 1990). После этого нас ожидает финальный переход через Кордильеру Гуакамайос, последнюю горную гряду, которую предстоит пересечь перед спуском в теплые долины, ведущие в Арчидону и Тену. В ясный день отсюда видны сверкающие отражения металлических крыш в Арчидоне, а также дорога, ведущая из Тены до Пуэрто-Напо, где она прорезает краснозем в отвесном склоне горы. Пуэрто-Напо – давно заброшенный «порт» на реке Напо (отмечен маленьким якорем на рис. 1), впадающей в Амазонку. К несчастью, он находится вверх по течению от опасного водоворота. В безоблачную погоду отсюда виден и конус вулкана Сумако, у подножья которого раскинулась Авила. Территория почти в двести тысяч гектаров, охватывающая пик и его склоны, признана биосферным заповедником и находится под охраной. Заповедник, в свою очередь, окружен куда большей по площади территорией национального парка. С этими обширными землями Авила граничит на западе.
Когда мы покидаем горы и проезжаем небольшие поселения равнинных руна, воздух становится теплее и тяжелее. На следующей развилке, за час до прибытия в Тену, мы пересаживаемся на другой автобус, курсирующий по этому куда более локальному и индивидуальному маршруту. На этой дороге водитель автобуса может остановиться, чтобы выступить посредником в покупке нескольких ящиков кислых фруктов нараньилла, из которых делают сок на завтрак по всей стране[29]. Или его можно убедить подождать несколько минут какого-нибудь пассажира. Эта дорога относительно новая, ее построили после землетрясения 1987 года усилиями (не совсем бескорыстными) инженерных войск США. Она огибает нижние склоны вулкана Сумако, проходит вдоль Амазонской низменности в Лорето и заканчивается в городке Кока, где сливаются реки Кока и Напо. Как и Тена, но несколькими десятилетиями позже, Кока служила пограничной заставой государства Эквадор, чей контроль распространялся вглубь региона. Эта дорога проходит через бывшую охотничью территорию руна – деревни Котапино, Лорето, Авила и Сан-Хосе, которые наряду с немногочисленными асьендами (имения, находящиеся во владении белых) и католической миссией в Лорето были единственными поселениями в этом районе вплоть до 1980-х. Сегодня значительные участки бывшей охотничьей территории заняты чужаками: либо руна, переселившимися из более густонаселенного региона Арчидоны (жители Авилы называют их боулу, от испанского слова pueblo, имея в виду то, что они более городские), либо же мелкими фермерами и торговцами родом с побережья или гор, которых часто называют колонос (или яхуа ллакта на кечуa; буквально – «горцы»).
Сразу после пересечения огромного разборного стального моста (одного из нескольких сооружений в округе, построенных американской армией), соединяющего берега реки Суно, мы высаживаемся в Лорето, окружном центре и самом большом городе на нашем пути. Мы проводим ночь здесь, в миссии Джозефин, которой руководят итальянские священники. На следующий день мы проделываем обратный путь – то пешком, то в пикапе, вновь пересекаем мост и следуем по проселочной дороге, тянущейся вдоль реки Суно через пастбища и фермы колонистов, пока перед нами не показывается тропа, ведущая в Авилу. Строительство дорог в восточном Эквадоре происходит урывками и растягивается на долгие годы. Активизация работ обычно совпадает с местными избирательными кампаниями. Когда я впервые оказался в Авиле в 1992 году, из Лорето в нее вели лишь пешие тропы, и дорога до дома Иларио занимала у меня большую часть дня. Во время моего последнего визита до самой восточной точки Авилы в сухой день можно было добраться на пикапе.
По этому маршруту мы и собирались проследовать с Ванессой. В действительности же в тот день мы не добрались даже до Лорето. Недалеко от Папайакты мы столкнулись с первой чередой оползней, вызванных проливными дождями. И пока наш автобус вместе с растущей вереницей грузовых автомобилей, автоцистерн, автобусов и легковых машин ждал, пока все расчистят, мы оказались в ловушке из-за другого оползня, случившегося позади нас.
Это обрывистая, нестабильная и опасная местность. Оползни вызвали в моей памяти смесь тревожных образов, накопившихся за десятилетия путешествий по этой дороге: змея неистово извивается в огромном грязевом потоке, обрушившемся на дорогу за мгновение до нашего появления; стальной мост, согнутый пополам, как банка из-под содовой, раздавленный массой камней и земли, сползающей под тяжестью горы; утес с пятнами желтой краски – единственным напоминанием об автофургоне, вылетевшем в овраг прошлой ночью. Однако, как правило, оползни вызывают лишь задержки в движении. Участки дороги, которые не удается быстро расчистить, становятся площадками для трасбордос (trasbordos): здесь останавливаются автобусы, не имеющие возможности достичь пункта назначения, и их водители, обменявшись пассажирами, поворачивают назад.
В тот день о трасбордо не было и речи. Движение было затруднено в обе стороны, и мы оказались в ловушке из-за череды оползней, случившихся на протяжении нескольких километров. И тут возвышающаяся над нами гора начала оползать. Один из камней обрушился на нашу крышу. Мне было страшно.
Однако кроме меня никто, казалось, не думал, что мы в опасности. Вероятно, благодаря крепким нервам, фатализму и, прежде всего, вследствие необходимости завершить эту поездку ни водитель, ни его ассистент ни на секунду не утратили хладнокровия. Это я еще мог понять. Озадачили меня туристы – испанки средних лет, забронировавшие поездку по дождевым лесам и деревням коренных народов, разбросанным вдоль реки Напо. Пока я переживал, эти женщины шутили и смеялись. Одна из них даже вышла из автобуса и, минуя несколько машин, купила в автолавке ветчину и хлеб и начала делать бутерброды для своей группы.
Этот диссонанс между беспечностью туристов и одолевшим меня чувством опасности породил во мне странное ощущение. По мере того как увеличивалось расстояние между моей неутихающей тревогой («а что если») и беззаботно болтающими туристами, то, что сначала было рассеянным чувством неловкости, вскоре переросло в глубокую отчужденность.
Несоответствие между моим восприятием мира и тем, как его воспринимают другие, разобщило меня с миром и его обитателями. Я остался наедине со своими мыслями о грядущей опасности, которые постепенно начали выходить из-под контроля. А затем произошло нечто еще более огорчительное. Почувствовав, что мои мысли не в ладу с мыслями окружающих, я начал сомневаться в их связи с тем, что, как я был уверен, всегда придет мне на помощь, – моим собственным телом, которое служило пристанищем моих мыслей и находилось в мире, чью осязаемую реальность я разделял с другими. Иными словами, меня охватило смутное ощущение того, что я существую вне места, будто бы меня вырвали с корнем, а это ставило под вопрос все мое существование. Если опасности, в которой я был так уверен, не существовало – в конце концов, никто из пассажиров не боялся обрушения горы, – то с какой стати мне доверять своей телесной связи с этим миром? Почему я должен доверять «моей» связи с «моим» телом? И если у меня не было тела, то что тогда было «мной»? Был ли я вообще жив? В результате таких рассуждений мои мысли совсем вышли из-под контроля.
Чувство глубочайшего сомнения, ощущение оторванности от собственного тела и от мира, в чье существование я перестал верить, не покинуло меня и спустя несколько часов, когда дорогу расчистили от оползней и мы смогли продолжить путь. Чувство не ослабло и по прибытии в Тену (было уже слишком поздно, чтобы добраться до Лореты). Мое самочувствие не слишком улучшилось, даже когда я оказался в своем проверенном убежище – отеле El Dorado. Эта простая, но уютная семейная гостиница служила моим перевалочным пунктом, когда я исследовал общины руна на реке Напо[30]. Гостиницей владел дон Салазар, ветеран (что подтверждается шрамом) непродолжительной войны между Эквадором и Перу, в которой Эквадор потерял треть своей территории и выход к реке Амазонке. Название гостиницы, El Dorado, напоминает об этой потере и отдает дань уважения недостижимому Городу Золота, расположенному где-то в глубине лесов Амазонии (см. Slater, 2002; см. также Главы 5 и 6).
Наутро, после мучительной ночи, я все еще пребывал в расстроенных чувствах. Я продолжал прокручивать в голове сценарии опасного развития событий и по-прежнему ощущал оторванность от собственного тела и окружающих людей. Разумеется, я всячески это скрывал и пытался вести себя нормально, но из-за того, что я не давал своим чувствам выхода, моя тревога только усиливалась. И вот я отправился со своей кузиной на короткую прогулку вдоль берега реки Мисахуали, разделяющей городок Тена на две части. Через несколько минут на заброшенной городской окраине, где заплесневевшие шлакоблоки соседствуют с гладкой речной галькой, я заметил птицу-танагра, которая клевала что-то в кустах. Я захватил с собой бинокль, и спустя некоторое время мне удалось установить местоположение птицы. Я крутил ручку фокусировки, и, когда толстый черный клюв птицы стал резким, что-то во мне тут же переменилось. Мое ощущение оторванности просто растворилось. И, подобно танагру, приобретшему четкие очертания, я внезапно вернулся в лоно жизни.
То, что я почувствовал во время поездки в Ориенте, называется ощущением тревоги (anxiety). После прочтения книги «Конструирование паники» (Constructing Panic, 1995) – замечательного исследования ныне покойного психолога Лизы Кэпс и лингвистического антрополога Элеонор Окс, в котором они рассказывают о женщине, всю жизнь боровшейся с ощущением тревоги, я понял, что это состояние сообщает нечто важное о специфических свойствах символической мысли. Вот как Мег, героиня книги, описывает удушающий груз возможного будущего, которое разворачивается перед нами благодаря символическому воображению:
«Порой в конце дня я чувствую себя измученной всеми этими “а что, если бы это случилось” и “что, если это произойдет”. А потом я осознаю, что все это время я просто сидела на диване – я сама и мои мысли сводят меня с ума (Capps and Ochs, 1995: 25)».
Кэпс и Окс описывают Мег как «отчаянно желающую ощутить ту реальность, в которой, по ее мнению, пребывают нормальные люди» (25). Мег чувствует себя «отрезанной от себя и своего окружения, которое обычно осознается как знакомое и познаваемое» (31). Она чувствует, что ее опыт не соответствует тому, что, по мнению других, «произошло» (24), и поэтому ей не с кем разделить свое видение мира или поделиться рассуждениями о том, как он устроен. Кроме того, она нигде не чувствует себя на своем месте. Мег часто использует конструкцию «вот и я», чтобы выразить свое обременительное экзистенциальное положение, но ключевой элемент здесь отсутствует: «она говорит своим собеседникам, что существует, но не сообщает при этом место своего нахождения» (64).
По замыслу авторов, название «Конструирование паники» должно отсылать к тому, как Мег дискурсивно конструирует свой опыт паники. Авторы предполагают, что «рассказанные истории конструируют то, кем люди являются и как они видят мир» (8). На мой взгляд, название сообщает о панике даже нечто большее. Тревога обязана своим существованием именно конструктивному качеству символической мысли, благодаря которому она может создать множество вымышленных миров. Дело не только в том, что Мег конструирует свой опыт паники лингвистически, социально, культурно – иными словами, символически; скорее, чувство паники сигнализирует о том, что символическое конструирование вышло из-под контроля.
Читая у Кэпс и Окс об ощущении паники Мег и рассуждая об этом с позиций семиотики, я, кажется, понял, что произошло со мной во время той поездки в Ориенте, осознал, что породило во мне панику и рассеяло ее. Как и в случае Мег, заметившей ростки тревожного состояния в ситуациях, когда общество не разделяло ее обоснованные страхи (31), моя тревога выросла из столкновения между моими оправданными страхами и беспечностью туристов в автобусе.
Символическая мысль, вышедшая из-под контроля, может привести к коренному разобщению между разумом и индексальным основанием, которым обычно служит тело. Наши тела, как и все в жизни, являются продуктами семиозиса. Наш чувственный опыт и, более того, основные клеточные и метаболические процессы опосредованы репрезентативными отношениями – впрочем, не обязательно символическими (см. Главу 2). Символическая мысль, вышедшая из-под контроля, может заставить нас чувствовать «себя» оторванными от всего: социального контекста, нашего окружения и, наконец, даже от собственных желаний и снов. В результате такого смещения мы начинаем сомневаться в индексальных связях, закрепляющих этот особый вид символического мышления в «наших» телах, которые сами по себе индексальным образом закреплены в мирах, простирающихся за пределы телесной оболочки: я мыслю, следовательно, я сомневаюсь в своем существовании.
Как такое возможно? И почему в таком случае все мы не пребываем в постоянном состоянии скептической паники? Тот факт, что мое ощущение тревожного отчуждения растворилось с появлением птицы в фокусе бинокля, помогает понять, при каких условиях символическая мысль может резко отделиться от мира и затем вернуться на прежнее место. Я никоим образом не хочу романтизировать тропическую природу или не считаю привилегией чью-либо связь с ней. Подобного рода перенесение (regrounding) может произойти где угодно. Тем не менее вид сидящего на кусте танагра позволил мне осознать, что погружение в эту особенно плотную экологию усиливает и проявляет более обширное семиотическое поле, выходящее за пределы поля исключительно человеческого, в котором мы все, как правило, находимся. При виде птицы ко мне вернулся рассудок: я осознал, что чувство коренного разобщения является частью чего-то большего. Благодаря этому эпизоду я снова очутился в более обширном мире «по ту сторону» человека. Мой разум опять стал частью более значительного разума. Мои мысли о мире вновь стали частью мировой мысли. Антропология по ту сторону человека пытается понять значение таких связей, осмысливая при этом причины человеческой склонности упускать их из виду.
Подобные размышления о чувстве паники заставили меня задуматься о способах теоретизации разобщенности, порождаемой символической мыслью. Мы склонны полагать, что символы присущи исключительно человеку, и вследствие этого являются чем-то новым (по крайней мере, в отношении жизни на земле), и ни коим образом не связаны со своим началом. В этом проявляется влияние Дюркгейма, убежденного в том, что социальные факты обладают своей оригинальной реальностью, которую можно понять только сквозь призму других социальных фактов, но не посредством чего-либо, предшествующего им, будь то из области биологии, физики или психологии (см. Durkheim, 1972: 69–73). Однако испытанное мной чувство глубокой разобщенности нестерпимо для психики и в каком-то смысле отрицает жизнь. Поэтому у меня вызывает сомнение любой аналитической подход, в основе которого лежит эта отделенность.
Если, как я считаю, мысли человека неразрывно связаны с мыслями леса, будучи так или иначе порожденными жизненным семиозисом (см. Главу 2), то антропология по ту сторону человека должна выработать способы рассмотрения отличительных черт человеческой мысли, не теряя при этом из виду ее связь с более всеобъемлющей семиотической логикой. Концептуальное рассмотрение связи этой новой динамики с источником своего происхождения может помочь нам лучше понять отношение между тем, что нам кажется сугубо человеческим, и тем, что находится по ту сторону человека. В связи с этим я бы хотел поразмышлять над тем, чему паника и особенно ее прекращение меня научили. Опираясь на ряд примеров из Амазонии, я продемонстрирую, что иконические, индексальные и символические процессы вложены друг в друга. Существование знаков-символов зависит от знаков-индексов, а знаки-индексы зависят от знаков-икон. Благодаря этому мы можем осознать уникальность каждого вида знака, учитывая при этом их неразрывную связь друг с другом.
Вслед за Диконом (Deacon, 1997) я начну с неожиданного примера, который можно встретить на границе семиозиса. Обитающее в Амазонии насекомое с загадочной маскировкой известно нам как палочник, потому что его удлиненное туловище напоминает веточку. На языке кечуа это насекомое называют шанга. Энтомологи называют его, в соответствии с установленным порядком, фазмидом (немного созвучно с фантомом), относя к отряду Phasmida и семейству Phasmidae. Вполне подходящее название. Эти создания отличает как раз таки отсутствие отличия: они растворяются в окружении, словно призраки. Как у них это получается? Их эволюция сообщает нечто важное о «призрачных» логических свойствах семиозиса, которые, в свою очередь, помогут нам понять некоторые парадоксальные свойства «самой жизни», которые особенности жизни Амазонии и жизни руна подчеркивают. Поэтому я буду обращаться к данному примеру на протяжении всей книги. В этом случае я прибегаю к нему, чтобы понять уникальные свойства различных семиотических модальностей (иконических, индексальных и символических) и их взаимное переплетение.
Как палочники стали невидимыми, словно призраки? Вопреки нашему обычному представлению о природе сходства, тот факт, что фазмида выглядит как палочка, не зависит от того, заметит ли кто-нибудь сходство между ними. Скорее, это сходство является результатом того, что предки потенциальных хищников не заметили предков палочника, потому что не смогли заметить различий между ними и настоящими палочками. В ходе эволюции выжили те ряды поколений палочников, которые были наименее заметны. Благодаря всем тем протопалочникам, которые отличались от окружающей среды и потому были замечены и съедены, палочники стали напоминать мир окружающих их палочек[31].
Обретенная палочниками незаметность раскрывает важные свойства иконичности. Этот базовый знаковый процесс кажется крайне противоестественным, поскольку он не проводит различия между двумя объектами. В нашем представлении иконические знаки указывают на сходство между объектами, которые, как мы знаем, различны. Нам известно, например, что иконическое контурное изображение мужчины на двери туалета – не тот же человек, который может войти в эту дверь. Когда мы сосредоточиваемся на подобных примерах, от нас ускользает более глубокое понимание иконичности. Семиозис начинается не с осознания сходства или различия. Скорее, он начинается с незамечания различия. Он начинается с отсутствия различия. Поэтому иконичность находится на самой границе семиозиса (ведь нет ничего семиотического в том, чтобы никогда ничего не замечать). Иконичность обозначает начало и конец мысли. Иконические знаки не создают новых интерпретантов – последующих знаков, конкретизирующих объекты (Deacon, 1997: 76, 77); с иконическими знаками мысль находится в состоянии покоя. Понимание чего-либо, сколь угодно условное, включает в себя иконический знак. Оно включает мысль, напоминающую свой объект. Оно включает образ, который выражает сходство с объектом. По этой причине в основе любого семиозиса в конечном счете лежит преобразование более сложных знаков в иконические (Peirce, CP 2.278).
Разумеется, знаки передают информацию. Они сообщают нам что-то новое. Они говорят нам о различии. Для этого они и существуют. Следовательно, семиозис должен включать в себя не только сходство. Он должен также включать семиотическую логику, которая указывает на что-то другое, то есть логику индексальную. Как соотносятся семиотическая логика сходства и логика различия? Вновь следуя за Диконом (1997), рассмотрим схематическое объяснение того, как шерстистая обезьяна, которую Иларио и Лусио пытались спугнуть со спрятанного в кроне дерева насеста, может научиться интерпретировать падающую пальму как знак опасности[32]. Оглушительный звук падения воскрешает в памяти обезьяны прошлые случаи. Эти звуки падения из прошлого в чем-то схожи: за ними обычно следовало нечто опасное, например, надломилась ветка или приблизился хищник. Кроме того, обезьяна может иконически связать прошлые угрозы друг с другом. Поэтому то, что звук падения дерева может обозначать опасность, является результатом иконической ассоциации одних громких звуков с другими, а также иконической ассоциации различных опасных событий. Неоднократное соединение этих двух наборов иконических ассоциаций способствует тому, что на этот раз внезапный громкий звук кажется связанным с ними. Но теперь эта ассоциация – больше, чем просто сходство. Она побуждает обезьяну «догадаться», что падение не произошло само по себе и должно быть связано с чем-то другим. Подобно тому как флюгер указывает не на себя, а на нечто другое – направление ветра, этот громкий шум является знаком-индексом и указывает на нечто большее, чем он сам, – нечто опасное.
Следовательно, индексальность подразумевает нечто большее, чем иконичность. Тем не менее она является результатом сложного иерархического набора ассоциаций между иконическими знаками. Логическое отношение между иконическими и индексальными знаками имеет одно направление. Знаки-индексы – продукт особого многоуровневого отношения между иконическими знаками, но не наоборот. Индексальная референция, как в случае с реакцией обезьяны на падение пальмы, является продуктом более высокого порядка, произведенным особым отношением между тремя иконическими знаками: падение вызывает в памяти другие падения; ассоциируемая с такими падениями опасность вызывает в памяти другие подобные ассоциации, которые, в свою очередь, ассоциируются с данным падением. Благодаря такой комбинации иконических знаков падение теперь указывает на то, чего непосредственно нет, то есть на опасность. Таким образом из иконических ассоциаций возникает индексальный знак. Особое отношение между иконическими знаками создает референцию, обладающую уникальными свойствами. Эти свойства неразрывно связаны с породившей их иконической ассоциативной логикой, которой они тем не менее не присущи. Индексальные знаки передают информацию; они сообщают нам что-то новое о том, чего в данный момент нет.
Знаки-символы, конечно, тоже передают информацию. Их действие одновременно связано и отличается от действия знаков-индексов. Если знаки-индексы являются продуктом отношений между знаками-иконами и демонстрируют свойства, отличные от свойств этих основополагающих знаков, то знаки-символы образованы отношениями между знаками-индексами и обладают собственными уникальными чертами. Отношения между ними также разворачиваются в одном направлении. Знаки-символы строятся на сложном многоуровневом взаимодействии между знаками-индексами, но самим индексам символы не нужны.
Слово (например, чоронго – одно из используемых в Авиле названий шерстистой обезьяны) является преимущественно символом. И хотя у него может быть индексальная функция, например, указывать на что-то (или, вернее, на кого-то), оно исполняет ее косвенно, в силу своего отношения с другими словами. То есть отношение такого слова к объекту – главным образом результат его конвенционального отношения с другими словами, а не просто функция соотношения знака и объекта, как в случае знака-индекса. Подобно тому как мы можем считать индексальную референцию продуктом особой комбинации иконических отношений, символическую референцию можно рассматривать как продукт особой комбинации отношений между индексальными знаками. Как индексы относятся к символам? Представьте себе изучение языка кечуа. Слово, например, чоронго выучить сравнительно легко. Можно довольно быстро запомнить, что оно обозначает шерстистую обезьяну. Само по себе это слово не функционирует символически. Отношение указания между этим «словом» и обезьяной главным образом индексальное. Это напоминает команды, которым обучают собак. Собака может ассоциировать «слово», например, «сидеть» с соответствующим поведением. Само по себе «сидеть» действует как знак-индекс. Собака может понять команду «сидеть», не улавливая символического значения слова. Однако в изучении человеческого языка далеко не уедешь, запоминая только слова и то, на что они указывают – индивидуальных отношений между знаком и объектом так много, что за всеми ними не уследить. Более того, механически запоминая корреляции между знаками и объектами, студент не улавливает логику языка. Возьмем более сложное слово, например куасангуичу, которое обсуждалось ранее в этой главе. Незнакомые с языком кечуа могут быстро запомнить, что это приветствие, используемое только в определенных социальных контекстах, но, чтобы действительно разобраться, что и как оно значит, необходимо понять, как оно соотносится с другими словами и даже более мелкими языковыми единицами.
И хотя такие слова, как чоронго, сит или каусангуичу, называют существующие в мире объекты, в символической референции индексальное отношение слова к объекту подчинено индексальным отношениям между словами в системе таких слов. Когда мы осваиваем иностранный язык или когда дети впервые учатся говорить, происходит переход от использования лингвистических знаков как знаков-индексов к их осознанию в более широком символическом контексте. Дикон (1997) описывает искусственные условия, где такой переход особенно очевиден. Он рассказывает о длительном лабораторном эксперименте, в рамках которого шимпанзе, в повседневной жизни умело интерпретирующие знаки индексальным образом, были обучены заменять эту интерпретативную стратегию на символическую[33].
В начале эксперимента шимпанзе должны были интерпретировать определенные знаковые средства, в данном случае клавиши, на которых были изображены различные формы как индексы определенных объектов или поступков (например, какая-либо еда или действие). Затем эти знаковые средства нужно было увидеть в системе индексальной связи друг с другом. Последний, самый сложный и важный этап эксперимента подразумевал интерпретативный переход, при котором объекты выбирались уже не напрямую при помощи индивидуальных индексальных знаков, но опосредованно, на основании того, каким образом репрезентирующие их знаки относились друг к другу, а также того, как эти знаковые отношения соотносились с предполагаемыми отношениями между объектами. Соответствие между этими двумя уровнями индексальных ассоциаций, связывающих объекты с объектами и знаки со знаками, является иконическим (Deacon, 1997: 79–92). Оно подразумевает, что мы игнорируем индивидуальные индексальные ассоциации, посредством которых знаки выделяют объекты, дабы увидеть более всеобъемлющее сходство между отношениями, связывающими систему знаков, и отношениями, связывающими набор объектов.
Сейчас я могу объяснить чувство оторванности, испытанное мной как паника во время описанной выше автобусной поездки, – чувство, которое создают символы. Для этого я обращусь к более базовым формам референции, к которым они относятся и с которыми неразрывно связаны.
Символы служат ярким примером динамики, которую Дикон называет «эмерджентной». По его мнению, при эмерджентной динамике определенные комбинации ограничений возможности формируют абсолютно новые свойства на более высоком уровне. При этом крайне важно, что эмерджентное никогда не оторвано от того, откуда оно произошло и внутри чего находится, потому что его свойства по-прежнему зависят от более базовых уровней (Deacon, 2006). Чтобы рассмотреть символическую референцию как эмерджентную по отношению к другим семиотическим модальностям, для начала стоит присмотреться к работе эмерджентности в нечеловеческом мире.
Дикон выделяет серию вложенных эмерджентных порогов (emergent thresholds), среди которых важной является самоорганизация. Последняя включает стихийное зарождение, поддержание и распространение формы при соответствующих обстоятельствах. Несмотря на свою недолговечность и редкость, самоорганизация встречается в неживом мире. Среди примеров самоорганизующейся эмерджентной динамики – водовороты, которые иногда формируются в реках Амазонии, или геометрическая решетка кристаллов и снежинок. Самоорганизующаяся динамика является более правильной и ограниченной, чем физическая энтропическая динамика, из которой она происходит и от которой зависит (пример энтропической динамики – самопроизвольный поток тепла из более теплой части комнаты в более прохладную). Сущности, демонстрирующие самоорганизацию, например кристаллы, снежинки или вихри, являются неживыми. И, несмотря на название, у них нет самости.
Жизнь представляет собой следующий эмерджентный порог, вложенный в самоорганизацию. Живая динамика, представленная даже простейшими организмами, выборочно «помнит» свои специфические комбинации самоорганизации, различным образом сохраненные в поддержании того, что мы можем понять как самость; это форма, которая воспроизводится и распространяется из поколения в поколение, при этом все больше соответствуя окружающему ее миру. В следующих главах я подробно остановлюсь на том, что живая динамика семиотична по своей сути. Семиозис жизни является и иконическим, и индексальным. Символическая референция, делающая людей уникальными, является эмерджентной динамикой, вложенной в более широкий семиозис жизни, из которого она происходит и от которого зависит.
Самоорганизующаяся динамика отличается от физических процессов, из которых она возникает, с которыми образует неразрывную связь и внутрь которых вложена. Схожие отношения связывают живую динамику и самоорганизующуюся динамику, из которой она, в свою очередь, происходит; подобным образом этот символический семиозис относится к более широким иконическим и индексальным семиотическим процессам жизни, в которых он возникает (Deacon, 1997: 73)[34]. Следовательно, эмерджентная динамика имеет направление – как в логическом, так и онтологическом смысле. Иными словами, в мире, который характеризуется самоорганизацией, не обязательно есть жизнь, а живой мир может существовать без символического семиозиса. Но в живом мире должна быть самоорганизация, а символический мир обязательно вложен в семиозис жизни.
Теперь я могу вернуться к эмерджентным свойствам символической репрезентации, являющейся эмерджентной по отношению к иконический и индексальной референции. Как и в других видах эмерджентной динамики, системная структура отношений между символами не предопределяется в предшествующих ей способах референции (Deacon, 1997: 99). Подобно другим видам эмерджентной динамики, символы обладают уникальными свойствами. Тот факт, что символы обретают силу референции на основании системных отношений друг с другом, свидетельствует о том, что, в отличие от индексов, они могут сохранять эту силу даже в отсутствие объектов, на которые они ссылаются. Вот что обуславливает уникальные свойства символов и позволяет символической референции описывать не только то, что присутствует здесь и сейчас, но и различные «что, если». В символической сфере отделение от материальности и энергии может быть настолько велико, а причинные связи настолько запутанны, что референция приобретает подлинную свободу. Из-за этого сформировалось представление о ее радикальном отделении от мира (см. также Peirce, CP 6.101).
И все же, подобно другим видам эмерджентной динамики, например водовороту, сформированному течением реки, символическая референция тесно связана и с более базовыми видами динамики, из которых она происходит. Это справедливо в отношении как конструирования символов, так и способа их интерпретации. Символы – результат особого отношения между индексами, которые, в свою очередь, возникают из особого отношения, связывающего иконы. Символическая интерпретация работает посредством объединения в пары индексальных отношений, которые затем интерпретируются через осознание иконической связи между ними, ведь любая мысль заканчивается иконой. Следовательно, символическая референция в конечном счете является продуктом серии чрезвычайно запутанных системных отношений между иконами. Тем не менее некоторые ее свойства уникальны и не свойственны ни иконической, ни индексальной модальностям. Символическая референция не исключает эти виды знаковых отношений. Символические системы, такие как язык, могут включать (и часто это делают) относительно иконические знаки, как в случае со «словами» типа цупу; кроме того, на самых разных уровнях они целиком зависят от иконичности и различных указательных отношений между знаками, системами знаков и репрезентируемыми ими вещами. Как и любой семиозис, символическая референция в конечном счете также зависит от основополагающих материальных, энергетических и самоорганизующихся процессов, из которых она возникает.
Понимание эмерджентной природы символической референции может помочь нам понять, как с помощью символов референция может все сильнее отделяться от мира, не теряя при этом восприимчивости к его паттернам, привычкам, формам и событиям.
Осознание эмерджентности символической референции, а заодно и человеческого языка и культуры следует духу критики Пирсом дуалистических попыток отделить (человеческий) разум от (нечеловеческой) материи. Такой подход он язвительно охарактеризовал как «философию, орудующую топором и оставляющую после себя несвязанные фрагменты бытия» (CP 7.570). Эмердженистский подход может предоставить теоретические и эмпирические сведения о неразрывности символов с материей и вместе с тем стать новой причинно-следственной (causal locus) возможностью. Эта неразрывная связь позволяет нам осознать, что даже нечто настолько уникальное и отдельное никогда не является полностью отрезанным от остального мира. Это сообщает нам кое-что важное о стремлении антропологии по ту сторону человека поместить отличительно человеческое в более широкой мир, из которого оно возникает.
Паника и ее исчезновение обнаруживают эти свойства символического семиозиса. Они указывают и на реальную опасность ничем не ограниченной символической мысли, и на то, как такая мысль может быть перенесена (regrounded). Воссоздавая семиотическое окружение, в которое вложена символическая референция, наблюдение за птицами перенесло мои мысли, а вместе с ними и мою возникающую самость. Благодаря умелой работе бинокля между мной и птицей установилась индексальная связь, когда после наведения резкости перед моими глазами показался ее образ. Это событие вернуло мне то, что Мег, сидевшая на диване наедине со своими мыслями, не могла отыскать: окружение, узнаваемое и разделяемое с другими, а также обретенную на тот момент уверенность в существовании, осязаемо находящемся здесь и сейчас; и хотя эти «здесь и сейчас» выходят за пределы меня, я могу стать их частью.
Паника содержит в себе намек на то, как может ощущаться радикальный дуализм и почему нам, людям, он кажется столь непреодолимым. Демонстрируя последствия, которые делают жизнь невозможной, паника также выдвигает собственную интуитивную критику дуализма и сопутствующего ему скептицизма. Когда паника отступает, мы можем почувствовать, как человеческая предрасположенность к дуализму растворяется и превращается в нечто иное. Можно сказать, что дуализм, где бы он ни встречался, рассматривает эмерджентное новое как нечто совершенно отдельное от источника его возникновения.
В то утро, наблюдая за птицами на берегу реки в Тене, я освободился от тяготивших меня мыслей – и где же я оказался? И хотя более базовые семиотические способы соединения, задействованные в этом занятии, в буквальном смысле привели меня в чувство и вместе с тем перенесли в мир за пределами моего разума, за рамки условностей и по ту сторону человека, этот опыт подтолкнул меня к вопросу: какой же мир находится за пределами символического? Иными словами, этот опыт, в контексте задуманной мной антропологии по ту сторону человека, заставляет меня переосмыслить, что мы имеем в виду под «реальностью».
Обычно мы понимаем реальность как то, что существует. Свалившаяся в лесу пальма реальна; опавшие ветки и раздавленные ее падением растения служат доказательством ее ужасающей фактичности (facticity). Но описание реального лишь как чего-то произошедшего (где-то вовне и обусловленного законами) не учитывает спонтанности, склонности жизни к развитию. Оставляет оно без внимания и общий для живых форм семиозис, возникающий в мире жизни и окончательно закрепляющий в нем людей. Более того, описание в подобных дуалистических терминах заведомо ограничивает семиотические способности в пределах отдельного фрагмента бытия, который мы называем человеческим разумом, не оставляя и намека на то, как этот разум, его семиозис и его творческие способности могли возникнуть из чего-то не-человеческого или быть с ним связаны.
В своих трудах Пирс старался представить более широкую реальность, которая бы больше соответствовала натуралистическому и недуалистическому пониманию вселенной. На протяжении научной карьеры он стремился поместить свой философский проект, в том числе семиотику, в особого рода реализм, который бы заключал действительное существование в более широкую рамку, учитывающую его предрасположенность к спонтанности и развитию, а также жизнь знаков в человеческих и нечеловеческих мирах. Далее я кратко изложу предложенную Пирсом теоретическую рамку, поскольку она описывает реальность, включающую в себя живые и неживые объекты, а также множество процессов, посредствам которых живое возникает из неживого.
Пирс пишет, что мы можем осознать три аспекта реальности (CP 1.23–26). Легче всего мы понимаем элемент, называемый им «вторичностью». Падение пальмы – квинтэссенция этого элемента. Вторичность обозначает инаковость, изменения, события, сопротивление и факты. Вторичные элементы есть «грубое действие» (CP 1.419). Они «потрясают» (CP 1.336) нас, нарушают наше обычное представление о вещах. Они заставляют нас «думать иначе, чем мы думали» (CP 1.336).
Идея реальности Пирса содержит в себе также то, что он называет «первичностью». Первичные элементы – это «всего лишь возможности, не обязательно реализованные». Они подразумевают особый вид реальности – спонтанности, качества или возможности (CP 1.304) в их собственной «качественности» («suchness») (CP 1.424), которая не зависит от отношения к чему-либо еще. Однажды в лесу мы с Иларио наткнулись на гроздь плодов дикой маракуйи, сброшенную кормящейся сверху стаей обезьян. Мы сделали небольшой привал, чтобы перекусить оставшейся после обезьян маракуйей. Разломив плод, я на мгновение почувствовал резкий запах корицы. К тому моменту, когда фрукт оказался у меня во рту, аромат исчез. Ощущение мимолетного запаха – самого по себе, без обращения внимания на источник его происхождения или свойства – подводит нас к первичности.
И, наконец, третичность – важнейший для этой книги аспект реальности согласно Пирсу. Черпая вдохновение в средневековой схоластике, Пирс настаивал, что «общности реальны». Иными словами, привычки, закономерности, паттерны, взаимоотношения, будущие возможности и цели – то, что он считал третичными элементами – обладают возможной эффективностью (eventual efficacy), они могут происходить из миров по ту сторону человеческого разума и проявляться в них (CP 1.409). Мир характеризует «склонность всех вещей следовать привычкам» (CP 6.101): общая склонность во вселенной к увеличению энтропии – это привычка; менее частая склонность к росту закономерностей, которую можно встретить в самоорганизующихся процессах, например речных водоворотах или структуре кристаллической решетки, также является привычкой; благодаря своей способности предсказывать и задействовать эти закономерности, создавая при этом все новые их виды, жизнь усиливает склонность к следованию привычкам. Именно эта склонность делает мир потенциально предсказуемым, а жизнь – логически выведенным семиотическим процессом[35]. Мир можно репрезентировать только благодаря тому, что он обладает некоторым подобием закономерности. Знаки – это привычки, сообщающие о привычках. В тропических лесах, где совместно эволюционировавшие жизненные формы образуют множество слоев, это стремление к следованию привычкам усиливается до предела.
Все процессы, включающие опосредование, проявляют третичность. Следовательно, третичность есть во всех знаковых процессах, поскольку они служат третьим элементом, который так или иначе является посредником между «чем-то» и «кем-то». Впрочем, важно подчеркнуть, что, по мнению Пирса, все знаки являются третичными элементами, но не все третичные элементы – знаки[36]. Всеобщность, склонность к следованию привычке не навязывается миру семиотическим разумом. Она существует в нем сама по себе. Существующая в мире третичность представляет собой необходимое условие для семиозиса, а не то, что семиозис «привносит» в мир.
По Пирсу, первичность, вторичность и третичность так или иначе проявляются во всем (CP 1.286, 6.323). Различные знаковые процессы усиливают определенные аспекты каждого из этих свойств, оставляя без внимания другие. И хотя все знаки от природы триадичны, в своей репрезентации чего-либо кому-либо они уделяют больше внимания или первичности, или вторичности, или третичности.
Будучи третичными элементами, иконические знаки связаны с первичностью, поскольку их опосредование зиждется на том, что они обладают теми же свойствами, что и их объекты, независимо от их отношения к чему-либо еще. Поэтому у образных «слов» на кечуа, например цупу, нет отрицания и флексий. В каком-то смысле они просто свойства своей «собственной качественности». Будучи третичными элементами, индексальные знаки связаны со вторичностью: они опосредуют, попав под влияние своих объектов. Обрушившаяся пальма напугала обезьяну. В отличие от этих двух третичных элементов, символические знаки образуют двойную триаду: они опосредуют, отсылая к чему-то общему – возникающей привычке. Они означают в силу своего отношения с конвенциональной и абстрактной системой символов, то есть системой привычек, которые их интерпретируют. Поэтому понимание слова каусагуинчу требует знакомства с кечуа в целом. Символическое – это привычка, сообщающая о привычке, которая совершенно исключительным образом порождает другие привычки.
Наши мысли напоминают мир, потому что мы являемся его частью[37]. Любая мысль – чрезвычайно запутанная привычка, находящаяся в непрерывной связи с породившей ее склонностью мира следовать привычке. Особый вид реализма Пирса – первый шаг к тому, чтобы помыслить антропологию, которая бы в описании мира осознавала пределы свойственных человеку путей познания и в то же время выходила за них. Это стремление начинается с переосмысления семиозиса.
Более широкое понимание реальности позволяет осмыслить состояние, из которого меня вывело появившееся в объективе бинокля изображение птицы, равно как и то состояние, в котором я после этого оказался. По проницательному замечанию Кэпс и Окс, самое неприятное в панике – отсутствие согласованности с другими людьми. Мы остаемся наедине со своими мыслями, которые все сильнее оказываются отрезанными от более широкого поля привычек, породившего их. Другими словами, всегда существует опасность, что несогласованная способность символической мысли создать привычку может вытянуть нас из привычек, в которых мы находимся.
Но живой разум таким образом не искоренить. Живые и развивающиеся мысли всегда сообщают что-то о мире, пусть даже это что-то относится к возможному будущему. Часть всеобщности мысли, то есть ее третичность, заключается в том, что ее местонахождение не ограничивается какой-либо определенной и устойчивой самостью. Скорее, она образует возникающую самость, которая распределяется во множестве тел.
Изолированный человек лишен целостности и, по существу, является возможным членом общества. В особенности опыт одного отдельно взятого человека ничего не значит. Если он видит то, чего не могут видеть другие, мы называем это галлюцинацией. Не «мой» опыт, а «наш» является предметом мышления; и это «мы» обладает бесконечными возможностями (CP 5.402).
Это «мы» представляет собой общность. Паника эту общность нарушает. Она приводит к краху триадического отношения, которое связывает мой разум, формирующий привычки, с другим разумом, формирующим привычки в отношении нашей способности делиться опытом привычек открываемого нами мира.
Солипсическое погружение все более частного разума в самого себя имеет ужасающие последствия, приводя ко внутреннему разрыву самости. В панике самость становится монадическим «первичным элементом», отделенным от остального мира; она становится «возможным членом общества», чьей единственной способностью является сомнение в существовании чего-либо, что Харауэй (2003) называет более «телесными» связями с миром. Вкратце, результатом является скептическое картезианское cogito: неизменное «Я (только) мыслю (символически), следовательно, я (сомневаюсь, что я) существую» вместо развивающегося, многообещающего эмерджентного «мы» со всеми его «бесконечными возможностями»[38].
Этот триадический союз, результатом которого является эмерджентное «мы», достигается индексальным и иконическим образом. Возьмем, к примеру, комментарии Лусио после того, как он подстрелил шерстистую обезьяну, которую выманила с насеста на верхушке дерева поваленная Иларио пальма:
вон там, прямо там
что случилось?
она вон там,
свернулась клубком,
вся израненная[39].
Иларио видит хуже, чем Лусио, и потому не сразу заметил обезьяну на дереве. Шепотом он спросил сына: «Где?» И когда обезьяна неожиданно начала двигаться, Лусио быстро ответил: «Смотри! Смотри! Смотри! Смотри!»
В этом случае императив «смотри!» (на кечуа – рикуй!) действует как индекс, направляющий взгляд Иларио по пути перемещения обезьяны вдоль ветки. Этот индекс выстраивает отношения между Иларио, Лусио и обезьяной на дереве. Кроме того, ритмическое повторение Лусио императива иконическим образом передает темп движения обезьяны. Посредством этого образа, который Иларио также может себе представить, Лусио «напрямую передает» то, как он увидел раненую обезьяну, передвигающуюся в кроне дерева, независимо от того, смог ли ее увидеть его отец.
Подобного рода иконический и индексальный союз вернул меня в мир в тот момент, когда танагр появился в фокусе моего бинокля. Четкое изображение птицы, сидящей в близлежащих кустах, вновь укоренило меня в общую реальность. Этому не помешало даже то, что иконические и индексальные знаки не предоставляют нам непосредственной опоры в мире. Все знаки подразумевают опосредование, и любой наш опыт является семиотически опосредованным. Нет такого телесного или умственного опыта или мысли, которые не были бы опосредованы (см. Peirce, CP 8.332). Более того, в том реальном танагре, кормящемся на реальном кусте возле реки, нет ничего в корне объективного, поскольку и птица, и ветка, на которой она сидит, равно как и я сам, во всех отношениях являются семиотическими созданиями. Они – результаты репрезентации, продукты эволюции укрепляющегося союза с разрастающимися сетями привычек, которые образуют жизнь в тропиках. Эти привычки реальны независимо от того, осознаю я их или нет. Почувствовав некоторые из этих привычек (как случилось в то утро с танагром на берегу реки), я, возможно, смогу присоединиться к более широкому «мы» благодаря тому, что другие могут разделить этот опыт со мной.
Подобно нашим мыслям и разуму, птицы и растения являются эмерджентными реальностями. Репрезентируя и усиливая привычки мира, жизненные формы создают новые привычки, а их взаимодействие с другими организмами создает еще больше привычек. Следовательно, жизнь множит привычки. Тропические леса с большим количеством биомассы, не имеющим равных видовым разнообразием и сложными коэволюционными взаимодействиями проявляют необычайную склонность следовать привычкам. Для людей, например руна из Авилы, тесно связанных с лесом посредством охоты и других видов натурального хозяйства, умение предсказать эти привычки имеет первостепенное значение.
В Амазонии меня особенно интересует то, как репрезентация одного вида третичных элементов (привычек мира) другим (самостям человеческого и нечеловеческого рода, образующим этот мир и населяющим его) приводит к «процветанию» других видов третичных элементов (см. Haraway, 2008). Жизнь множит привычки. Тропическая жизнь, особенно при участии руна и других обитателей этого биологического мира, усиливает этот процесс до предела.
Быть живым, то есть быть в течении жизни, подразумевает присоединение к постоянно растущему массиву зарождающихся привычек. Но быть живым – не то же самое, что следовать привычке. Процветающая, полная жизни семиотическая динамика, чей источник и результат я называю самостью, также является продуктом нарушения и потрясения. В отличие от неодушевленной материи, которую Пирс характеризовал как «разум, чьи привычки настолько укрепились, что уже не могут ни формировать, ни утрачивать привычки», разум (или самость) «приобрел удивительную привычку принимать и отбрасывать привычки» (CP 6.101).
Привычка к выборочному отбрасыванию некоторых других привычек приводит к возникновению привычек более высокого порядка. Другими словами, для роста необходимо кое-что узнать об окружающих нас привычках, однако приобретение этого знания часто сопровождается нарушением наших привычных представлений о мире. Когда подстреленная свинья бросилась – цупу – в реку (как обычно и происходит в таких случаях), Макси казалось, что добыча у него в руках. Но это было не так:
Глупо вышло, я думал: «она умрет», а она взяла и убежала[40].
Замешательство Макса, вызванное тем, что дикая свинья, которую он считал мертвой, неожиданно подпрыгнула и убежала, обнаруживает то, что Харауэй (1999: 184) называет «ощущением, что у мира есть свое чувство юмора». Именно в такие моменты «потрясений» и проявляются привычки мира. То есть обычно мы не замечаем привычек, в которых живем. Только когда привычки мира сталкиваются с нашими ожиданиями, мир проявляет свою инаковость и действительность, которая отличается от нашего текущего состояния. За этим разрывом следует непростая задача – рост. Необходимо создать новую привычку, которая вберет в себя привычку доселе неизвестную; в процессе этого необходимо также переделать себя, пусть даже на мгновение, объединившись с окружающим нас миром.
Чтобы жить и кормиться в тропическом лесу, нужно разбираться во множестве слоев его привычек. Иногда этого можно достичь, различая элементы, нарушающие их. Во время другой прогулки по лесу с Иларио и его сыном Лусио мы наткнулись на маленькую хищную птичку – длинноклювого коршуна[41], – примостившуюся на ветвях небольшого деревца. Лусио выстрелил в нее, но промахнулся. Испуганная птица спорхнула. Но вместо того, чтобы полететь стремглав через подлесок, как обычно делают хищники, она двигалась медленно и неуклюже. Указывая в направлении, в котором исчезла птица, Лусио заметил:
Она просто медленно ушла[42]
тка тка тка тка
туда
Тка тка тка тка. В течение всего дня Лусио повторял этот звуковой образ медленного, нерешительного и немного нескладного хлопанья крыльев[43]. Неуклюжий полет длинноклювого коршуна завладел вниманием Лусио, нарушив его представление о стремительном и полном мощи полете хищных птиц. Подобным образом орнитологи Хилти и Браун (1986: 91) описывают длинноклювого коршуна как обладателя необычно «широких длинных крыльев», довольно «малоподвижного и неповоротливого». В сравнении с другими хищниками, летающими куда быстрее, эта птица кажется чем-то аномальным. Она подрывает наши представления о хищниках, и потому ее привычки так интересны.
Другой пример. Однажды утром, вернувшись с охоты, Иларио вытащил из своего мешка эпифитный кактус (Discocactus amazonicus), усеянный фиолетовыми цветами. Иларио назвал его виньарина панга или виньари панга, потому что, объяснил он, пангаманда виньарин – «он вырастает из своих листьев». У этого кактуса нет какого-либо особого применения, но Иларио подумал, что его стебель, как и стебли других эпифитных суккулентов (например, орхидеи), можно вымочить и прикладывать к ранам. Однако из-за того, что кажется, будто листья этого суккулента растут из других листьев, Иларио счел его странным. Название «виньари панга» указывает на ботаническую привычку, корни которой уходят в далекое прошлое эволюции. Листья не вырастают из других листьев. Они могут расти только из меристемы, находящейся в почках на ветках, стволах и стеблях. Семейство Кактусовых, из которой происходит D. amazonicus, необычным образом утратило свои пластинчатые фотосинтезирующие листья и развило мясистые закругленные фотосинтезирующие стебли. Следовательно, сплющенные зеленые структуры, растущие друг из друга у D. amazonicus, не являются настоящими листьями. Фактически это стебли, функционирующие как листья, и потому они могут расти друг из друга. Стебли, выглядящие как листья, ставят под вопрос привычное представление о том, что листья произрастают из стеблей. Это и делает их интересными.
В семиозисе, как и в биологии, целое предшествует частям; сходство предшествует различию (см. Bateson, 2002: 159). И мысль, и жизнь начинаются как целое, хотя порой не слишком определенное и четкое. Одноклеточный эмбрион, каким бы простым и недифференцированным он ни был, является таким же целым, как и многоклеточный организм, в который он развивается. Иконический знак, каким бы неразвитым ни было его сходство, в той степени, в которой это сходство воспринимается, смутно передает объект своего сходства как целое. Только в мире машин сначала появляется дифференцированная часть, а затем собранное целое[44]. Семиозис и жизнь, напротив, появляются целыми.
Следовательно, образ – это семиотическое целое, и поэтому он лишь приблизительно соответствует привычкам, которые репрезентирует. Однажды, попивая после обеда пиво из маниока дома у Асенсио, мы услышали из огорода крик Сандры, его дочери: «Змея! Скорее убейте ее!»[45] Освальдо, сын Асенсио, ринулся ей на помощь, сразу за ним последовал я. И хотя змея оказалась безобидным американским кнутовидным полозом[46], Освальдо все равно ее убил ударом широкой стороны своего мачете, затем разрубил и похоронил ее голову[47]. На обратном пути Освальдо показал небольшой пень, о который я только что споткнулся, и заметил, что он видел, как я наткнулся на тот же самый пень днем ранее, когда мы возвращались по этой тропинке после охоты на крутых лесистых холмах к западу от Авилы с его отцом и зятем.
Во время дороги домой с Освальдо мои пешие привычки мало совпадали с привычками мира. Из-за усталости или легкого опьянения (когда я впервые споткнулся о тот пень, я был измучен более чем десятичасовым восхождением и спуском; во второй раз я выпил несколько больших кубков пива из маниока) я просто не смог интерпретировать некоторые черты этой тропы как важные. Я вел себя так, будто не было никаких препятствий. Мне это удавалось, поскольку моя обычная походка была интерпретативной привычкой – образом тропы – и вполне справлялась с возникшей трудностью. В тех обстоятельствах точность совпадения моей походки с характеристиками тропы была не столь важна. Но если бы мы бежали, или я бы тащил тяжелую ношу, или шел бы сильный дождь, или я был бы более пьян, это несоответствие, вероятно, усилилось бы; я бы не просто слегка споткнулся, а упал.
Моя захмелевшая и уставшая репрезентация лесной тропы была развита столь плохо, что я не увидел различий. Пока Освальдо не указал мне на пень, я никогда не замечал его, как и того, что о него споткнулся, причем дважды. Мое спотыкание стало устоявшейся привычкой. Из-за своей регулярности (я умудрился несколько дней подряд натыкаться на тот же пень) моя несовершенная пешая привычка показалась Освальдо ненормальной. И все же, как бы сильно моя походка ни отличалась от тропы, она была вполне хороша: я смог добраться домой.
Однако в этой «вполне хорошей» привычной автоматизации кое-что потерялось. Возможно, в тот день, возвращаясь в дом Асенсио, я на мгновение стал скорее материей – «разумом, чьи привычки [настолько] укрепились», а не способной к познанию и желанию, живущей и растущей личностью.
Неожиданные события, такие как внезапное появление пня на нашем пути (при условии, что мы его заметили) или внезапное оживление дикой свиньи, свидетелем которого стал Макси, могут нарушить наши представления о мире. Именно это нарушение – разрушение старых привычек и образование новых – формирует чувство того, что ты живешь и являешься частью мира. Мир раскрывается перед нами не потому, что у нас есть привычки, а в те моменты, когда, вынужденно отбросив свои старые привычки, мы обретаем новые. Именно в эти моменты мы можем ухватить проблески, пусть даже и опосредованные, эмерджентной реальности, в создании которой мы участвуем.
Осознание того, что семиозис не ограничивается символами, позволяет нам увидеть, как мы заселяем постоянно возникающий мир по ту сторону человека. Антропология по ту сторону человека стремится выйти за границы символической привычки, делающей нас, как нам кажется, исключительными видами существ. Цель этой антропологии не в том, чтобы преуменьшить уникальность символической привычки, но показать, что символическое целое открыто множеству других привычек, распространяющихся в мире, который простирается по ту сторону человека. Говоря кратко, цель – вернуть ощущение того, что мы во многих отношениях являемся открытым целым.
Мир по ту сторону человека, перед которым мы открыты, представляет собой не просто что-то «вовне», потому как реальность превосходит то, что существует. Следовательно, антропология по ту сторону человека стремится к легкому смещению нашего темпорального фокуса, чтобы выйти за пределы того, что существует здесь и сейчас. Конечно, она должна обращаться к ограничениям, случайностям, контекстам и условиям возможности. Но жизни знаков и интерпретирующих их самостей не находятся исключительно в настоящем или прошлом. Они разделяют способ бытия, простирающийся и в возможное будущее. Соответственно, антропология по ту сторону человека рассматривает будущую реальность этих видов общности, а также их возможное влияние на настоящее будущее.
Если наш предмет исследования – человек – является открытым целым, таковым должен быть и наш метод. Характерные семиотические свойства, делающие людей открытыми миру по ту сторону человека, позволяют антропологии исследовать это с этнографической и аналитической точностью. Сфера символического – открытое целое: она поддерживается и в конечном счете вымывается другим, более обширным видом целого, каким является образ. Мэрилин Стратерн однажды сказала мне, перефразируя Роя Вагнера: «Невозможно иметь половину образа». Символическое – исключительно человеческий способ чувствовать образ. Любая мысль начинается с образа и заканчивается им. Каждая мысль – целое, как бы долго она к этому ни шла[48].
Эта антропология, подобно семиозису и жизни, начинается не с различия, инаковости или несоизмеримости. Не начинается она и с врожденного сходства. Она начинается со сходства мысли в состоянии покоя; это сходство еще не замечает возможных различий, которые могут его разрушить. Сходство, например цупу, является особым видом открытого целого. С одной стороны, иконический знак монадичен, замкнут на себе и не зависит от чего-либо еще. Иконический знак похож на свой объект независимо от того, существует он или нет. Я чувствую цупу независимо от того, чувствуешь ли его ты. Но вместе с тем, поскольку он обозначает что-то другое, иконический знак также является открытым. Он обладает «способностью к обнаружению неожиданной истины»: «посредством прямого наблюдения могут быть обнаружены и другие истины, касающиеся ее объекта» (Peirce, CP 2.279). Пирс приводит пример алгебраической формулы: поскольку условия слева от знака равенства иконичны тем, что стоят справа от него, мы можем узнать больше о второй части уравнения, присмотревшись к первой. Левая часть уравнения – это целое. Она полностью передает то, что находится справа. И вместе с тем в процессе она может «очень точным образом представ[ить] новые аспекты предполагаемого положения вещей» (CP 2.281). Это возможно благодаря общему обозначению данной тотальности. Знаки обозначают объекты «не во всех отношениях, но только в отношении к своего рода идее» (CP 2.228). Эта идея, какой бы расплывчатой она ни была, является целым.
Анализ разоблачительной силы образов предлагает способ антропологической практики, связывающей этнографические особенности c чем-то большим. Чрезмерный акцент на иконичности в низинном варианте кечуа усиливает и проявляет некоторые общие свойства языка и его отношение с тем, что лежит за его пределами, подобному тому как паника проявляет другие свойства, преувеличивая их. Такое усиление или преувеличение может действовать как образ, раскрывающий нечто общее о своем объекте. Эти общности реальны, пусть им и недостает конкретности специфической или фиксированной нормативности предполагаемых универсалий, справедливо отвергаемых антропологией. Именно к этим общим реальностям антропология по ту сторону человека может указать направление. Впрочем, делает это она вполне мирскими методами, укореняясь в повседневные заботы и проблемы, возникающие в процессе этнографии, и постоянно отслеживая, как повседневные случайности могут пролить свет на общие проблемы.
Я надеюсь, что эта антропология распахнет двери перед новыми и неожиданными привычками, которые только появляются на свет. Открываясь новизне, образам и чувствам, она стремится отыскать свежую первичность в своем предмете исследования и методах. Я прошу вас почувствовать цупу, но навязать это я вам не могу. Кроме того, это еще и антропология вторичности, которая удивляется (и старается описать это удивление) таким проявлениям спонтанности, которые меняют запутанный мир, порожденный взаимодействием его пестрого населения и их попытками понять друг друга. И, наконец, это антропология общности, поскольку она стремится осознать те возможности, где «мы», выходящее за пределы индивидуальных тел, видов или даже конкретного существования, может простираться за пределы настоящего. Это «мы» и многообещающие миры, вообразить и воплотить которые оно нас подталкивает, являются открытым целым.
Глава вторая
Живая мысль
<…> Фунес не только помнил каждый лист на каждом дереве в каждой рощице, но даже каждый случай, который он непосредственно воспринимал или представлял… Тем не менее я полагаю, что у него не было особенных способностей к мышлению. Думать – значит забыть различия.
Хорхе Луис Борхес. Фунес, Помнящий
Когда это произошло, Америга и Луиза собирали корни барбаско[49] [лиана, из корней которой получают яд, используемый для ловли рыбы. – Ред.] в древесных зарослях неподалеку, на том месте, где раньше были их огороды. По возвращении домой Луиза, беседуя с Делией за кружкой пива из маниока, изобразила, как из-за зарослей она услышала своих собак – любимицу семьи Пуканью (Багровую), ее стареющего компаньона Куки и Уйки. Собаки возбужденно лаяли: «‘хуа’ хуа’ хуа’ хуа’ хуа’ хуа’ хуа’ хуа’ хуа’», как они обычно делают во время игры. Затем Луиза услышала, как они залаяли «‘я я я я’», готовые к атаке. Но потом произошло что-то тревожное, и собаки завизжали: «‘ая-и ая-и ая-и’» – это означало, что на них кто-то напал и серьезно ранил.
«На этом все, – заметила Луиза. – Они просто замолчали»[50].
чун
тишина
Как все могло так быстро измениться? По мнению женщин, для ответа на этот вопрос нужно представить, как собаки понимали или, вернее, не смогли понять окружающий их мир. Рассуждая о первых двух сериях лая, Луиза заметила: «Они бы так себя вели, встретив кого-то очень большого». То есть они бы так себя вели, наткнувшись на крупную дичь. «Может, они лаяли на оленя?» – поймала себя на мысли Луиза. Это казалось логичным. Всего несколько дней назад собаки выследили оленя, атаковали и убили его. Мы по-прежнему едим его мясо.
Но какой зверь мог показаться собакам добычей, а затем наброситься на них? Женщины пришли к выводу, что возможно лишь одно объяснение: собаки приняли кугуара (пуму) за большого мазаму [парнокопытное животное семейства оленевых. – Пер.]. Оба зверя примерно одинакового размера, с рыжевато-коричневой шкурой. Луиза попробовала представить, что в тот момент подумали собаки: «Кажется, это олень, давайте его искусаем!»
Делия емко выразила недовольство, вызванное замешательством собак: «Какие же они глупые». Америга подхватила ее мысль: «Как это они его не узнали? Как вообще им в голову взбрело[лаять] ‘яу яу яу’, будто они собирались напасть на него?»
Значение каждого лая было очевидно, ведь все они являлись частью обширного лексикона собачьих голосовых сигналов, известных жителям Авилы. Менее ясным было то, что побудило собак лаять таким образом. Чтобы представить, как собаки могли перепутать оленя с пумой, а затем проследить печальные последствия этого недоразумения (собаки просто увидели что-то большое, желто-коричневое и бросились в атаку), нужно перенести обсуждение за пределы того, что именно сделали собаки, и задуматься о том, как так получилось, что их поступок был обусловлен тем, как они воспринимают окружающий мир. Разговор пошел о том, как думают собаки.
В этой главе я развиваю утверждение о том, что мышление свойственно не только людям, но и всем живым существам. В ней я также исследую еще одно утверждение, тесно связанное с предыдущим: все мысли живые. Иными словами, эта глава о «живой мысли»[51]. Что значит мыслить? Что значит быть живым? Почему эти два вопроса связаны? Как наш подход к этим вопросам, особенно в свете трудностей отношений с другими видами существ, меняет наше представление о взаимосвязи и о «человеке»?
Если мысли живые, а живое мыслит, то, возможно, живой мир заколдован. То есть нельзя сказать, будто мир по ту сторону человека лишен смысла и только человек наделяет его смыслом[52]. Скорее, значения (mean-ings) – отношения средства и цели, стремления, цели, телос, намерения, функции и значимость – возникают в мире живых мыслей по ту сторону человека различными способами, которые не исчерпываются нашими слишком человеческими попытками определить и контролировать их[53]. Точнее говоря, леса вокруг Авилы одушевлены. Их населяют другие эмерджентные локусы значений, которые не обязательно сосредоточены на человеке или возникают благодаря ему. Вот что я имею в виду, когда говорю, что леса мыслят. Изучение этих мыслей представляет одну из задач антропологии по ту сторону человека.
Если мысли существуют по ту сторону человека, значит, люди – не единственные самости в этом мире. Другими словами, мы – не единственный вид «нас». Анимизм, согласно которому локусы, находящиеся за пределами человеческого, являются заколдованными, – больше, чем верование, воплощенная практика или подспорье для критики западной механистической репрезентации природы, хотя, безусловно, он также является всем из вышеперечисленного. Поэтому мы должны не просто задаться вопросом, как так получилось, что некоторые люди представляют других существ или сущностей одушевленными. Нужно смотреть шире: что именно делает их такими?
Чтобы с успехом проникнуть в логику взаимоотношений, которая образует, связывает и поддерживает лесные существа, жители Авилы должны так или иначе осознать эту базовую одушевленность. Следовательно, анимизм у руна – способ фокусировать внимание человека на живых мыслях в мире и усиливать и раскрывать важные свойства жизни и мысли. Эта форма мышления о мире возможна благодаря тесному взаимодействию с мыслями, бытующими в мире, в процессе которого выявляются некоторые их отличительные черты. Обратив внимание на этот вид взаимодействия с живыми мыслями мира, мы сможем помыслить антропологию иначе. Это поможет нам представить набор концептуальных инструментов и с их помощью рассмотреть, как нашу жизнь формирует жизнь в мире, простирающемся по ту сторону человека.
Скажем, собаки являются самостями, так как они мыслят. Как ни странно, доказательством этому служит то, что они, по словам Делии, могут быть «такими глупыми», безразличными и недалекими. Предположение, что собаки в лесу могли перепутать пуму c оленем, наводит на важный вопрос: почему неразличение, смешение и забывание занимают ключевое место в жизни мыслей и в жизни самостей, в которых эти мысли обитают? Странная и плодотворная сила смешения живых мыслей подвергает сомнению наши базовые предположения о той роли, которую в социальной теории играют различие и инаковость, с одной стороны, и идентичность – с другой. Благодаря этому мы можем переосмыслить взаимоотношение, преодолев нашу склонность переносить предположения о логике лингвистической относительности на все возможные способы отношения между различными видами самостей.
Женщины были уверены в своей способности истолковать собачий лай, но не поэтому они считали собак самостями. Собаки являются самостями, потому что с помощью лая они передали свою интерпретацию окружающего мира. Такая интерпретация – и женщины вполне осознавали это – имеет для собак жизненно важное значение. Следовательно, люди не единственные, кто интерпретирует мир. «Предметность» – наиболее базовые формы репрезентации, намерения и цели – является неотъемлемой структурирующей чертой живой динамики в биологическом мире. Жизнь в своей основе семиотична[54].
Семиотичность свойственна всем биологическим процессам. В качестве примера рассмотрим такое эволюционное приспособление, как удлиненные морда и язык гигантского муравьеда. Попав в затруднительное положение, гигантский муравьед, или, как его называют в Авиле, аманухуа, может быть смертельно опасен. Во время моего пребывания в Авиле муравьед почти убил мужчину (см. Главу 6), и, поговаривают, даже ягуары стараются держаться от них подальше (см. Главу 3). Кроме того, гигантский муравьед неуловим. Я мельком увидел его издалека в лесу, когда мы с Иларио и Лусио поздним вечером сделали привал на утесе, возвышающемся над рекой Суно. Образ муравьеда произвел на меня неизгладимое впечатление: очертания его конической головы, приземистого тела и невероятного размера расширяющегося к концу хвоста, через волоски которого просвечивались лучи заходящего солнца.
Гигантские муравьеды питаются исключительно муравьями. Для этого они просовывают свою удлиненную морду в туннели муравейников. Специфическая форма морды и языка муравьеда запечатлела определенные черты его окружения, а именно форму муравьиных туннелей. Эта эволюционная адаптация является знаком в той мере, в какой последующее поколение интерпретирует ее (в исключительно телесном смысле, поскольку здесь нет сознания или рефлексии) в отношении того, что этот знак описывает, то есть формы муравьиных туннелей. Такая интерпретация, в свою очередь, проявляется в телесном развитии последующих организмов, включающем в себя эти адаптации. Это тело, вместе с его адаптациями, функционирует как новый знак, репрезентирующий черты окружения, который затем будет интерпретирован последующим поколением муравьедов в возможном развитии их тела.
Из поколения в поколение морда муравьеда все точнее передавала геометрические особенности муравьиных колоний, поскольку те ряды поколений «протомуравьедов», чьи морды и языки не так точно передавали значимые свойства окружающей среды (например, форму муравьиных туннелей), не выжили. В сравнении с теми протомуравьедами, современные муравьеды демонстрируют возрастающую приспособленность (fittedness, Deacon, 2012) к чертам окружения. Они репрезентируют его более детально и исчерпывающе[55]. Именно в этом смысле логика эволюционной адаптации является семиотической.
Следовательно, жизнь – знаковый процесс. Любая динамика, в которой «нечто… обозначает что-либо для кого-нибудь в определенном отношении или объеме», согласно данному Пирсом (CP 2.228) определению знака, является живой. Удлиненная морда и язык в некотором смысле обозначают для будущего муравьеда («кого-нибудь») архитектуру муравьиной колонии. Один из важнейших вкладов Пирса в семиотику состоит в преодолении классического двоичного понимания знаков как чего-то, что обозначает нечто другое. Он настаивал на необходимости признать третью ключевую переменную в качестве несократимого элемента семиозиса: знаки обозначают что-либо в отношении «кого-либо» (Colapietro, 1989: 4). Пример гигантского муравьеда показывает, что этот «кто-либо» – или самость, как я предпочитаю ее называть, – необязательно является человеком. Чтобы считаться «кем-либо» (самостью), ему необязательно включать в себя символическую референцию, субъективность, интериорность, сознание или осведомленность (awareness), которые мы часто связываем с репрезентацией (см. Deacon, 2012: 465–66).
Более того, самостями являются не только животные, у которых есть мозг, но и растения. Самость не совпадает с физическими границами организма и может быть распределена среди тел (слушатели семинара, толпа или колония муравьев могут выступать как самость). Или, напротив, она может быть лишь одной из многих самостей в теле (индивидуальные клетки обладают своего рода минимальной самостью).
Самость – это и первоисточник, и результат интерпретативного процесса; это промежуточный пункт в семиозисе (см. Главу 1). Самость не находится вне семиотической динамики, как «природа», эволюция, часовщик, жизненный дух гомункула или (человек-) наблюдатель. Скорее, самость возникает из этой семиотической динамики как результат процесса, производящего новый знак, который интерпретирует знак предыдущий. По этой причине уместно считать нечеловеческие организмы самостями, а биотическую жизнь – знаковым процессом, пусть зачастую крайне овеществленным и несимволическим.
Гигантский муравьед как самость – это форма, которая выборочно «помнит» собственную форму. То есть последующее поколение является подобием предыдущего, или иконической репрезентацией своих предков. Но муравьед не только похож на своего прародителя (и таким образом является памятью о нем), но и отличается от него. Поэтому морда и язык муравьеда могут быть относительно более точной репрезентацией окружающего мира, поскольку (в этом случае) его морда, в сравнении с мордой предков, лучше приспособлена к муравьиным туннелям. В общем, этот муравьед «выборочно» помнит или репрезентирует предыдущие поколения. Отчасти это возможно благодаря тому, что предшествующие самости протомуравьеда, чьи морды были плохо «приспособлены» к окружению, оказались в определенном смысле забыты.
Комбинация запоминания и забывания – уникальный и основополагающий элемент жизни; любой ряд поколений живых организмов, как растений, так и животных, обладает этим свойством. Возьмем для сравнения снежинку. Хотя конкретная форма, которую принимает данная снежинка, является исторически обусловленным результатом взаимодействия с окружением в момент ее падения на землю (поэтому мы считаем снежинки в некотором смысле индивидуальными, ведь каждая из них отличается от другой), конкретная форма снежинки никогда не запоминается. Форма растаявшей снежинки не будет никоим образом влиять на форму какой-либо последующей снежинки, летящей на землю.
Живые существа отличаются от снежинок, поскольку жизнь от природы семиотична, а семиозис всегда включает самость. Принимаемая отдельным муравьедом форма репрезентирует для его будущего воплощения окружение, к которому его предки приспособились в ходе эволюции. Муравьеды в череде поколений избирательно помнят свои предшествующие приспособления, снежинки к этому не способны.
Самость – результат свойственного лишь жизни процесса поддержания и увековечивания индивидуальной формы, которая, повторяясь из поколения в поколение, все лучше приспосабливается к окружающему миру и вместе с тем проявляет некоторую замкнутость, позволяющую ей поддерживать ту же самую идентичность, которая вырабатывается через отношение к тому, чем она не является (Deacon, 2012: 471); муравьеды репрезентируют предыдущие репрезентации муравьиных туннелей в своей родословной, но сами по себе муравьиными туннелями они не являются. Стремясь поддержать свою форму, эта самость действует сама за себя и потому является (неважно, ограничивается она кожей или нет) локусом того, что мы можем назвать агентностью (479–80).
Гигантский муравьед – это знак. Чтобы понять, что такое муравьед, и разобраться в отличающей его конфигурации (в том, например, что его морда удлиненная, а не какая-нибудь еще), необходимо принять во внимание то, что муравьед описывает, а именно значимое окружение, к которому он все лучше приспосабливается посредством описанной выше динамики. Следовательно, несмотря на свою материальность, семиозис никогда не ограничивается телом. Он описывает нечто отсутствующее: семиотически опосредованное будущее окружение, потенциально соответствующее окружению, к которому приспособились предыдущие поколения (см. Главу 1).
Живой знак – это предсказание того, что Пирс называет привычкой (см. Главу 1). Таким образом, это ожидание закономерности, ожидание того, что еще не существует, но, вероятно, появится. Морда – продукт того, чем она не является, а именно той возможности, что в окружении, где будет жить узкомордый муравьед, будут муравьиные туннели. Она является продуктом ожидания или материализованной «догадки» относительно того, что несет в себе будущее.
Это результат другого важного отсутствия. Как я ранее упоминал, морды и их приспособленность к окружающему миру являются результатом всех предыдущих неправильных «догадок», то есть прошлых поколений, чьи морды не настолько напоминали мир муравьиных туннелей. Поскольку морды этих протомуравьедов приспособились к геометрии муравьиных туннелей хуже, чем морды других, их формы не прошли проверку временем.
Стремление самостей предсказать «отсутствующее» будущее также проявляется в предполагаемом поведении собак Америги. Женщины представили себе, что собаки облаивали то, что, по их твердому убеждению, было оленем. Вернее сказать, они, вероятно, лаяли на что-то большое и рыжевато-коричневое. Но, к сожалению, пума тоже большая и рыжевато-коричневая. Семиотически опосредованное будущее – возможное нападение на то, что казалось оленем, – повлияло на настоящее. Оно повлияло на решение собак – «такое глупое», как мы можем сейчас судить, – преследовать существо, казавшееся им добычей.
Родословная знаков может простираться в будущее в качестве эмерджентной привычки, если каждое новое воплощение будет интерпретировать предыдущее таким образом, чтобы самому быть интерпретированным будущим воплощением. Это в равной степени относится и к биологическому организму, чье потомство может выжить или не выжить в будущем, и к этой книге: изложенные в ней идеи могут быть или не быть восприняты мышлением будущего читателя (см. Peirce, CP 7.591). Этот процесс и образует жизнь. То есть любая жизнь – человеческая, биологическая или даже (когда-нибудь в будущем) неорганическая – будет спонтанно проявлять эту материализованную, локализованную, репрезентативную и предсказывающую динамику, которая передает, усиливает и распространяет склонность следовать некой привычке в своих будущих воплощениях. Можно также сказать, что живой стоит считать любую сущность, которая является локусом предметности в родословной таких локусов, потенциально распространяющихся в будущее. Зарождение любой жизни где-либо во вселенной также обязательно знаменует возникновение семиозиса и самости.
Оно также знаменует возникновение мысли. В силу своей врожденной семиотичности живые организмы – как человеческие, так и нечеловеческие – демонстрируют то, что Пирс называет «научным разумом». Под «научным» он подразумевает не человеческий, сознательный или даже рациональный разум, а всего лишь тот, который «способен учиться на опыте» (CP 2.227). В отличие от снежинок, самости могут учиться на опыте. Иными словами, с перспективы описанного мной семиотического процесса, они могут расти. А это, в свою очередь, говорит нам о том, что самости мыслят. Их мышление не обязательно проходит в том времени, которое мы шовинистски называем реальным (см. Dennett, 1996: 61). То есть оно не обязательно происходит в жизни одного организма, ограниченного своим телом. Биологические ряды поколений также мыслят. Из поколения в поколение они могут опытным путем познавать окружающий мир, таким образом демонстрируя свой «научный разум». Подводя итог вышесказанному: поскольку жизнь семиотична, а семиозис живой, мысль и жизнь стоит рассматривать как «живую мысль». В основе развиваемой мной антропологии по ту сторону человека лежит более глубокое понимание тесных взаимоотношений, связывающих жизнь, самость и мысль.
Экосистему тропиков структурирует семиотическое качество жизни, то есть тот факт, что принимаемые жизнью формы являются результатом того, как живые самости репрезентируют окружающий мир. И хотя любая жизнь семиотична, это семиотическое качество усиливается и становится более заметным в тропическом лесу, где обитает беспрецедентное количество самых разных видов самостей. Поэтому я ищу способ проанализировать то, как мыслят леса; тропические леса усиливают и поэтому делают более заметным для нас то, как мыслит сама жизнь.
Репрезентируемые самостями миры состоят не только из вещей. Их в значительной степени образуют и другие семиотические самости. По этой причине я называю сеть живых мыслей в лесах Авилы экологией самостей. Эта экология самостей в Авиле и ее окрестностях включает руна и других людей, взаимодействующих с ними и с лесом, а ее структуру обуславливает не только множество видов живых лесных существ, но также, как будет описано далее в этой книге, духи и мертвецы, делающие нас, живых, теми, кто мы есть.
То, как различные существа репрезентируют другие виды существ, и то, как другие виды репрезентируют их, структурирует жизнь в лесах Авилы. Например, раз в год колонии муравьев-листорезов (Atta spp.), чье присутствие обычно заметно только по длинным шеренгам рабочих, несущих в свои гнезда кусочки растительности, собранной ими с верхушек деревьев, меняют свою деятельность. В течение нескольких минут каждая из колоний, находящихся на большом расстоянии друг от друга, одновременно исторгает сотни полных крылатых муравьев-воспроизводителей; эти муравьи устремляются в утреннее небо, чтобы спариться с муравьями из других колоний. Данное событие влечет за собой ряд проблем и возможностей, которые, по сути, его и формируют. Как муравьям из удаленных колоний удается координировать свои полеты? Как хищникам получить доступ к этому богатому, но кратковременному источнику провианта? И какие стратегии муравьи используют, чтобы избежать встречи с хищниками? Отяжелевшие от жира крылатые муравьи – изысканное угощение и для жителей Авилы, и для многих других обитателей Амазонии. Их высоко ценят и называют просто аньангу, то есть муравьи. Поджаренные с солью муравьи – настоящий деликатес и важный источник продовольствия: когда они вылетают, их собирают в большом количестве. Как людям удается предугадать, когда именно муравьи на несколько минут в году покинут свои подземные гнезда?
Определение времени полета муравьев сообщает нам кое-что о том, что делает дождевой лес таким, каков он есть: эмерджентной, расширяющейся и многоуровневой какофонической сетью взаимообразующих живых и растущих мыслей. Поскольку в этой части экваториальных тропиков нет выраженной сезонности температур и солнечного света, равно как и периода весеннего цветения, здесь не существует какого-либо устойчивого признака, находящегося вне взаимодействий между лесными существами, который позволил бы определить или предсказать время полета муравьев. Расчет времени этого события – результат слаженного предсказания сезонных метеорологических закономерностей, а также координирования между различными конкурирующими и интерпретирующими видами.
Жители Авилы считают, что крылатые муравьи появляются в период спокойствия, следующий за сезоном дождей, который сопровождается громом, молнией и разливом рек. Этой ненастной порой завершается относительно сухой период, который обычно приходится на август. Люди пытаются предсказать появление муравьев, связывая это событие с различными экологическими знаками, ассоциируемыми с периодами плодоношения, ростом численности насекомых и изменением в поведении животных[56]. Когда различные индикаторы указывают на приближение «сезона муравьев» (аньангу урас), люди по несколько раз за ночь проверяют гнезда вблизи своего дома на предмет верных признаков скорого полета, например, присутствия муравьев-охранников, очищающих вход от мусора, или немногочисленных крылатых муравьев, все еще сонных.
Время полета крылатых муравьев интересует не только людей, но и другие существа, такие как лягушки, змеи и некрупные дикие кошки[57], которых также интересуют другие звери, привлеченные муравьями. Ожидая знаков того, когда муравьи покажутся из своих гнезд, они наблюдают как за муравьями, так и за другими ожидающими.
Несмотря на то что день полета главным образом обусловлен метеорологическими паттернами и, судя по всему, именно по ним муравьи из разных гнезд координируют свои полеты, точный момент вылета в тот день является отточенным в ходе эволюции ответом на то, что потенциальные хищники могут или не могут заметить. Муравьи неспроста вылетают прямо перед рассветом (когда я смог зафиксировать время полета, было ровно 5.10). Когда они находятся в гнездах, агрессивные охранники колонии защищают их от змей, лягушек и других хищников. Но, отправившись в полет, они оказываются предоставленными сами себе и могут пасть жертвой фруктоядных летучих мышей, все еще летающих в утренних сумерках; они нападают на муравьев в воздухе, кусая их в сильно увеличенное, наполненное жиром брюшко.
То, как летучие мыши видят мир, жизненно важно для летающих муравьев. Они неслучайно отправляются в полет именно в это время суток. И хотя некоторые летучие мыши все еще летают, их активность продлится не более двадцати–тридцати минут. Когда появятся птицы (около шести часов, вскоре после восхода), большинство муравьев уже рассеется, а некоторые самки уже спарятся с самцами и упадут на землю, чтобы образовать новые колонии. Точное время полета муравьев – результат семиотически структурированной экологии. Муравьи появляются в сумерках, размытом времени между ночью и днем, когда вероятность быть замеченными ночными и дневными хищниками меньше всего.
Чтобы поймать муравьев в эти несколько минут в году, когда они вылетают из своих гнезд, люди пытаются проникнуть в логику семиотической сети, которая структурирует муравьиную жизнь. Однажды ночью, когда муравьи вот-вот должны были полететь, Хуанику попросил у меня сигарету. Он хотел выдуть табачный дым, пропитанный силой его «дыхания жизни» (самай), чтобы прогнать надвигающиеся дождевые облака. Если бы в тот вечер шел дождь, муравьи бы не появились. Однако его жена Ольга настаивала на том, что не нужно отгонять дождевые облака. Она опасалась, что их сыновья, отправившиеся на рынок в Лорето, не вернутся из города до следующего дня. Их помощь была бы нужна для сбора муравьев, которые будут в большом количестве вылезать из разных гнезд вокруг дома. Ольга позаботилась о том, чтобы муравьи той ночью не полетели: она обошла все близлежащие гнезда и наступила на них. Это, по ее мнению, должно было задержать вылет.
Хуанику был уверен, что в ту ночь муравьи наконец полетят. Перед тем как мы с его детьми отправились на ночной обход гнезд, он настойчиво попросил меня не ударять по гнездам и полегче ступать вблизи них. Незадолго до пяти утра мы с Хуанико поставили несколько зажженных керосиновых фонарей, а также немного моих свечей и мой карманный фонарик на расстоянии примерно четырех метров от входа в ближайшее к дому гнездо. Крылатые муравьи тянутся к свету и не смогут устоять. Но чтобы охранники колонии не посчитали их угрозой, мы поместили фонари и свечи на достаточном расстоянии.
С появлением первых муравьев Хуанику стал разговаривать только шепотом. Вскоре после пяти утра до нас донеслось жужжание: крылатые муравьи вылезали из своих гнезд и взлетали. Многих из них привлек свет, и, вместо того чтобы взлететь в небо, они направились к нам. Тогда Хуанику начал свистеть, как сирена, переходя с одного тона на другой. Как он потом объяснил, крылатые муравьи понимают этот звук как призыв своих «маток»[58]. Когда муравьи приближались к нам, мы обжигали их крылья факелами, сделанными из сухих листьев лисан[59]. Затем мы без труда клали их в закрытые горшки[60].
Муравьи-листорезы погружены в экологию самостей, которая сформировала само их существование; их появление незадолго до рассвета обусловлено интерпретативными склонностями их главных хищников. Жители Авилы также пытаются проникнуть в коммуникативный универсум муравьев и множества связанных с ними созданий. Эта стратегия приносит практические результаты: благодаря ей людям удается собрать огромное количество муравьев.
Хуанику смог разобраться в объединениях, связывающих муравьев с другими лесными существами, благодаря тому, что он увидел в них самости, обладающие интенцией и способные к коммуникации. И пусть понимание Хуанику никогда не будет полным, но и его достаточно для того, чтобы безошибочно предсказать несколько мгновений в году, когда муравьи полетят. Кроме того, он смог напрямую общаться с муравьями; отвечая ему, они шли на свою погибель. По сути, Хуанику проник в логику мышления леса. Ему удалось сделать это потому, что его (и наши) мысли во многом напоминают те, что структурируют отношения между живыми мыслями, делающими лес тем, чем он есть: плотной и процветающей экологией самостей.
Взаимоотношения между столь разнообразными семиотическими формами жизни в этой плотной экологии самостей порождают более детальную и исчерпывающую репрезентацию окружающей среды в сравнении с репрезентацией жизни в других уголках планеты. То есть «мысли» тропического леса репрезентируют мир более подробно. Например, некоторые виды тропических деревьев приобрели следующую специализацию: они растут только на песчано-кварцевых почвах. В отличие от тропических глинистых почв, эта почва бедная и плохо удерживает воду, а некоторые ее свойства, например высокая кислотность, могут замедлить рост растений. Однако существование особых видов, произрастающих на песчано-кварцевых почвах, стоит объяснять не почвенными характеристиками, а, скорее, отношением этих растений к другому виду жизненных форм, а именно к растительноядным (травоядным) организмам (Marquis, 2004: 619).
Из-за крайне неблагоприятных условий песчано-кварцевых почв растениям трудно быстро восстановиться и восполнить потерю питательных веществ, вызванную травоядными. Поэтому они проходят суровый естественный отбор, развивая узкоспециализированные ядовитые соединения и другие виды защиты от травоядных (Marquis, 2004: 620).
Любопытно, однако, что различия в почвенных характеристиках не влияют напрямую на то, где какие растения могут расти. Когда в рамках эксперимента, описанного Файн, Месонес и Кули (2004), с участков с бедной почвой исключили травоядных животных и пересадили туда растения плодородных почв, оказалось, что они растут лучше, чем растения, адаптировавшиеся к бедным почвам.
Можно сказать, что тропические растения репрезентируют окружающую их почву посредством взаимодействий с травоядными. В ходе этих взаимодействий различия в почвенных условиях усиливаются и потому становятся более важными для растений. Иными словами, если бы не другие жизненные формы, различия в характеристиках почвы не имели бы для растений такого значения. Поэтому растения плодородных почв, которым не нужно тратить энергию на производство ядовитых веществ, растут лучше, чем растения бедных почв, экспериментальным путем огражденные от травоядных[61].
В зонах умеренного климата, где травоядные, питающиеся также насекомыми, встречаются куда реже, специализация растений по типам почв очень незначительна даже в областях, где почвенное разнообразие (то есть соседство бедных и плодородных почв) выше, чем в тропических регионах (Fine, 2004: 2). Другими словами, растения тропиков формируют более детальные репрезентации свойств своего окружения, чем растения умеренного климата. Находясь в относительно более плотной сети живых мыслей, они проводят больше различий между типами почв.
Обусловленное травоядными усиление почвенных различий не останавливается на растениях, но распространяется по всей экологии самостей. Например, танин – это химическая защита от травоядных, которую развили многие растения бедных почв Амазонии. Поскольку микроорганизмам трудно расщепить богатую танином лиственную подстилку, этот элемент просачивается в реки, отравляя рыб и другие организмы. Вследствие этого экосистемы, связанные с реками, собирающими воду с обширных территорий песчано-кварцевых почв, не столь богаты фауной (Janzen, 1974), что на протяжении истории оказало большое влияние на живущих в Амазонии людей (Moran, 1993). Различные формы, которые принимают все эти экологически связанные виды жизни, не сводятся лишь к свойствам почвы. Это не аргумент в пользу экологического детерминизма[62]. И все же эта многовидовая сборка усиливает некоторые различия почвы и передает их именно как функцию большего числа отношений (относительно других экосистем) среди видов самостей, образующих эту экологию.
Говоря кратко, самости – это мысли, чьи способы отношения друг к другу обусловлены их семиотической природой и сопряженной с ней ассоциативной логикой. Рассмотрение логики, посредством которой самости соотносятся друг с другом в этой экологии, заставляет нас также пересмотреть реляционность (relationality). В этом, вероятно, заключаются главная задача и метод анализа нашей дисциплины (Strathern, 1995).
Если самости – это мысли, а логика их взаимодействия семиотическая, то отношение есть репрезентация. То есть в основе отношений между самостями лежит та же логика, что и в основе отношений между знаками. Сама по себе эта идея не нова. В теориях об обществе и культуре под реляционностью обычно понимают репрезентацию, даже если об этом не говорится напрямую. При этом исходят из предположения о том, как устроена символическая репрезентация у людей (см. Главу 1). Подобно словам, существующим в условных реляционных конфигурациях, характерных для человеческого языка, участники отношения – идеи, роли и институты, образующие культуру и общество, не превосходят по своей значимости взаимоформирующие отношения, существующие между участниками системы, которая по этой причине проявляет некоторую закрытость.
Даже постгуманистские концепции реляционности, например «актант» и сети в акторно-сетевой теории Бруно Латура или «конститутивное внутри-действие» («constitutive intra-action») Харауэй (Haraway, 2008: 32, 33), основаны на представлении о реляционности, обусловленном особыми видами реляционных свойств человеческого языка. По сути, реляционные сети, связывающие людей и нечеловеческие сущности, однозначно описаны похожими на язык в некоторых версиях акторно-сетевой теории (см. Law and Mol, 2008: 58)[63].
Однако, как уже было сказано, репрезентация выходит за пределы наших представлений о ней, испытавших огромное влияние языка. Распространяя лингвистическую реляционность на нечеловеческие существа, люди самовлюбленно проецируют себя на то, что находится по ту сторону человеческого. За языком следует набор представлений о систематичности, контексте и различии, которые объясняются отличительными свойствами человеческой символической референции и могут быть лишены смысла при рассмотрении более общих отношений между живыми мыслями. При этом другие свойства, которые могут позволить взглянуть на реляционность шире, остаются в тени. В общем, я считаю, что антропология по ту сторону человека может переосмыслить реляционность, рассматривая ее как семиотическую, но не всегда и не обязательно подобную языку.
Рассмотрим в связи с этим отношения между собачьим клещом и млекопитающим, на котором он паразитирует. Классическое описание этих отношений представил этолог начала XX века Якоб фон Икскюль (1982). Фон Икскюль пишет, что клещи улавливают млекопитающих, чью кровь они сосут, полагаясь на запах масляной кислоты, тепло и свою способность обнаружить неприкрытые участки кожи млекопитающего, в которые они могут впиться. По его мнению, эмпирический мир клещей, или умвельт, как он его называет, ограничен этими тремя параметрами (Uexkll, 1982: 57, 72). Для фон Икскюля и многих его последователей эмпирический мир клеща замкнут и «беден» в том смысле, что клещ не различает множество разных сущностей (см. Agamben, 2004). Но я хочу подчеркнуть производительную силу этого упрощения, основополагающего для живых мыслей и отношений, возникающих между самостями, которые являются продуктами живых мыслей. Я также хочу обратить внимание на то, что реляционная логика клеща является семиотической, но не явным образом символической.
Клещи не различают виды млекопитающих. Собака может отличить хищную пуму от потенциальной добычи, например оленя, но клещу до этого нет никакого дела. Для него и пума, и олень, и собака выглядят одинаково.
Клещи также являются переносчиками паразитов, и, поскольку они сосут кровь всех животных без разбора, эти паразиты могут передаваться от одного вида к другому. Эта неразборчивость – форма смешения, у которого, конечно, есть свои пределы. Если бы клещ путал все со всем, у него не было бы ни мысли, ни жизни; смешение продуктивно только тогда, когда оно ограничено.
В терминологии Пирса для клеща один вид млекопитающего иконичен другому. Я хочу обратить внимание на это видение иконизма, представленное в предыдущей главе, поскольку оно идет вразрез с нашим повседневным пониманием этого термина. При обхождении с иконами (знаками, означающими через сходство) мы обычно думаем об их сходстве с определенным аспектом чего-либо, что, как нам уже известно, является иным. Как было сказано выше, мы не путаем контурное изображение человека на двери в уборную с человеком, который может войти в эту дверь. Однако в этом случае я отсылаю к более фундаментальному (и зачастую понимаемому неправильно) иконическому свойству, которое лежит в основе любого семиозиса. Для клеща все млекопитающие равнозначны просто потому, что он не видит различий между существами, на которых он паразитирует.
Это иконическое смешение является продуктивным. Оно создает «виды». Возникает общий класс существ, участники которого связаны друг с другом в силу того, как их видит клещ, не проводя между ними различий. Возникновение общего класса имеет значение для вовлеченных существ. Поскольку клещ смешивает этих теплокровных существ, другие паразиты могут путешествовать между ними («млекопитающими») с помощью клеща. По сути, именно так болезнь Лайма передается от оленей к людям.
Мир живых существ – это не просто континуум или собрание разнородных сингулярностей, ожидающих, пока человеческий разум сгруппирует их в соответствии с общественной конвенцией или врожденной склонностью. Категоризация и в самом деле может иметь социокультурную специфику, что порой приводит к форме концептуального насилия, стирающего уникальность объектов категоризации. Верно также и то, что сила человеческого языка заключена в его способности совершить скачок из локального, который повлечет за собой повышенную нечувствительность к деталям. Вот как Хью Раффлз описывает японского коллекционера насекомых.
После долгих лет коллекционирования он обрел глаза жука («mushi» eye) и видит все в природе с точки зрения насекомого. Каждое дерево для него – отдельный мир, каждый листик отличается от другого. Насекомые научили его тому, что общие существительные, такие как насекомые, деревья, листья и особенно природа, уничтожают нашу чувствительность к деталям. Они делают нас жестокими как концептуально, так и физически. «Ой, насекомое», – говорим мы, видя только категорию, но не само существо (2010: 345).
Тем не менее во многих случаях видение мира «глазами жука» в действительноси заключается в следующем: мы путаем сущности, которые в противном случае могли бы считать разными. Такая путаница свойственна не только человеку, и действует она не только разрушительно.
Иренео Фунес, персонаж Борхеса, упоминавшийся в эпиграфе к этой главе, упал с дикой лошади и получил серьезную травму головы, в результате чего он больше не мог ничего забыть. Он стал «памятливым» («memorioso»). Однако живые самости в корне отличаются от Фунеса, который не мог забыть отличительные черты «каждого листа на каждом дереве в каждом лесу». Это, по замечанию Борхеса, не есть мышление. Жизнь мыслей зависит от смешения – своего рода «забывания» заметить различие. Общности, такие как виды и классы, возникают и процветают в мире через форму отношения, основанную на смешении. Реальность – это не просто уникальная сингулярность, ни на что не похожая. Кроме того, общности реальны, и некоторые из них возникают в результате отношений между живыми мыслями по ту сторону человека.
С чего Америга, Делия и Луиза решили, будто догадались, на что лаяли их собаки? В более общем смысле: почему мы вообще надеемся когда-либо узнать другие самости, с которыми находимся в отношениях? Даже если мы признаем, что нечеловеческие формы жизни являются самостями, не существует ли, выражаясь словами Деррида (2008: 30), такой «пропасти» («abyssal rupture»), отделяющей нас от них, что их самости было бы лучше рассматривать как «существование, не поддающееся концептуализации» (9)? Возможно, эти «абсолютные Другие» (11) похожи на льва Витгенштейна: даже если бы они могли говорить, кто бы их понял? Ответ Томаса Нагеля (1974) на вопрос, заданный им своим коллегам-философам, – «Каково быть летучей мышью?» – не вызывает сомнений: хотя у летучих мышей, скорее всего, есть свой способ бытия (по сути, у них есть некоторая самость), вряд ли мы когда-нибудь узнаем это достоверно. Мы просто слишком разные.
Конечно, Америга, Луиза и Делия никогда точно не узнают, о чем думали их собаки, лая на встреченную ими дикую кошку за мгновение до того, как она набросилась на них, но предположения женщин могут быть весьма правдоподобными. Как в таком случае могла бы выглядеть реляционная теория, основанная не на поиске надежного знания о других существах, но на условных догадках, которые эти женщины вынуждены были строить о догадках своих собак? В основе такой теории не будет лежать то, что Харауэй (2003: 49) называет «несводимым различием» («irreducible difference»); ее жизненная среда не будет ограничена отказом от концептуализации или его логической противоположностью – абсолютным пониманием.
Я рассматриваю абсолютную инаковость, несводимое различие и несоизмеримость как препятствия, которые наша реляционная теория должна стремиться преодолеть. Существование различий совершенно непостижимых и настолько невообразимых, что они являются, по критическому определению Пирса, «непознаваемыми» (1992d: 24), предполагает обратное: познаваемость основана на внутренней фрактальности [в смысле само-подобия, повторяющегося паттерна. – Ред.]. Это подразумевает существование «самого бытия» («being itself») во всей своей сингулярности, которую мы могли бы постичь, переняв «глаза жука». Эти полюса являют собой то, как существа могут относиться друг к другу и познавать друг друга.
Однако в случае «живой мысли» сходство и различие становятся интерпретативными позициями, которые могут иметь последствия в будущем. Это не существенные черты, заметные с первого взгляда. Пирс пишет: «Всякая мысль и знание… [существует] в знаках» (CP 8.332). То есть любое мышление и знание так или иначе опосредованы.
Это играет важную роль в понимании отношения. Между объединениями живых мыслей, которые образуют живую, мыслящую и познающую самость, и теми живыми мыслями, посредством которых различные виды самости могут соотноситься друг с другом и в силу этого формировать объединения, не существует врожденного различия. Более того, поскольку самости являются локусами живых мыслей, эмерджентными и недолговечными точками в динамическом процессе, унитарной (единичной) самости не существует. Невозможно «быть» кем-то одним: «человек не является абсолютно индивидуальным. Его мысли суть то, что он “говорит сам себе”, то есть говорит другому себе, который просто рождается в потоке времени» (Peirce, CP 5.421). Поскольку для всех самостей любой опыт и любая мысль семиотически опосредованы, интроспекция, межчеловеческая интерсубъективность и даже межвидовое взаимопонимание и общение – явления одного порядка. Все они – знаковые процессы. Для Пирса картезианское cogito – «я мыслю» – не является исключительно человеческим, не находится в разуме и не обладает каким-либо исключительным и непосредственным правом на свой самый сокровенный объект – самость, отвечающую в нашем представлении за мышление.
Рис. 5. Так для длиннохвостого попугая выглядит сокол. Фото автора
В качестве иллюстрации Пирс призывает нас представить себе, как красный цвет выглядит в глазах других. Он пишет, что это явление вовсе не индивидуально и мы можем себе его вообразить. Мы можем даже составить некоторое представление о том, каков красный цвет для слепого человека, который никогда его не видел, но слышал от других, что он напоминает звук трубы: «Тот факт, что я могу видеть здесь определенную аналогию, доказывает мне не только то, что мое чувствование красного подобно чувствованию тех лиц, разговор которых слышал слепой, но и то, что чувствуемый им звук трубы весьма подобен моему» (CP 1.314)[64]. В заключение Пирс делает предположение, что самопознание во многом напоминает эти процессы: «Мой метафорически настроенный друг, спрашивавший у меня о том, можем ли мы разделять чувства друг друга… мог бы также спросить у меня, уверен ли я в том, что красное выглядело для меня вчера так же, как оно выглядит и сегодня» (CP 1.314). Интроспекция и интерсубъективность семиотически опосредованы. Мы можем познавать себя и других только посредством знаков. Не важно, находится интерпретирующая самость в другом теле или является нашим психологическим «другим я», которое «просто приходит к жизни в потоке времени», подобно тому как знак интерпретируется новым знаком в семиотическом процессе, посредством которого возникают мысли, разум и само наше бытие в качестве самости.
Эта опосредованность не означает, что познание самостей невозможно, совсем наоборот: она служит основой для этой возможности. Поскольку абсолютного «непознаваемого» не существует, нет и абсолютной несоизмеримости. Мы кое-что знаем о восприятии красного цвета слепым человеком, о том, каково быть летучей мышью, или о том, что думали собаки за мгновение до нападения, – неважно, насколько опосредованным, условным, ошибочным или поверхностным будет наше понимание. Отношения самостей строятся подобно отношениям мыслей: мы все – живые и растущие мысли.
Это положение иллюстрирует простой пример. Руна делают пугала, а вернее, «отпугивателей длиннохвостых попугаев», чтобы защитить свои кукурузные поля от белоглазой аратинги. Для этого они связывают две одинаковые дощечки из пробкового дерева в виде креста, а затем красят их в красные и черные полосы, используя ашиот[65] и древесный уголь соответственно. Сверху они вырезают голову и рисуют на ней глаза, а иногда привязывают к краям дощечек полосатые хвостовые перья настоящего хищника, репрезентирующие хвост и крылья птицы (рис. 5).
Тщательно украшая это пугало, люди руна не пытаются «реалистично» представить хищника с человеческой точки зрения. Скорее, это попытка вообразить, как выглядит хищник с точки зрения попугая. Пугало – это иконический знак. Оно обозначает хищника, воспринимаемого кем-либо (в данном случае попугаем), в силу своего сходства с ним. Полосы, большие глаза и настоящие хвостовые перья этого пугала в определенной степени передают представление хищника попугаем. Поэтому не люди, а попугаи принимают эти пугала за хищных птиц. И тому есть доказательства: эти пугала с успехом защищают поля от попугаев, и поэтому их в Авиле мастерят из года в год. Мы знаем кое-что о том, каково быть попугаем, благодаря тому, как на попугаев влияют наши догадки об их мышлении.
Современные аналитические подходы не позволяют представить себе биологический мир, образованный живыми мыслями. Отчасти это является следствием распространения научного рационализма, согласно диагнозу, данному Максом Вебером относительно расколдовывания современного мира (1948a, 1948b). Мы все чаще рассматриваем мир с механистической позиции и поэтому упускаем из виду телос, значимость, отношения средства и цели (другими словами, значения (mean-ings), как я их называю, чтобы подчеркнуть тесные отношения между средствами и значениями), которые когда-то осознавали. Мир расколдован, ведь в нем теперь нет целей. Мир становится буквально бессмысленным. По мере того как этот взгляд на науку распространяется и охватывает все новые области, цели вытесняются в человеческую или духовную сферу, которая все сильнее сжимается и отрывается от обыденного мира.
Если современные формы знания и способы воздействия на нечеловеческий мир характеризуются пониманием его как механизма, то расколдовывание – вполне предсказуемое следствие. Будучи материальными объектами, машины служат средствами для достижения целей, определение и структура которых являются внешними по отношению к ним. Рассматривая какой-либо механизм, например посудомоечную машину, мы выносим за скобки цели, которые лежат в основе ее существования, а именно то, что ее кто-то построил с определенной целью. Применение такой логики к нечеловеческой биосфере, рассмотрение природы как машины, требует схожего вынесения за скобки и последующего приписывания целей людям, богам или Природе. Одним из результатов такого заключения в скобки является дуализм. Кроме того, мы начинаем упускать из виду цели как таковые. Когда мы начинаем подозревать, что, возможно, целей и, следовательно, значений не существует в принципе, расколдовывание распространяется в человеческую и духовную сферу.
Однако цели находятся не за пределами мира, а постоянно цветут в нем. Они – неотъемлемая часть жизненной сферы. Живые мысли «строят догадки» и таким образом создают будущее, в соответствии с которым они себя формируют. Образующая живой мир логика отличается от логики машин. В отличие от машин, живые мысли появляются целиком, а не составляются по частям кем-то извне. Присмотревшись к взаимодействию руна с другими видами существ, что я и собираюсь сделать при помощи антропологии по ту сторону человека, мы сможем осознать, что самости человеческого и нечеловеческого рода являются путевыми точками в жизни знаков, или локусами заколдовывания. Это поможет нам представить иной образ процветания в населяемом нами мире по ту сторону человека.
Здесь я описываю некоторые свойства «самой жизни». И хотя я осознаю, что жизнь ограничена историческими условиями и появление определенных концепций возможно лишь в специфических исторических, социальных или культурных контекстах (Foucault, 1970), я хочу еще раз остановиться на том, что было более подробно описано в первой главе. Язык и связанные с ним дискурсивные режимы, в значительной мере обусловливающие наши мысли и действия, не являются замкнутыми. Безусловно, нам стоит быть осмотрительными в отношении того, как язык (а заодно и некоторые закрепившиеся в обществе способы мышления и действия) натурализует категории мысли. Тем не менее мы можем совершить смелую попытку: говорить о «самой жизни», не будучи полностью ограниченными языком, которым мы при этом пользуемся.
С онтологической точки зрения нечеловеческие самости обладают уникальными свойствами, которые связаны с составляющей их суть семиотической природой. И это для нас в определенной степени постижимо. Эти свойства отличают самости от объектов или артефактов. Универсальный подход, хаотично смешивающий вещи и живые существа, упускает это из виду. Мне кажется, в этом заключается слабая сторона исследований науки и технологий – основного подхода к изучению нечеловеческих существ в социальных науках.
Исследования науки и технологий помещают нечеловеческих существ и людей в одну и ту же аналитическую рамку посредством некоторого редукционизма, оставляющего без внимания концепции агентности и репрезентации. В результате характерные для человека воплощения этих концепций становятся подменой любой агентности и репрезентации. Это приводит к возникновению дуализма, в котором нечеловеческие сущности и люди наделяются смешанными свойствами – как людей, так и вещей (см. Главу 1).
Например, Латур (1993, 2004), главный сторонник такого подхода, приписывает агентность либо тому, что можно репрезентировать, либо тому, что не поддается нашим попыткам репрезентации (см. также Pickering, 1999: 380–81). Однако эти характеристики передают лишь то, что в терминологии Пирса называется вторичностью, то есть реальностью или грубой фактичностью рассматриваемой сущности (см. Главу 1), поскольку все что угодно может сопротивляться репрезентации или быть репрезентированным, и это только восстанавливает разграничение между материей и значением, которое исследования науки и технологий пытаются преодолеть. С одной стороны, по-прежнему есть материя (отныне наделенная агентностью), с другой – люди (чуть более недалекие и менее уверенные в своем всезнании), которые, в зависимости от обстоятельств, осуществляют верную или ложную репрезентацию.
Однако сопротивление – это не агентность. Объединяя их, мы закрываем глаза на виды агентности, фактически существующие по ту сторону человека. Поскольку телос, репрезентацию, интенциональность и самость по-прежнему необходимо учитывать, а способ возникновения и действия этих процессов по ту сторону человека теорией не описан, латурианские исследования науки вынужденно опираются на формы репрезентации и интенциональности, характерные для человека, анализируя при этом мир по ту сторону человека. Далее эти формы применяются, пусть даже метафорически, к сущностям, которые понимаются лишь в своей вторичности.
Вещества, например, проходят через «страдания» во время испытаний (Latour, 1987: 88), а иногда они с успехом становятся «героями» (89). Поршень двигателя надежнее, чем человек, «потому что он, через систему подводок, если можно так выразиться, напрямую заинтересован в правильном режиме подачи пара. Безусловно, его заинтересованность куда более непосредственная, чем у любого человека» (130; курсив Латура [цит. по: Бруно Латур. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри о общества / пер. с англ. К. Федоровой, науч. ред. С. Миляева. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013]). Ученые, в свою очередь, используют «набор стратегий, чтобы вовлекать и заинтересовывать акторов-людей, и второй набор, чтобы вовлекать и заинтересовывать акторов нечеловеческой природы, необходимых для контроля за первыми акторами» (132).
Такой подход к нечеловеческой агентности игнорирует тот факт, что некоторые нечеловеческие существа, а именно живые существа, являются самостями. А самость не только можно репрезентировать, но она и репрезентирует сама. Для этого ей не обязательно «разговаривать». Не нужен ей и «представитель» (Latour, 2004: 62–70), потому что, как было сказано в первой главе, репрезентация выходит за пределы символического, а значит, и человеческой речи.
И хотя мы, люди, создаем различные культурные, исторические и лингвистические репрезентации нечеловеческих живых существ, что, несомненно, имеет последствия как для нас, так и для них, мы также живем в мирах, в которых репрезентация этими самостями нас может иметь жизненно важное значение. Поэтому меня интересует взаимодействие не с нечеловеческими существами в общем – при таком подходе объекты, артефакты и жизни считаются равнозначными сущностями, – а с живыми нечеловеческими существами через призму отличительных черт, делающих их самостями.
Агентами необходимо считать самости, а не вещи. Сопротивление – не то же самое, что агентность. Кроме того, вопреки утверждению Беннет (2010), материальность не наделяет жизненной силой. Самости – продукт особой реляционной динамики, включающей отсутствие, будущее и развитие, равно как и способность смешивать. Эта динамика возникает вместе с живыми мыслями и является их уникальным свойством.