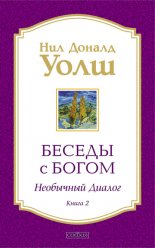Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека Кон Эдуардо

Я хочу вернуться к истории, с которой началась эта книга. Если помните, во время охоты в лесу мне сказали, что нужно обязательно спать лицом вверх. Проходящий мимо ягуар увидит, что я могу посмотреть на него в ответ, и оставит меня в покое. Если я буду спать лицом вниз, предупредили меня, то ягуар вполне может разглядеть во мне добычу и наброситься на меня. Эта история заставляет нас осознать жизненно важное значение того, как ягуар видит человека. Из этого следует, что антропология не может ограничиться тем, как люди видят мир. Я писал, что, посмотрев на ягуара в ответ, мы позволяем ему относиться к нам как к самостям. Если, напротив, мы отведем взгляд, ягуар отнесется к нам как к объекту – аича, или мертвому мясу – и мы буквально можем им стать.
Лингвист Эмиль Бенвенист (1984) отмечает, что местоимения я и ты интерсубъективно определяют положение собеседников посредством взаимного обращения, поэтому их он считает настоящими «личными» местоимениями. Третье лицо, напротив, является скорее «не-лицом» (Benveniste, 1984: 221). Оно относится к чему-то вне дискурсивного взаимодействия. Если мы перенесем эти рассуждения на межвидовые контакты, то сможем заметить, что во время взаимных переглядываний ягуар и человек в некотором смысле становятся друг для друга личностями. А руна, кроме того, в некоторой степени становятся и ягуарами.
В самом деле, как я упоминал во введении, во всех низинных общинах руна жителей Авилы знают и боятся из-за их способности превращаться в ягуаров-оборотней. Человек, к которому ягуар относится как к жертве, вполне может стать мертвым мясом. Зато тот, в котором ягуар увидел хищника, сам становится хищником. Ягуары признают два вида существ: хищника и добычу, пуму и аича. Как и в случае с клещом, существа делятся на виды согласно тому, как их репрезентирует ягуар. И то, каким видом становится существо, имеет важное значение.
На языке кечуа пума значит просто «хищник». Например, крабоядного енота[66], чей рацион включает, среди прочего, ракообразных и моллюсков, в Авиле называют чуру пума, то есть хищник, охотящийся на улиток. Поскольку ягуар является квинтэссенцией хищничества, его называют просто пумой. Руна, выжившие после встречи с таким хищником, по определению становятся руна пума, или ягуарами-оборотнями (понятие «руна» – не только этноним: оно также означает «человек» [см. Главу 6]). Следовательно, для выживания необходимо, чтобы пума не увидела в тебе добычу. Однако при встрече с ней человек также становится другим видом существа, то есть пумой. Этот новообретенный статус переносится на другие ситуации и создает новые возможности.
Пума – это относительная (реляционная) категория, в этом случае весьма похожая на местоимения я и ты (см. Главу 6). То, что мы можем стать пумой, взглянув на нее в ответ, говорит о том, что мы оба являемся видами «я», то есть видами личности. Руна, как и прочие жители Амазонии, относятся к ягуарам и многим другим нечеловеческим существам как к значащим самостям, обладающим интенцией и душой. Пользуясь недавно реанимированным термином, можно сказать, что они являются анимистами; они считают нечеловеческих существ одушевленными – или, другими словами, личностями.
Современные теории анимизма, разрабатываемые такими учеными, как Дескола (2005) и Вивейруш де Кастру (1998), весьма отличаются от предшествующих им социально-эволюционистских и порой откровенно расистских версий и становятся важным подспорьем в критике западных механистических репрезентаций природы. Однако исследователей, подвергающих критике способы репрезентации природы «Западом», интересует лишь то, почему люди из других сообществ считают нечеловеческие существа одушевленными. В этом отношении такие подходы продолжают классическую традицию в исследованиях анимизма, представленную, например, в труде Леви-Брюля под названием «Первобытное мышление» (1926). Случай ягуара затрудняет этот проект: если ягуар репрезентирует человека, то вопрос нельзя свести лишь к тому, почему некоторые люди репрезентируют ягуара таким образом.
Мне кажется, анимизм сообщает о свойствах мира нечто большее, и поэтому обращение к нему занимает центральное место в антропологии по ту сторону человека. Он передает возникающую с жизнью одушевленность, отсюда следует название книги – «Как мыслят леса». Анимизм руна вырос из необходимости взаимодействия с семиотическими самостями самими по себе и во всем их разнообразии. К нему отсылает онтологический факт: по ту сторону человека существуют другие виды мыслящих самостей.
Я, конечно, осознаю, что те, кого мы называем анимистами, вполне могут приписывать одушевленность сущностям любого рода, например камням, которые я бы не считал, в соответствии с предложенной здесь концепцией, живыми самостями. Если бы я строил свою аргументацию исключительно на анимистском мировоззрении, если бы все мои доводы были основаны на том, например, что руна думают, говорят или делают, это несоответствие могло бы стать проблемой. Но я так не делаю. Пытаясь направить внимание антропологии на то, что находится по ту сторону человека, я, среди прочего, ищу способ сделать общие утверждения о мире. Эти утверждения не обязательно совпадают с помещенной в определенный контекст позицией, например, с точкой зрения анимистов, биологов или антропологов.
«Как мыслят леса», а не «Как думают туземцы о лесе» (ср. Sahlins, 1995): сводя свое мышление к тому, как мыслят другие люди, мы неизбежно ограничиваем онтологию эпистемологией (Глава 1 предлагает решение этой проблемы). Здесь я делаю общее утверждение о самости. Оно не совсем этнографическое, потому что не ограничено этнографическим контекстом, хотя и выдвинуто, изучено и защищено при участии этнографии. Заявление заключается в том, что живые существа являются локусами самости. Я пришел к нему эмпирическим путем: оно выросло из моего внимания к отношениям руна с нечеловеческими существами, проявляющимся в процессе этнографического наблюдения. Эти отношения усиливают определенные свойства мира, тем самым заражая и меняя наше мышление о нем.
Можно сказать, что если для нас моделью вселенной является машина, то для анимистов это животная личность (animal person). У каждого своя правда в зависимости от онтологической позиции: животные – это личности, а некоторые вещи в мире на самом деле напоминают состоящие из деталей машины (этим и объясняется успех научного редукционизма). Но моя цель не в том, чтобы определить, кто прав, или указать на недостатки каждой из сторон. Я рассматриваю, каким образом определенные виды взаимодействий, основанные на определенных допущениях, в свою очередь проистекающих из этих взаимодействий, усиливают неожиданные и реальные свойства мира, которые мы можем задействовать, чтобы мыслить по ту сторону человека в привычном нам понимании.
Анимизм руна ориентирован на прагматику. Главная задача этих людей, тесно взаимодействующих с обитателями леса в основном для того, чтобы их съесть, – проникнуть в эту обширную экологию самостей и извлечь для себя пользу из ее изобилия. Для этого нужно быть готовыми воспринимать неожиданные сходства между нами и другими самостями и в то же время осознавать отличительные черты множества видов самостей, населяющих лес.
Как и многие жители Амазонии, население Авилы подходит к этой задаче через понимание других, которое Вивейруш де Кастру (1998) описал как «перспективистское». Эта позиция предполагает фундаментальное сходство между самостями и утверждает, что все виды самостей являются «я». Кроме того, она позволяет принимать во внимание уникальные черты, характеризующие различные виды существ. Из этого следуют два взаимосвязанных допущения. Во-первых, все разумные существа, будь то духи, животные или люди, считают себя личностями. То есть их субъективная картина мира идентична тому, как видят себя руна. Во-вторых, хотя все существа считают себя личностями, то, как их видят другие, зависит от видовой принадлежности обоих существ. Так, по мнению жителей Авилы, то, что нам кажется смрадом гниющей мертвечины, гриф воспринимает как сладковатый пар от дымящегося котла с клубнями маниока. В силу своих видоспецифичных привычек и нрава грифы населяют другой мир, отличный от мира руна. Тем не менее, поскольку их субъективная точка зрения – точка зрения личности, они видят этот другой мир так же, как руна видят свой собственный (Viveiros de Castro, 1998: 478)[67].
Склонность к перспективистскому видению охватывает ежедневную жизнь Авилы[68]. Один из примеров – миф, объясняющий громкий крик амазонской бамбуковой крысы[69]. Однажды крыса спросила у бревна, как выглядят женские гениталии. Поскольку из таких бревен складывают дорожки в огороде, по которым часто ходят женщины, крыса посчитала, что бревно лучше других должно разбираться в этом вопросе[70]. Намекая на густые усы крысы, бревно ответило: «Они похожи на твой рот». Услышав это, крыса ответила: «Ой, да ладно тебе!»[71], после чего залилась громким похабным смехом, который сейчас ассоциируется с ее оглушительным, долгим и отрывистым призывом, а также ее звукоподражательным названием – гунгута[72]. Для людей из Авилы юмор в этом мифе имеет не только явный сексуальный подтекст, но и перспективистскую логику.
Одинаковое имя у разных людей – еще один популярный повод для перспективистского юмора в Авиле и некоторых других общинах руна. Поскольку меня зовут так же, как одного мужчину в Авиле, люди постоянно шутили, что его жена замужем за мной[73]. Его старшая сестра шутливо обращалась ко мне тури (брат сестры), а я в ответ называл ее пани (сестра брата). Женщина, носящая то же второе имя, что и моя сестра, называла меня братом, а та, у которой было имя моей матери, называла меня сыном. Во всех этих случаях общие имена позволяли нам иметь общую перспективу и установить нежные отношения, несмотря на разницу наших миров.
Без сомнения, перспективизм – это обусловленная историей эстетическая ориентация, которую, при всем уважении к Вивейрушу де Кастру, мы можем в этом смысле описать как «культурную». Однако это еще и обусловленный экологией усиливающий эффект, следующий из необходимости понять семиотические самости, одновременно осознавая их непрерывность и различия. Перспективизм – это ответ на трудности, возникающие при попытке проникнуть в экологию самостей, чьи реляционные сети простираются далеко за пределы человека. Он появляется во время повседневного взаимодействия с лесными существами.
Чтобы понять различные самости, населяющие лес, жители Авилы пытаются встать на их точку зрения и представить, как взаимодействуют различные перспективы. Один мужчина с большим удовольствием объяснил мне, как гигантский муравьед встает в позицию муравьев, чтобы обмануть их: когда муравьед просовывает язык в муравейник, насекомые принимают его за ветку и, ничего не подозревая, взбираются по нему. В своих взаимодействиях с животными руна во многом пытаются подражать муравьеду. Они стараются воспринять перспективу другого организма как часть большего целого. Именно эту стратегию они задействуют при создании пугала и в определенных техниках ловли рыбы. Отец Вентуры красил руки в темно-фиолетовый цвет раздавленными плодами шангу (дальний родственник имбиря)[74], чтобы панцирный сом[75] не заметил, как он пытается достать его из-под скал и валунов в реке.
Понимание того, как муравьед добывает муравьев, как сделать чучело, которое бы отпугивало длиннохвостых попугаев, или как рыбачить на панцирного сома, не привлекая к себе внимания, – все эти экологические задачи требуют внимательного отношения к точке зрения, присущей другим организмам. Эта внимательность вырастает из того факта, что муравьи, длиннохвостые попугаи, панцирный сом и, по сути, все прочие формы жизни, образующие тропический лес, представляют собой самости. Они во всех отношениях являются продуктом собственной репрезентации и интерпретации окружающего мира, а также того, как другие обители этого мира репрезентируют их. Вкратце, это самости, имеющие точку зрения. Именно это одушевляет их, и эта одушевленность заколдовывает мир.
Жителям Авилы доставляет большое удовольствие найти точку зрения, заключающую в себе различные перспективы. Этот аспект перспективистской эстетики изящно передает еще один бытующий в Авиле миф. Повествование начинается с того, как главный герой чинит крышу своего дома. Когда к нему приблизился ягуар-людоед, герой крикнул ему: «Зять, помоги-ка мне найти дырки в тростниковой крыше. Для этого нужно тыкать в них палкой». Находясь внутри дома, заметить протечки в крыше довольно легко благодаря проникающему через них солнечному свету. Однако, поскольку крыша очень высокая, изнутри залатать дыры невозможно. Человек на крыше легко заделает эти дыры, но увидеть их он не может. Поэтому при починке крыши человек просит кого-то внутри просовывать через дыры палку. Внутренняя и внешняя перспективы особым образом объединяются: то, что можно было увидеть только изнутри, неожиданно становится заметным человеку извне, который, видя эти две перспективы частью чего-то большего, может что-то сделать. Поскольку герой обращается к ягуару как к зятю и видит его таковым, ягуар чувствует себя обязанным выполнить возложенные на него функции. Как только зверь заходит внутрь, герой захлопывает дверь, и строение мгновенно превращается в каменную клетку – ягуар попал в ловушку.
Перспективистская позиция – не просто практичный инструмент (как палка, объединяющая вид внутри и снаружи дома). Она позволяет задержаться в том пространстве, где, подобно шаману, можно одновременно воспринимать обе точки зрения, а также их связь с чем-то большим, что, подобно пружинистому захлопыванию ловушки, внезапно охватывает их. Внимание жителей Авилы к таким моментам осознания – характерный признак амазонского мультиприродного перспективизма. Это упускается из виду, когда мультиприродный перспективизм рассматривают как более общую аналитику, лишенную своего шаманского элемента (см., например, Latour, 2004).
Я полагаю, что мифическое происшествие перспективистского характера, в котором герой воспринимает две различные точки зрения, находясь в позиции, объединяющей обе перспективы, передает и позволяет распробовать и познать нечто о «самой жизни». Это происшествие передает определенные аспекты мыслительной логики леса, а также ощущение ясного понимания этой живой логики в моменты ее возникновения. Одним словом, оно передает ощущения от мышления.
Опыт, позволяющий смотреть на вещи как с внутренней, так и с внешней позиции с опорой на нечто большее, заключающее в себе обе точки зрения, отсылает к рассуждению Пирса о том, как научиться двигать обеими руками одновременно и в противоположном направлении, чтобы те описывали в воздухе параллельные круги: «Чтобы научиться это делать, необходимо сначала проследить за разными действиями в разных элементах движения, и тогда вдруг всплывет общая концепция действия и проделать его станет очень легко» (Peirce, 1992c: 328).
Схожим образом миф о попавшем в ловушку ягуаре передает то ощущение, когда самость «неожиданно» замечает, что различные перспективы дополняют более общее целое, которое объединяет их. Это ощущение напоминает то, что Бейтсон (2002) называет «двойным описанием», которое он считает основой жизни и разума. Размышляя о двойном описании, я опираюсь на упрощенный мной анализ этого понятия, предложенный Хуэй, Кэшмен и Диконом (2008). Бейтсон иллюстрирует понятие двойного описания посредством бинокулярного зрения. Распознавая сходства и систематически сравнивая различия между тем, что видит каждый глаз, мозг производит «двойное описание» и таким образом интерпретирует каждый входной сигнал как часть чего-то более всеобъемлющего на высшем логическом уровне. Возникает нечто новое: восприятие глубины (Bateson, 2002: 64–65).
Бейтсон задается вопросом: «Какои паттерн связывает краба с омаром, орхидею с первоцветом, и всех их со мнои, меня с вами, и всех нас вместе – с амебои, с однои стороны, и с хроническим шизофреником – с другои?» (2002: 7). Он дает следующий ответ: двойное описание действует в порождающей форму динамике, которая обусловливает характеристики этих сущностей и связь между ними. В ходе эволюции образование у «протокраба» набора довольно похожих конечностей сделало возможным адаптивную дифференциацию между ними (некоторые, например, развились в клешни и т. д.), что позволило организму в целом лучше «приспособиться» к своему окружению или репрезентировать его. Подобно тому как глубина возникает, когда мозг сравнивает дифференцированное повторение зрительной перспективы, краб как организм, чья форма в целом соответствует определенной нише (позволяя ему, например, ходить боком по морскому дну), возникает в ходе эволюции как воплощенная интерпретация повторения растущего различия между конечностями. Оба примера включают двойное описание.
Омар также возникает как форма, которая является воплощенным результатом двойного описания, включающего дифференцированное повторение семенных придатков. Посредством различных генетических механизмов отличительная общая форма орхидеи и первоцвета (каждый цветок приспособился к своим опылителям) также является результатом двойного описания, включающего дифференцированное повторение лепестков. Сравнивая краба и омара, а их, в свою очередь, с орхидеей и первоцветом, как это делает Бейтсон, мы также совершаем двойное описание; мы распознаем сходства и систематически сравниваем различия между ними, чтобы выявить двойное описание, участвующее в формировании характеристик каждого из этих организмов. Затем, когда мы сравниваем то, как мы использовали двойное описание, чтобы прийти к этому осознанию, с тем, какую роль двойное описание играет в возникновении этих биологических форм, мы замечаем, что наша форма мышления является частью биологического мира и напоминает его; более того, благодаря двойному описанию высшего порядка двойное описание само по себе возникает как концептуальный объект.
Когда мы развиваем двойное описание из двойного описания, проявляющегося в мире, таким образом, что двойное описание предстает в качестве порождающей модальности разума, это дает нам дополнительный опыт мышления вместе с действующим в мире двойным описанием. Или, выражаясь языком этой книги: когда мы мыслим вместе с лесом, мы можем увидеть, как наше мышление напоминает мышление леса, обнаруживая при этом некоторые лесные свойства самой живой мысли и того, как мы их ощущаем.
Шаманская перспективистская эстетика размышляет об этом процессе и совершенствует его. В мифе о попавшем в ловушку ягуаре точка зрения высшего порядка «возникает… неожиданно», связывая внутреннюю и внешнюю перспективу как элементы чего-то большего. Это позволяет слушателю ощутить возникновение новой живой мысли и, по сути, передает ощущение от мышления. В Авиле этот процесс воплощается в личности шамана – амазонской квинтэссенции самости, поскольку все самости как таковые считаются шаманами (см. Вивейруш де Кастру, 1998) и все самости мыслят, как лес.
Жизни и мысли – вещи одного порядка. Развитие мыслей через объединение с другими мыслями весьма напоминает отношения между самостями. Самости – это знаки. Жизни – это мысли. Семиозис живой. Поэтому-то мир и является одушевленным. Люди, например, руна из Авилы, которые проникают в сложную сеть живых мыслей и пытаются использовать ее элементы, погружаются в логику живых мыслей настолько, что их мысли о жизни начинают проявлять некоторые уникальные черты живых мыслей. Они мыслят вместе с мыслями леса и порой даже ощущают это, обнаруживая некоторые лесные свойства самой мысли.
Осознание живых мыслей и порождаемой ими экологии самостей подчеркивает уникальное свойство жизни: в отличие от камней, она мыслит. Я не ставлю перед собой цели обозначить некую основную жизненную силу или создать новый дуализм на смену старому, отделяющему людей от остальной жизни и мира. Цель в том, чтобы разобраться в некоторых специфических свойствах жизни и мысли, на которые мы не обращаем внимания, рассуждая о людях и нечеловеческих существах и их взаимодействии через призму материальности и предположений (зачастую скрытых) о лингвистической реляционности, основанной на символах.
По мнению Бейтсона, жизнь делают уникальной те ее описания, в которых «различие» есть «различимое различие» [«a difference which can make a difference», то есть такое различие, которое действительно важно. – Ред.] (2000a: 459, цит. по: Бейтсон Грегори. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии / пер. с англ. Д. Я. Федотова, М. П. Папуша. М.: Смысл, 2000). Благодаря многослойности живых репрезентативных отношений, различия в характеристиках почвы меняют ситуацию для растений, погруженных в сложную семиотическую экологию. Эти различия могут сыграть большую роль и для других форм жизни. Семиозис явным образом включает в себя различия; мысль и жизнь развиваются, передавая существующие в мире различия. Правильное понимание некоторых из них – например, способность собак отличить пуму от оленя – является жизненно важным.
Однако для живой мысли различие – это не все. Клещ не замечает разницы между пумой и оленем, и это смешение является для него плодотворным. Рассмотрение того, как другие виды самостей населяют и одушевляют мир, подталкивает нас к переосмыслению представлений о реляционности, построенной на различии. Отношения между самостями не обязательно похожи на отношения слов в системе, которую мы называем языком. Отношение не основано ни на врожденном различии, ни на врожденном сходстве. В этой главе я изучил процесс, который предшествует нашему обычному осознанию различия или сходства и зависит от своеобразного смешения. Понимание роли смешения (или забывания, или неразличения) в живой мысли поможет нам развить антропологию по ту сторону человека, способную анализировать многие виды динамики, которые лежат в основе жизни и мышления и не строятся на количестве различий.
Глава третья
Душевная слепота
Ральф Уолдо Эмерсон. Сфинкс
- Сон – впереди пробужденья,
- Явь – продолжение сна;
- Жизнь быстротечнее смерти;
- Под глубиной – глубина?
Рамун, тощий десятилетний мальчишка, шурин школьного учителя, высунулся из дверного проема в доме Иларио и взволнованно позвал: «Пуканья!» К тому времени мы были абсолютно уверены, что случилось что-то неладное. Пуканья и Куки до сих пор не вернулись. Тогда мы еще не знали, что их убила крупная дикая кошка, но начинали это подозревать. Минутами ранее на пороге появилась пошатывающаяся Уйки с зияющей раной на затылке. Иларио терпеливо промывал ее рану каким-то терпким алкоголем из моей аптечки первой медицинской помощи. Рамун по-прежнему питал надежду на то, что Пуканья неожиданно появится. Поэтому он позвал ее по имени еще раз. Когда она не появилась, он повернулся к нам и сказал: «Как ее там. Я зову того, кто стал дерьмом». Америга ответила: «Она, должно быть, превратилась в дерьмо. Так обычно поступают ягуары. Они просто испражняются ими»[76].
Вернувшись по своим следам к заброшенным, окруженным лесом пашням, где женщины собирали лонхокарпус и где они в последний раз услышали лай собак, мы, наконец, нашли их тела. Собаки, действительно, были убиты, однако не съедены большой дикой кошкой; позже семья придет к выводу, что это был ягуар, а не пума, которую, как сначала предполагали женщины, собак по ошибке приняли за оленя. Уйки не дожила и до утра.
Самости, такие как Пуканья или мы, – создания недолговечные. Они могут попасть в неопределенные пространства, где они более не являются полностью взаимодействующими субъектами, которых можно назвать по имени и которые, как Пуканья, могут откликнуться на него, но еще не превратились в неживые объекты, такие как покойник, айча, или фекалии ягуара. Поэтому они также не могут обосноваться в окончательном пространстве тишины – чун, как его назвала Луиза. Скорее, самости можно встретить в пространстве где-то между жизнью и смертью, где-то в неопределенном пространстве «как ее там» (машти, на кечуа)[77], населяемом практически безымянными – не совсем здесь с нами, но и не полностью где-то еще.
Эта глава – о тех пространствах и преобразованиях, резких поворотах, трудностях и парадоксах, которые охватывает слово машти. В ней содержится рассказ о путях распада самости и о сопряженных с этим трудностях для существ, живущих в экологии самостей. У кончины самости есть множество форм. Во-первых, конечно, это трагедия смерти организма. Однако есть и другие виды освобождения от телесной оболочки и способы сведения самости от целого к объектоподобной части другой самости. И, наконец, самости могут разрушиться, потеряв способность воспринимать другие самости и взаимодействовать с ними на равных.
Эта глава – о самостях, объектах и их взаимном образовании, особенно о том, как самости создают объекты и сами могут стать ими. Она также рассказывает о сложностях, с которыми нас сталкивает это жизненное обстоятельство, и о том, что эти трудности, специфически усиленные в особой экологии самостей в регионе Авилы, могут поведать антропологии по ту сторону человека.
Рис. 6. Когда мертвых животных приносят с охоты домой, это вызывает живое любопытство у детей. Взрослые это старательно игнорируют. Фото автора
По меткому замечанию Йеспера Хоффмейера (1996: viii), начало жизни на этой земле репрезентирует момент, когда «что-то» стало «кем-то». Вместе с тем, строго говоря, это «что-то» не существовало до появления «кого-то». Дело не столько в том, что вещей не было до появления воспринимающих их существ, но, скорее, в том, что до возникновения живых мыслей на нашей планете ничто не находилось в отношениях с самостью как объект или другая самость. Подобно самостям, объекты тоже являются следствием семиозиса. Они зарождаются в семиотической динамике, превосходящей человека.
Поэтому данная глава посвящена различным видам распада самости, создаваемым жизнью. Она рассказывает о том, что Стенли Кавелл (2005: 128) называет «маленькими смертями повседневной жизни» – о множестве смертей, которые выводят нас из отношений. Важность смерти для жизни воплощает то, что Кора Даймонд (2008) называет «сложностью реальности». Это фундаментальное противоречие порой ошеломляет людей своей непостижимостью. Есть еще одна сложность: иногда для некоторых такие противоречия оказываются чем-то совсем обыкновенным. Чувство дизъюнкции, создаваемое отсутствием этого осознания, также является частью сложности реальности. В обширной экологии самостей, где нужно выступать как самость по отношению к множеству других видов самостей, являющихся потенциальной добычей, охота выдвигает эти сложности на первый план; присущие жизни противоречия отражаются во всем мироздании (рис. 6).
Существование конкретной конфигурации материи и смысла, образующей самость, скоротечно. На практике Пуканья и другие собаки прекратили быть самостями в тот момент, когда их убил ягуар. Живая самость концентрируется вокруг хрупких тел, однако это не значит, что она обязательно находится внутри тела, «замкнутая в оболочке из плоти и крови», как критически заметил Пирс (CP 7.59; см. также CP 4.551), или, выражаясь словами Бейтсона (2000a: 467), «ограничена кожей». Жизнь простирается за пределы конкретного телесного локуса самости. Благодаря репрезентации одних самостей другими, имеющей значение для последующих поколений, жизнь может протекать в своеобразной семиотической родословной.
Следовательно, за рамками индивидуальной смерти существует своего рода жизнь. Общность жизни и ее возможное протяжение в будущее фактически зависит от пространств, открываемых сингулярной смертью (Silverman, 2009: 4). Когда я был в Авиле, умерла Роза, мать Вентуры. Однако она не полностью прекратила существование. По словам ее сына, Роза попала «внутрь» (укуман) мира духов-хозяев – существ, которые владеют лесными животными и защищают их (см. Главы 4–6), – и вышла замуж за одного из них. В «верхнем» мире (яхуапи) нашего повседневного опыта от нее осталась лишь «кожа». По мнению Вентуры, его мать «просто сбросила кожу»[78], отправившись в загробный мир, и оставила кожу детям, чтобы те предали ее земле во время похорон. В мире духов-хозяев Роза станет нестареющей невестой и будет жить вне своей кожи вечно.
Со временем мы все перестанем быть самостями. Однако следы уникальной конфигурации, образующей то, что мы считаем своей самостью, могут выходить за рамки наших смертных, ограниченных кожей тел, и таким образом «мы» в некотором виде можем продолжить существование и после кончины «кожи». Во второй главе я писал о том, что самости порождены семиозисом. Они воплощают локус формирования интерпретанта, когда один знак интерпретируется другим, порождая новый знак. Следовательно, самость – это знак, который может простираться в будущее в том случае, если последующая самость, обладающая собственным телесным локусом, репрезентирует его в семиотическом процессе, посредством которого последующая самость зарождается как самость. Поэтому жизнь, хотя и она не является полностью бесплотной, может выходить за пределы любой ограниченной кожей самости, вокруг которой она в данный момент сосредоточена. Далее речь пойдет о том, что для выхода самости за существующие телесные пределы смерть играет важнейшую роль.
Самости существуют одновременно и в теле, и за его пределами. Они имеют конкретную локализацию и вместе с тем превосходят не только индивидуальное, но и человеческое. Это иллюстрирует, например, утверждение, что у самости есть душа. В Авиле душа – или, как здесь ее называют, используя слово испанского происхождения, альма – обозначает способы взаимного образования семиотических самостей через взаимодействие друг с другом. Душа возникает реляционно во взаимодействии с другими одушевленными самостями, размывая при этом привычные нам границы между видами существ.
В экологии самостей, населяемой руна из Авилы, отношение возможно при наличии души, альма. Поскольку, по мнению людей Авилы, животные «осознают»[79] существование других видов, у них есть душа. Как собака, так и агути – крупный лесной грызун, употребляемый в пищу и считающийся, наравне с пекари, основной дичью (айча на языке кечуа), – обладают душой в силу своей способности «осознавать»[80] и замечать существа, являющиеся по отношению к ним хищником или добычей. Агути способен обнаружить присутствие охотящегося за ним хищника – собаки и потому обладает душой. Эта реляционная способность имеет конкретное воплощение – физическое положение в теле. Желчный пузырь и грудина служат агути органами сознания и позволяют ему обнаруживать присутствие хищников. Осознание людьми присутствия других существ также имеет соматическую локализацию. Так, например, сокращения мышц сообщают о присутствии посетителей или опасных животных, таких как ядовитые змеи.
Поскольку душа, как качество относительное, находится в определенных частях тела, она может перейти к другим в результате поедания этих частей. Собак считают сознательными существами, обладающими душой, вследствие их способности обнаруживать агути и прочую дичь. Они могут усилить свое сознание, измеряемое их повышенной способностью обнаруживать жертву, поедая те самые органы, которые позволяют агути чувствовать присутствие собак. По этой причине люди из Авилы иногда скармливают своим собакам желчный пузырь или грудину агути.
Следуя той же логике, они усиливают собственное осознание других существ, употребляя в пищу части тела животных. Поскольку безоаровые камни, непереваренные отложения, которые иногда находят в желудках оленей, считаются источником осознания оленем присутствия хищников, охотники иногда выкуривают кусочки этих камней, чтобы скорее встретиться с оленем. Некоторые люди из Авилы становятся руна-пума, выпивая желчь ягуара; это помогает им перенять перспективу хищника и облегчает переход их душ в тела ягуаров после смерти.
Подобно людям из Авилы, Пирс считал душу маркером коммуникации и общности среди самостей. Он полагал, что душа приобретает некоторые общие свойства, присущие живой семиотической самости в конститутивном взаимодействии с другими подобными самостями[81]. Соответственно, Пирс находит «место души» не обязательно в теле, хотя она всегда с ним связана, но как результат интерсубъективной семиотической интерпретации: «Когда я передаю свою мысль и мои чувства другу, который чувствует все то же, что и я, и я осознаю, что он воспринимает мои мысли и чувства, не живу ли я в прямом смысле в его мозгу и в своем собственном?» (CP 7.591). Душа, по мнению Пирса, не есть вещь с унитарно локализованным существованием, а нечто более похожее на слово, поскольку его множественные экземпляры могут существовать одновременно в разных местах.
Живые мысли выходят за пределы тел. Однако этот факт ставит свои проблемы. Как именно самости выходят за пределы тел, в которых они обитают? Когда и где эти самости заканчиваются? Простираясь за пределами тела, жизнь переплетается с фактом конечности существования, что представляет собой общую проблему. Это проблема, присущая жизни, и она является единственной проблемой, в которой экология самостей может позволить антропологии по ту сторону человека узнать что-то о том, как смерть является неотъемлемой частью жизни.
В Авиле эта проблема становится особенно заметной во взаимодействиях людей с руна-пума. Ягуары-оборотни – неоднозначные существа. С одной стороны, они – «другие»: чудовища, демоны, звери, враги; но, с другой стороны, это люди, которые сохраняют сильные эмоциональные связи и чувство долга перед своими живыми родственниками.
Двусмысленность этого положения создает серьезные проблемы. Недавно скончавшийся отец Вентуры в теле пумы убил одного из цыплят своего сына. Это разозлило Вентуру и заставило его усомниться в том, что его отец, ныне ягуар, продолжает считать его своим сыном? По этой причине Вентура вышел в лес возле его дома и громко сказал своему отцу, который был где-то рядом, вселившись в тело и заняв перспективу ягуара:
Я не другой,
– Я твой сын.
Даже когда я ухожу, ты должен следить за моими цыплятами[82].
Вентура продолжал отчитывать своего отца за то, что тот вел себя не так, как подобает настоящему руна-пума: он должен сам добывать себе пропитание, охотясь в лесной чаще, а не похищать цыплят. «Этим ты собираешься заниматься, вместо того чтобы отправиться в горы? Если ты будешь здесь околачиваться, – сказал Вентура, – ты должен… поймать хоть что-то для меня». Вскоре – «прошло совсем немного времени, дня три или вроде того» – отец Вентуры в теле пумы начал выполнять свои обязательства: «Неожиданно он принес мне хорошего агути».
Вот как Вентура наткнулся на «подарок» своего отца. Сначала он обнаружил место убийства в кустах возле дома. Он заметил, что ягуар «вытоптал» поляну, «пока та не начала сиять». Оттуда Вентура проследовал по тропе, проторенной телом ягуара через заросли кустарника.
И затем я увидел это,
вот здесь лежала оторванная голова.
…
После этого я осмотрелся и заметил внутренности
…
И тогда пума потянул его еще дальше.
Активно жестикулируя, Вентура описывал обнаруженную им добычу.
Вся туша сверху донизу была объедена, но обе ноги были в хорошем состоянии.
Пума не только оставила сыну куски высшего качества, но и завернула их – прямо как копченое мясо, которое преподносят в качестве подарка приглашенному родственнику на свадьбе.
Оно было прикрыто листьями. Он просто завернул мясо в листья и оставил его.
Подарок пумы – наполовину съеденная, выпотрошенная туша агути – это тело, уже не осознаваемое как самость, но превратившееся в куски фасованного мяса. Ягуары-оборотни – неоднозначные существа. Никто никогда не уверен, действительно ли они все еще люди. Не забудут ли они выполнить обязательства, возложенные на них семейными узами? А когда мы встретим их в лесу во всей их свирепой инаковости, не могут ли они быть личностью, перед которой обязательства есть у нас?
Однажды во время охоты Хуанику случайно встретил ягуара. Он выстрелил в него из своего маленького заряжающегося с дула дробовика – не слишком эффективного ружья для крупных диких кошек. Вот как он воссоздал это событие при помощи одной лишь многошаговой цепочки звуковых образов:
тья
(ружье успешно выстрелило)
тци’o—
(звук, изданный раненым ягуаром)
тей’е—
(снаряд поражает свою цель)
хоу’у—х
(еще один звук, изданный раненым ягуаром).
Затем, неожиданно и несколько мягче Хуанику изобразил звук свинцовой дроби, попавшей в зубы ягуара,
тей тей тей тей.
Выстрелом ягуару раздробило зубы и оторвало несколько усов. Когда ягуар убежал, Хуанику поднял с земли несколько усов, засунул их – «хуо’» – в карман, упаковал наполовину съеденную добычу ягуара и отправился домой.
В тот вечер, по словам Хуанику, ягуар был по-прежнему с ним: «Он снился мне всю ночь». В том сне Хуанику явился давно умерший крестный отец; он выглядел совсем как в жизни, но, когда он открыл рот, чтобы что-то сказать, было видно, что зубы у него раздроблены. «Как ты можешь сделать такое своему крестному отцу? – спросил он Хуанику. – Как же я теперь буду есть?» Крестный отец Хуанику замолчал и тяжело вздохнул – хха, – как это делают ягуары, а затем продолжил: «В таком состоянии я не смогу есть. Вот так я и умру». Хуанику закончил свой рассказ: «Так он рассказал мне, что произошло… так душа общается с тобой ночью, когда ты спишь». После долгой паузы Хуанику добавил: «Я подстрелил это. Я отправил это прочь»[83].
Руна-пума – странное создание: оно появляется в образе крестного отца, но вздыхает, словно ягуар. Хуанику связан с ним ритуальными родственными связями, однако у него нет никаких угрызений совести по поводу того, что он подстрелил это. Руна-пума, говорившая с Хуанику, – самость; та же самая руна-пума, в которую он стрелял, – вещь[84].
Противоречивая природа пумы упоминалась и в разговорах Иларио и его семьи об идентичности ягуара, убившего их собак. Спустя несколько часов после того, как Рамун звал Пуканью, семья нашла ее разорванное тело в лесу рядом с телом Куки. Судя по следам на земле и укусам на затылке, семья пришла к выводу, что собак убил ягуар.
Однако они по-прежнему не знали, какой именно ягуар это сделал. Они подозревали, что это был не обычный «лесной ягуар» (сача пума), а руна-пума, но одного этого было недостаточно. Один из членов семьи сформулировал вопрос следующим образом: «Чья пума будет нас так беспокоить?» В ту самую ночь они получили ответ. Всем приснился мертвый отец Иларио. Во сне Америги ее свекор пришел к ней в шляпе и попросил ее сохранить большой сверток с дичью, которую ему кто-то дал. Луизе приснилось, что она видела яички своего отца, а из его ануса вываливались кишки. Позже тем вечером ей приснились два теленка, один черный и один пестрый, которые, как она рассудила, принадлежали ее отцу, ставшему хозяином в царстве загробной жизни духов – хозяев леса (см. Главу 6).
Лусио, сына Иларио, не было дома. Он не слышал о нападении и появился лишь на следующий день после происшествия. Но ему в ту ночь тоже приснился его дед, стоявший «вон там, он просто разговаривал со мной и смеялся». Это убедило его в личности ягуара: «Наверняка это был мой мертвый дедушка, это он бродил поблизости». Следовательно, в теле ягуара была душа его деда, она бродила в зарослях возле дома, смотрела на мир глазами ягуара и воспринимала собак семьи как добычу.
Лусио снился не безжалостный ягуар, а любящий дед, с которым они беседовали и смеялись[85]. Смех заразителен подобно плачу или зевоте. Он провоцирует смех у других и, таким образом, объединяет их посредством своего рода иконизма в виде подчинения общему чувству (см. Deacon 1997: 428–29). Выражаясь словами Пирса, смех объединяет людей в «непрерывную реакцию» (CP 3.613). Смеясь вместе, Лусио и его дед на мгновение образовали в коммуникативной общности единую самость.
Тем не менее, насколько Иларио и его семья могли судить, этот ягуар – их любимый дедушка – напал на собак без всякой причины. Некоторые руна-пума нападают на собак, если их родственники не соблюдают запреты, предписываемые после смерти члена семьи. Но это был не тот случай, и причина нападения на собак оставалась непонятной. По мнению Лусио, этот ягуар был «ненастоящим». Иларио считал, что это был «демон», «супай». «Кто еще, – вопрошал он, – это может быть?» «Да, – подхватила его мысль Луиза, – он превратился в демона». Америга, которая всегда во всем сомневалась и пыталась докопаться до причины, задалась вопросом, не обращая его ни к кому конкретно: «Как же так, будучи личностью, он мог превратиться в такое создание?» Души, заявила Америга, похожи на нас, и таким образом они общаются с нами во снах. Однако в облике ягуаров в лесу они могут стать существом другого вида, которое больше не способно к участию и заботе; это существо даже не мертво, оно лишено души и личности.
Контакт Лусио с его любимым дедушкой во сне и присутствие демонического ягуара в лесу – одно и то же. «Наверное, он мне приснился потому, что спустился и зашел нас проведать», – рассуждал Лусио. Америга согласилась. Ягуарам-оборотням следует быть в горах, далеко от поселений людей. Поскольку дед Лусио спустился из своей лесной обители, его душа смогла в ту ночь соединиться в смехе с душой внука во сне. Это также в некоторой степени объясняло нападение на собак.
Вечером в доме родителей Лусио вспоминал недавнюю встречу с ягуаром в лесу. Учитывая обстоятельства и свой сон, он пришел к выводу, что животное также было воплощением его деда. Лусио хотел убить эту пуму. В своем воспоминании он делает ее «убиваемой» [Killable] (Haraway, 2008: 80), описывая как вещь, а не личность. Он использовал неодушевленное местоимение чай (оно) в сокращенной форме – чи, вместо одушевленного пай, которое на языке кечуа обозначают третье лицо независимо от пола или статуса человека:
чиллатами карка
это оно самое!
Его разозлило, что ружье не сработало, и он промахнулся: «Черт!» Лусио не сожалел о попытке убить этого ягуара, даже когда узнал, что в нем находилась душа его деда. Его дед, который во сне был больше, чем третьим лицом – фактически он стал своего рода мы, объединившись с внуком в смехе, – стал для него всего лишь вещью.
Границы между жизнью и смертью всегда несколько размыты. Однако бывают моменты, когда их нужно сделать более четкими. Когда человек умирает, его или ее душа – или души, поскольку, по Пирсу, множество душ могут одновременно существовать в разных местах, – покидает тело. Она может перейти в тело ягуара, как в случае с душой деда Лусио, или «взойти» (сикан) в христианский рай, или стать хозяином в царстве духов – хозяев зверей.
То, что остается, – это айя. Айя на авильском кечуа имеет двойное значение. Во-первых, это неодушевленный труп, мешок кожи, который Роза оставила, чтобы Вентура и другие ее дети его похоронили. Во-вторых, это блуждающий призрак умершего, утративший и тело, и душу. Душа вменяет существу сознание и сопутствующую способность к отклику и сопереживанию другим существам. Отсутствие у айя души делает их особенно вредоносными для людей. Айя становятся шикан, то есть существами «другого вида»[86], которые «больше не способны любить людей», как мне объяснили[87]. Особенно это касается отношения к членам семьи. Айя больше не видят в родственниках тех, кого они когда-то любили. Меньше всего чувств и наибольшую отчужденность айя питают к детям, родившимся после их смерти, и потому часто насылают на них болезни. И хотя у айя нет сознания и души, они бродят по местам, в которых бывали при жизни, безнадежно пытаясь восстановить связь с миром живых. Делая это, они вызывают болезнь в их семьях посредством своего рода «плохого воздуха», известную как хуайраска.
Айя обитают в неупорядоченном пространстве. Мы знаем, что они мертвы, но сами они думают, что все еще живы. Поэтому через две–три недели после смерти и похорон человека проводится ритуальное празднование – айя пичка[88]. Оно призвано избавить живых от опасностей, связанных с присутствием айя, и таким образом окончательно отделить мир живых самостей от мира самостей мертвых. Этот ритуал начинается ранним вечером и длится до следующего утра. Затем подается специальная трапеза (см. Главу 4). Празднование айя пичка состоялось после смерти Хорхе, мужа Розы и отца Вентуры, Анхелики и Камило. Первая часть – вечеринка с выпивкой в заброшенном доме Хорхе – началась ранним вечером и длилась всю ночь до рассвета.
И хотя некоторые плакали, раздавались также характерные стенания-песнопения, часто сопровождающие траур в Авиле, настроение по большей части было веселым. Фактически к Хорхе относились так, будто он был все еще жив. Войдя в дом Хорхе, его дочь Анхелика поставила рядом с кроватью, на которой он некогда спал, бутылку домашнего вина виниллу со словами: «Вот, выпей этой сладкой воды»[89]. Затем некоторые приносили ему миски с рыбным супом. Когда его сосед поставил бутылку виниллу на скамью, другая бутылка упала. Тогда кто-то заметил, что Хорхе немного захмелел и теперь сбивает бутылки. Перед нашим отходом в дом Камило, находившийся по соседству, муж Анхелики, Себастьян, сказал: «Дедушка, подожди здесь, мы скоро вернемся»[90].
Несмотря на то что люди относились к Хорхе так, будто он по-прежнему был частью узкого социального круга живых – шутили и разговаривали с ним, делились едой и напитками, временно оставляли его и затем снова вовлекали в поминальную вечеринку, длившуюся всю ночь, – целью этого ритуала было прогнать айя Хорхе, окончательно и навсегда воссоединив его с его последом (пупу), погребенным возле реки Хуатараку, где жили родители Хорхе, когда он родился[91]. Только когда этот пустой остаток самости, отмеченный айя, воссоединится с последом, обозначившим появление Хорхе как уникального воплощенного локуса самости, его призрак прекратит свои опасные странствия.
Мы бодрствовали всю ночь, пили и шутили, сидя у постели Хорхе. Когда начало светать – в это время Хорхе обычно выходил на охоту, – настроение изменилось. Кто-то пришел и раскрасил наши лица краской из ашиота. Красновато-оранжевый грим служил своего рода маской, сделавшей нашу природу, то есть наши человеческие самости, невидимой для айя Хорхе. Он больше не мог видеть нас как людей и потому не осознавал нашего присутствия; это удержит Хорхе в его обители.
Так оно и должно быть. Айя очень опасны для живых, и непосредственные контакты с ними, например встреча или разговор, могут привести к смерти. Для таких контактов нужно видеть мир с точки зрения этих неживых созданий, не-самостей. А это, в свою очередь, означало бы радикальное растворение нашей самости – событие, которое мы не смогли бы пережить.
Наши лица раскрашены ашиотом, мы выносим корзины с пожитками Хорхе и ставим их на тропинку, по которой его айя пройдет, чтобы воссоединиться со своим последом. Среди нас было много детей. Следуя советам взрослых, они говорили о Хорхе как о живом и призывали его пойти по той тропинке («Давай, пойдем», – говорили они). Тем временем близкие родственники Хорхе сошли с тропинки и скрылись в лесу. Таким образом, айя, неспособный узнать свою семью, друзей и соседей, продолжил путь, овеваемый по дороге листьями айя чини, нежгучей разновидности крапивы огромного размера[92]. Когда айя Хорхе отошел, некоторые почувствовали легкое дуновение ветерка. Его куры, сидевшие в одной из корзин с вещами, испугались, что указывало на присутствие уходящего айя.
В начале вечера Хорхе, хотя и был мертв, по-прежнему был личностью в своих отношениях с живыми людьми, был тем, с кем его родственники в тот вечер пили, ели, смеялись и разговаривали. Однако к концу вечера Хорхе оказался исключенным из этой общности сотрапезников. Он был навсегда отправлен в отдельную социальную и относительную область умерших.
Десубъективация происходит не только по причине физического растворения воплощенного локуса самости в смерти. Иногда все еще живые самости могут перестать считаться таковыми другими самостями. И хотя люди из Авилы признают собак полноценными самостями, порой они могут относиться к ним как к инструментам. Иногда они сравнивают собак с ружьями; это значит, что, подобно оружию, собаки расширяют охотничьи способности человека. Люди из Авилы с осторожностью следуют специальным предостережениям относительно орудий охоты. Например, они следят за тем, чтобы ни одна кость убитого ими животного не была выброшена вблизи источников воды для обмывания или питья из опасения, что ружье или ловушка, используемые для убийства этих животных, будут «погублены» (хуаглириска).
Это правило распространяется и на собак. Семья Иларио внимательно следила за тем, чтобы не давать собакам большие кости оленя, убитого ими неделю назад. Вместо этого кости выбрасывали в реку. В этом случае, поскольку не ружье и не ловушка, а собаки убили оленя, они также могут быть «погублены». По словам Иларио, их носы «закупорятся»[93] и они не смогут чуять дичь в лесу. Следовательно, в определенной ситуации собаки подобны ружью. Они становятся дополнением – оружием, расширяющим локус человеческой самости.
Люди тоже могут стать похожими на вещь инструментами. Они могут стать частями большего целого, придатками большей самости. На вечеринке Нарцисса, девушка лет двадцати, рассказала нам, как днем ранее она встретила самку и самца оленя и их олененка в лесу возле ее дома. Олени – желанная дичь, и Нарцисса надеялась, что ей удастся убить одного из них. Однако у нее была пара проблем. Во-первых, женщины обычно не носят ружья, и она сожалела о том, что была безоружна. «Черт! – воскликнула она, – если бы у меня была эта штука [то есть дробовик], это было бы отлично»[94]. Во-вторых, ее муж, у которого с собой было свое ружье и который находился поблизости, не заметил оленя. К счастью, однако, прошлой ночью Нарциссе, по ее словам, «приснился хороший сон». Он-то и привел ее к мысли, что они смогут добыть одного из этих оленей.
Перед Нарциссой стояла непростая задача: предупредить своего мужа о присутствии оленя, но в то же время не обнаружить для оленей своего присутствия. Она попыталась «закричать» сильно и вместе с тем тихо, заменяя усиление громкости удлинением слов:
«Алеха—ндру», – тихо выкрикнула я.
Напряжение в горле поглощало громкость звука, не уменьшая настоятельности ее сообщения. Она надеялась, что таким образом, олени ее не услышат. Однако ее попытка не удалась:
после такого зова
самка оленя заметила ее
и медленно повернулась [приготовившись бежать].
Точнее, попытка Нарциссы скрыть от оленей свое присутствие не удалась лишь частично. В отличие от самки, самец оленя «совершенно ничего не заметил».
Задача, с которой столкнулась Нарцисса – сообщить мужу об олене незаметным для животного образом, – указывает на распределение агентности по различным самостям, а также на то, как некоторые из этих самостей могут по ходу дела утратить свою агентность. В этом случае главным действующим лицом является Нарцисса. Сон – это конфиденциальная форма опыта и знания. Он привиделся именно ей, а не мужу. «Хороший сон» Нарциссы был важным действием. Способность ее мужа выстрелить в животное была всего лишь его непосредственным расширением.
Локусом причинности является агентность Нарциссы, ведь именно ее сон имел значение. Тем не менее она могла реализовать свой замысел, лишь выйдя за свои пределы (расширив себя) с помощью объектов. Она не могла подстрелить оленя без ружья, а поскольку в Авиле ружья обычно есть у мужчин, ей пришлось задействовать своего мужа. Однако в этом контексте он выступает не столько как человек, сколько как ружье: он становится объектом, инструментом, частью, посредством которой Нарцисса может выйти за свои пределы.
В этой ситуации Нарцисса представляла себе распределение самостей и объектов следующим образом: она и Алехандро должны были стать «единой личностью» в «непрерывной реакции» и вместе занять позицию хищника, стремящегося убить оленя (здесь – добычу). Другими словами, Нарцисса и Алехандро должны были стать единой эмерджентной самостью, подобно тому, как две самости становятся одной на основании своей общей реакции на окружающий мир (см. Peirce, CP 3.613). Отсюда, пишет Пирс, такая «непрерывность бытия» (CP 7.572) создает «свободно собранную личность, в некоторых отношениях гораздо более высокого уровня, чем личность, имеющая индивидуальный организм» (CP 5.421). Эта эмерджентная самость не распределялась бы равномерно. Нарцисса была бы локусом агентности, а Алехандро, подобно собаке Иларио, стал бы оружием – объектом расширения агентности Нарциссы.
Однако все пошло не так. Непрерывная реакция направила себя не в соответствии с видом, а с гендером, пересекая видовые границы и тем самым нарушая разделение на хищника и жертву, воображаемое Нарциссой. Самка оленя заметила Нарциссу. Ни самец оленя, ни муж женщины ничего не заметили. Не такого развития событий хотела Нарцисса. В этом случае она и самка оленя были мыслящими самостями, которых непрерывность бытия весьма неудобным образом объединила в самость высшего порядка. «Так ничего и не заметив», особи мужского пола стали объектами.
Алехандро и самец оленя не восприняли присутствия других самостей. Это может быть опасно. Если межвидовые взаимодействия зависят от способности осознавать самость других существ, то ее потеря может обернуться для существ (например, этих двух мужских особей, попавших в сеть хищничества, формирующую лесную экологию самостей) настоящей катастрофой. При определенных обстоятельствах мы все вынуждены осознать другие виды разума, личностей или самостей, населяющих мироздание. В данной экологии самостей, связывающей Алехандро и самца оленя, самости должны осознавать вещество души (soul-stuff) других самостей, чтобы взаимодействовать с ними.
Другими словами, чтобы оставаться самостью в этой экологии самостей, необходимо осознавать вещество души других одушевленных самостей, населяющих мироздание. Для описания различных форм потери души, которые приводят к неспособности осознавать других обладающих душой самостей и относиться к ним, я выбрал термин душевная слепота. Этот термин заимствован мной у Кавелла (2008: 93), который использует его для представления ситуаций, в которых человек не может видеть других людей как людей[95]. Поскольку в этой экологии самостей у всех самостей есть души, душевная слепота является проблемой не только человека, но и всего мироздания.
В экологии самостей Авилы душевная слепота отмечена изолирующим состоянием монадического солипсизма, то есть неспособностью видеть за пределами себя или своего вида. Она возникает, когда существа какого-либо вида теряют способность распознавать самость – души тех других существ, обитающих во Вселенной, и проявляется в нескольких областях. Чтобы дать представление о диапазоне и распространенности этого явления, я перечислю здесь несколько примеров. Например, нечто известное как охотничья душа[96] позволяет охотникам осознавать присутствие добычи в лесу. Шаманы могут украсть эту душу, и тогда потерпевший больше не сможет обнаруживать животных. Без этой души охотники становятся «душевно слепыми». Они теряют способность относиться к своей добыче как к самости и потому перестают отличать животных от их окружения.
Охота становится проще, если душу теряет добыча. Мужчины, убившие во сне души животных, с легкостью добывают их на следующий день, поскольку эти животные, теперь бездушные, стали душевно слепыми. Они больше не могут обнаруживать охотящихся на них людей.
Шаманы способны красть души не только у охотников, но и у галлюциногенного растения айяуаска. Употребление растения, ставшего душевно слепым, не даст шаману-сопернику исключительной осведомленности о действиях других душ.
Невидимые стрелы, которыми шаман атакует своих жертв, приводятся в движение его жизненной силой (самай), обладающей душой. Когда стрелы утрачивают эту силу, они становятся душевно слепыми; они больше не направлены на конкретную самость и путешествуют бесцельно, без какого-либо намерения, причиняя вред любому, кто встретится на их пути. Душевная слепота aйя Хорхе очень напоминала выдохшиеся стрелы шамана и считалась опасной из-за неспособности вступить в нормативные социальные отношения со своими живыми родственниками.
В качестве наказания взрослые иногда тянут детей за клок волос до тех пор, пока не раздастся характерный треск. Эти дети временно становятся душевно слепыми и ошеломленными; они не могут взаимодействовать с другими.
Темя и особенно родничок[97] являются важным порталом для прохождения жизненной силы и вещества души. Душевную слепоту можно также вызвать, вытянув жизненную силу через родничок. По описанию Делии, убивший собак ягуар «укусил их – та’– за их выслеживающие животных [animal-following] макушки»[98]. Та’ – это иконическое наречие, звуковой образ, описывающий «момент соприкосновения двух поверхностей, одна из которых обладает большей агентностью и потому изменяет другую» (Nuckolls, 1996: 178). Это точно передает воздействие клыков ягуара на череп собаки и последующее проникновение в него. То, что люди Авилы сочли такой укус смертельным, во многом связано с тем, что эта часть тела допускает интерсубъективность. Смерть собак была результатом полной потери способности к выслеживанию животных – радикальной и мгновенной душевной слепоты.
Чтобы попасть в мир, населенный волевыми существами, людям требуется некоторое представление о мотивациях других. Наша жизнь зависит от способности верить в предварительные догадки о мотивациях других самостей и действовать в соответствии с ними[99]. Люди из Авилы не смогли бы охотиться или иным способом выстраивать отношения в экологии самостей, если бы не считали бесчисленное множество населяющих лес существ одушевленными. Потеря этой способности могла бы вырвать руна из этой сети отношений.
Охота в экологии самостей – непростое дело. С одной стороны, распределение еды и питья, особенно мяса, во всей Амазонии играет важнейшую роль в создании межличностных отношений, являющихся основой сообщества. У растущих детей должно быть достаточно мяса, их дедушки, бабушки и крестные родители также получают регулярные мясные угощения. Родственников, крестных родителей и соседей, пришедших помочь в очистке леса или строительстве дома, также нужно накормить мясом. В Авиле распределение мяса занимает центральное место в формировании и упрочении социальных связей. Вместе с тем это мясо, которое делят и потребляют, тоже когда-то было личностью. Признание личности животных всегда сопряжено с опасностью перепутать охоту с войной, а совместную трапезу с каннибализмом[100].
Чтобы замечать различные существа, живущие в этой экологии самостей, и выстраивать с ними отношения, их следует признать личностями. Однако для того, чтобы быть пищей, они должны в конечном счете стать объектами, мертвым мясом. Если самости, на которых охотятся, являются личностями, то не могут ли люди так же превратиться в лишенные человеческих качеств объекты хищничества? В действительности ягуары иногда нападают на охотников в лесу, а колдуны могут принимать облик хищников. Вот почему, по убеждению Вентуры, никогда не следует пытаться убить бегущего в дом агути, потому что он, безусловно является превратившимся в добычу родственником, который сейчас спасается от колдуна, принявшего обличье хищника. Хищничество обращает наше внимание на возникающие в экологии самостей сложности, когда самости становятся объектами или считают таковыми другие самости.
Как я уже упоминал, иногда люди употребляют животных в пищу не как мясо, но как самости, чтобы приобрести частичку их самости. Мужчины пьют желчь ягуара, чтобы стать пумой. Они также скармливают своим охотничьим псам грудную кость и другие части тела агути, содержащие душу. Все это потребляется в сыром виде, чтобы сохранить самость съеденного существа. По замечанию Карлоса Фаусто (2007), это является своего рода каннибализмом. В противоположность этому, во время совместной трапезы, когда люди ощущают общность не с теми, кого они едят, а со своими сотрапезниками, употребляемое в пищу животное должно быть преобразовано в объект. Важную роль в процессах десубъективации играет приготовление пищи: руна из Авилы, подобно многим жителям Амазонии, долго варят мясо и избегают таких кулинарных техник, как запекание, которое может оставить некоторые части мяса сырыми (Lvi-Strauss, 1969).
Экология самостей представляет собой относительную систему местоимений: я, ты и оно – позиции относительные и подверженные изменениям[101]. Кто хищник, а кто добыча – зависит от контекста. Люди из Авилы с большим удовольствием рассказывают, как эти отношения могут иногда менять направления. Однажды, например, ягуар пытался напасть на большую сухопутную черепаху (яхуати), однако клыки ягуара застряли в карапаксе, и он был вынужден оставить не только добычу, но и свои зубы, которые сломались и застряли в панцире черепахи. Ягуар больше не мог охотиться и вскоре начал голодать. Когда ягуар, наконец, скончался, черепаха, большая любительница падали, по-прежнему с клыками ягуара в панцире, начала есть гниющую плоть своего бывшего хищника. Таким образом, ягуар превратился в добычу своей бывшей добычи. В основе этого я лежат отношения с оно, то есть с айча, добычей. Когда это отношение меняется и черепаха становится пумой, ягуар перестает быть хищником. Ягуары – не всегда ягуары; иногда истинными ягуарами оказываются черепахи. Принадлежность к тому или иному виду определяется тем, как ты видишь других существ и как они видят тебя.
Поскольку в этой всеобъемлющей экологии самостей межвидовые отношения в большинстве случаев имеют характер «хищник – жертва», особый интерес вызывают существа, взаимоотношения между которыми не соответствуют этой схеме. Например, неполнозубые млекопитающие (Xenathera) – отряд, включающий таких, казалось бы, разных существ, как ленивцы, муравьеы и броненосцы. Другое название этого отряда в системе Линнея – Эдентата (Edentata). На латыни это значит «ставший беззубым», что указывает на одну из самых поразительных особенностей этой группы, которую выделяют как биологи, так и жители Авилы: у ее представителей нет «настоящих» зубов – ни молочных, ни клыков, ни резцов, ни малых коренных. В лучшем случае у них развились лишь рудиментарные зубы (Emmons, 1990: 31).
Зубы – основной маркер хищника. Как-то раз Иларио рассказал об огромном ягуаре, которого люди из Авилы убили много лет назад. Его клыки были размером с небольшие бананы, и, по словам Иларио, деревенские женщины зарыдали, представив, сколько людей погибло от этих зубов. Поскольку клыки воплощают сущность хищничества, с их помощью люди засыпают жгучий перец в глаза детям, чтобы те тоже стали пумами. Без своих клыков ягуары перестают быть пумами. Люди говорят, что ягуары умирают, когда их зубы стираются.
В этом контексте представители отряда «беззубых» особенно выделяются. Легенда гласит, что четырехпалый муравьед (сусу) часто ссорится с ленивцем (индиллама), приговаривая: «И хотя у тебя есть зубы, руки твои все равно тонкие. Будь у меня зубы, я бы стал еще толще, чем сейчас». У ленивца есть рудиментарные колышковидные зубы, а у четырехпалого муравьеда, как и у его более крупного наземного родственника, гигантского муравьеда, зубов нет вовсе. Несмотря на отсутствие зубов, муравьеды – грозные хищники. Древесный муравьед может легко убить собаку. Он славится своей неутомимостью и стойкостью: чтобы повалить его на землю, может понадобиться множество выстрелов, а когда зверь оказывается на земле, охотнику часто приходится добивать его ударом палки по голове. Гигантский муравьед считается самой настоящей пумой. Пусть у него нет зубов, зато удар его острых когтей может быть смертельным. Во время моего пребывания в Авиле гигантский муравьед чуть не убил Хуанику (см. Главу 6). Как говорят, даже ягуар боится этого зверя. По словам Вентуры, когда ягуар встречает гигантского муравьеда, спящего между досковидными корнями дерева, он подает всем сигнал к тишине: «Тссс, не стучите по стволу, большой зять спит»[102].
Поскольку у броненосца нет настоящих зубов, он плохо вписывается в отношения «хищник – жертва» – экологический цикл самосохранения посредством превращения других существ в объекты. В отличие от муравьедов, броненосцы совсем не агрессивны и вовсе не считаются грозными хищниками. Вот как Эммонс (1990: 39) описывает их безобидный характер: «[они] идут быстрыми мелкими шагами, покачиваясь и немного напоминая заводные игрушки, сопят, роют землю передними лапами и, кажется, не замечают ничего дальше одного–двух футов».
У броненосцев есть свой дух-хозяин, армаллу курага – Повелитель Броненосцев, во владении и под защитой которого они находятся. Вполне естественно, что вход в обитель этого властелина представляет собой туннель, напоминающий нору броненосца. Легенда гласит, что однажды человек из Авилы потерялся в лесу, где его нашел хозяин броненосцев и пригласил домой разделить трапезу. Когда подали угощение, перед мужчиной оказалась гора из кусков мяса броненосца – свежеприготовленных, с пылу с жару. Хозяин трапезы в той же самой пище видел приготовленную тыкву сквош. «Кожура» броненосца твердая, как у тыквы. То, что нам кажется кишками животного, хозяин видит как перемешанную массу семян, окутанных волокнистой и липкой мякотью в сердцевине тыквы.
Как и все броненосцы, их повелитель не имел зубов и, к удивлению человека, «ел», просто вдыхая через нос пар, выделяемый поданными блюдами. Когда он закончил, человек по-прежнему видел на столе перед духом-хозяином нетронутые куски мяса. Однако хозяин броненосцев уже поглотил всю их жизненную силу и, к ужасу человека, выбросил, считая их экскрементами.
Духи – хозяева леса, например армаллу курага, являются хищниками, как ягуары, и порой их считают демоническими. Однако вместо того, чтобы есть мясо и кровь, как это делают ягуары и другие демоны, Повелитель Броненосцев «ест» только жизненную силу, потому что у него нет зубов, которые обозначают «настоящего» хищника. В отличие от ягуара, в теле которого, по представлению Рамуна, Пуканья превратилась в дерьмо, у этого странного хищника нет зубов, чтобы есть мясо. Поэтому на самом деле он испражняется не настоящим дерьмом, а значит, процесс десубъективизации не может быть завершен. Затем хозяин обмазывает себя произведенными экскрементами, как краской.
Хозяин держит своих броненосцев в саду, и, как это обычно делают с тыквами, он стучит по ним, чтобы определить, «созрели» ли они и можно ли их есть. Повелитель Броненосцев был добр к заблудившемуся человеку и предложил ему забрать одну из этих тыкв домой. Но каждый раз, когда тот пытался взять плод, он выскальзывал у него из рук вместе с вьющимся стеблем и листьями.
Время от времени люди пытаются извлечь выгоду из возможной обратимости отношений между хищником и добычей. Мужчины прибегают к помощи чар (пусанга), чтобы привлечь и заманить животного, а иногда и женщину. Обращаясь к чарам, мужчины хотят скрыть свои намерения, поэтому весьма знаменательно, что для важнейших из заклинаний используют череп и зубы анаконды. Наряду с ягуаром, анаконда является одним из самых страшных хищников. Однако, в отличие от ягуара, она ловит свою добычу посредством привлечения и заманивания. Из-за нее и звери, и люди теряются в лесу. Погрузившись в своего рода гипнотическое состояние, жертва начинает ходить кругами, которые постепенно закручиваются спиралью до тех пор, пока странник не окажется на месте, где прячется анаконда, ожидая его, чтобы раздавить своими объятиями. Охотники хотели бы стать таким хищником, как анаконда, которую жертва изначально не замечает.
Среди различных организмов, используемых для любовных или охотничьих чар, наиболее впечатляюще выглядит жук-синекрыл цвета голубого металла, которого Хуанику называет кандарира[103]. Однажды во время поездки для сбора материала я разгреб лесную подстилку и обнаружил пару небольших сверкающих жуков, беспрестанно кружащих вокруг друг друга. По словам Хуанику, измельченные останки этих насекомых можно добавить в еду и напитки женщины, которую хочется привлечь. Женщина, попавшая под действие чар, будет безумно следовать за мужчиной, который их наслал. Этих насекомых можно также положить в охотничий мешок, чтобы привлечь диких свиней пекари к охотнику. В бесконечном кружении вокруг друг друга, подобно тому как змей Уроборус кусает себя за хвост, эти насекомые связывают воедино хищника и добычу таким образом, что их роли оказываются перепутанными. Это является соблазнением; добыча теперь является хищником, и подлинный хищник включает это кажущееся изменение в свой способ хищничества. Соблазнение отражает не всегда эквивалентные способы, с помощью которых субъекты и объекты взаимно создают друг друга посредством всеобъемлющих сетей хищничества.
Похожая смена ролей происходит, когда жена молодого мужчины беременеет. В Авиле таких мужчин называют аукашу яя, что значит что-то вроде «отцы существ, которые еще не являются полностью человеческими» (аука относится к людям, которых считают дикарями, а также к некрещеным). Для того чтобы расти, плод нуждается в постоянном вливании семени и содержащемся в нем веществе души. Иларио объяснил: «когда семя передается» женщине во время секса, «вместе с ним переходит и душа»[104]. Потеря вещества души, происходящая во время беременности, ослабляет мужчину. Однажды Розалина пожаловалась своей соседке, что ее сын стал ужасно ленив и не может охотиться с тех пор, как его жена забеременела. Из-за потери души ее сын стал душевно слепым к другим самостям в лесу. Люди из Авилы называют такое нарушенное состояние axхуас. Подобно своим беременным женам, будущие отцы чувствуют слабость по утрам, а после рождения ребенка они должны пройти обряд кувада, включающий целый ряд ограничений. Кроме того, в течение всей беременности они становятся более агрессивными и склонными к дракам.
Эти будущие отцы теряют свою способность быть эффективными хищниками. Они становятся душевно слепыми, и это ощущается во всей экологии самостей леса. Звери внезапно отказываются входить в ловушки, расставленные будущими отцами, а если такие мужчины во время коллективной рыбалки опускают рыбный яд в воду, улов рыбы будет очень незначительным.
Осознав новый статус этих охотников, дичь больше не боится их. Звери чувствуют их слабость и, вместо того чтобы бояться их, ведут себя агрессивно и злобно. Более того, даже пугливые травоядные видят в этих некогда грозных охотниках добычу. Смиренные и осторожные животные, такие как олень или серошейный лесной пастушок (пусара), неожиданно приходят в ярость и иногда даже нападают на этих мужчин. Вентура рассказал мне во всех подробностях о том, что, когда его жена была беременна, олени в лесу дважды набросились на его, и один из оленей даже ударил его в грудь.
Сестра Вентуры, Анхелика, поймала малыша коати (носухи) в пружинный капкан и решила оставить его в качестве питомца. Держа это создание на руках, я спросил у Анхелики, может ли коати быть агрессивным по отношению ко мне. Зная, что я был одинок, женщина рассмеялась и ответила, дразня: «Только если ты аукашу яя…»
Порой из ослабленного и душевно слепого состояния будущих отцов извлекают пользу. В те дни, когда стада белогубых пекари все еще проходили через окрестности Авилы, охотники забирали мужчин в лес и использовали их как талисман для привлечения этих животных. Когда пекари, внезапно превратившиеся в хищников, яростно атаковали ослабшую и душевно слепую добычу-жертву, товарищи жертвы, сидевшие в засаде, выпрыгивали и убивали свиней.
И вновь процесс обольщения переворачивает роли хищника и добычи. Будущий отец, неспособный к восприятию самостей в лесу, стал объектом. Для пекари он – айча, мертвое мясо, а для своих товарищей – инструмент и талисман. Отношения хищника и добычи всегда вложены друг в друга, и от этого зависит успешное действие талисмана. То, что на одном уровне кажется переворачиванием отношений самости и объекта (на будущего отца охотится его бывшая добыча), на самом деле вложено в отношения более высокого уровня, которые меняют направление хищничества; руна, в этом случае распределенная самость, представленная действующей сообща группой охотников, восстанавливается в правах настоящего хищника, а свиньи становятся мясом благодаря временно десубъективированному состоянию будущего отца.
Вообще охотничьи чары привлекают животных, считающихся «сильными бегунами» (синчи пури). Среди них – тапиры, олени и краксы. Это также соответствует идее, что цель охотничьих и любовных чар – приманить целенаправленные самости к мужчине. Однако на ленивца, малоподвижного и медлительного, чары не действуют. По этой причине чары применяют в отношении существ, у которых, как считается, много явной «агентности». Заманить можно только очень подвижные существа с очевидной интенциональностью. Заманивание добычи возможно именно благодаря ее агентности, в силу которой она ведет себя словно хищник. До того как стать мертвым, мясо дичи, айча, должно быть живым.
В связи с этим интересно отметить, что практически все охотничьи и любовные талисманы и зелья в Авиле происходят от животных[105]. Есть, однако, одно замечательное исключение: бухиу панга, небольшое полуэпифитное вьющееся растение из семейства Аронниковых[106]. У него есть необычное свойство: если бросить в ручей оторванные куски его листьев, они кружатся в танце на водной поверхности[107]. Танец листьев напоминает движения белых речных дельфинов (бухиу), резвящихся в местах слияния рек, – отсюда и название растения. Подобно зубам речного дельфина, растение может стать ингредиентом для зелья. Поскольку части его листьев притягиваются друг к другу и «держатся вместе» (ллутаримум) на поверхности воды, это растение может привлекать дичь или женщину к человеку, который включил его в зелье. В общем, состав охотничьих и любовных зелий соответствует их задаче осуществлять привлечение, в него входят ингредиенты только животного происхождения, поскольку получают их из подвижных организмов. Buhyu panga, лист, двигающийся сам по себе, – исключение, подтверждающее правило.
Подобно различиям между хищниками и жертвами, в этой экологии самостей гендер также является меняющимся местоименным маркером. Когда я охотился или собирал растения в лесу, часто случалось, что мой спутник из числа руна обнаруживал дичь и говорил мне, чтобы я ждал позади, в то время как он бежал впереди, взведя курок и приготовившись к выстрелу. Неоднократно бывало так, что, когда я спокойно ждал его возвращения, та самая дичь, которую он преследовал, подходила ко мне. Такое случалось несколько раз. Стаи шерстистых обезьян высоко в кроне деревьев кружили вокруг меня. Капуцины скакали по ветвям прямо над моей головой. Одинокий мазама внезапно промчался перед моим носом, а небольшие стада ошейниковых пекари рискнули подойти так близко, что я почти мог до них дотронуться. Когда я спросил, почему животные подходят ко мне, а не к приманивающему их охотнику, мне ответили, что я, как женщина, был безоружен и, следовательно, животные не видели во мне опасного хищника и не были напуганы моим присутствием.
Этнографическая работа в поле, связанная с интенсивным погружением в образ жизни – язык, обычаи, культуру – незнакомого общества, традиционно являлась предпочтительным антропологическим методом критической саморефлексии. Мы погружаемся в непривычную культуру до тех пор, пока ее логика, значения и чувства не станут нам знакомыми; этот процесс зачастую является болезненным и дезориентирующим, но в конце концов приносящим освобождение. По возвращении домой то, что нам раньше казалось само собой разумеющимся, естественным и знакомым способом действия, начинает казаться чужим и незнакомым. Работая в поле, мы входим в другую культуру, на некоторое время выходя из своей собственной.
Антропология позволяет нам выйти за пределы своей культуры, но мы никогда не покидаем границы человеческого. Перед нами всегда стоит задача проникнуть в другую культуру. Техники саморефлексивного остранения в Авиле, включающие формы антропологического блуждания руна, наоборот, основываются не на перемещении в другую культуру, а на принятии другого типа тела. Здесь незнакомой становится не культура, а природа. Существует множество тел, все они непостоянны, человеческое тело – лишь один из многих видов тел, в которых может обитать самость. Какая антропология может возникнуть вследствие такого остранения человека?
Поскольку еда сопряжена с ощутимым процессом телесного преобразования, эта форма рефлексивности часто связана с приемом пищи. Некоторые люди в Авиле шутливо называют съедобных муравьев-листорезов сверчками для людей (руна хихи). Cверчков едят обезьяны, и когда люди едят муравьев – целиком, а иногда даже сырых, вместе с хрустящим экзоскелетом и всем остальным, – они тоже в определенном смысле становятся обезьянами. Еще один пример: многие виды лесных и культурных деревьев, принадлежащие к роду Инга (семейство Бобовые, подсемейство Мимозовые), на языке кечуа называются пакай. Они дают съедобные плоды, которые можно сорвать с дерева и съесть. Мякоть вокруг семян воздушная, белая, водянистая и сладкая. Еще одно бобовое растение, Parkia balslevii, принадлежащее к тому же подсемейству, формой своих плодов на первый взгляд напоминает пакаи. Плоды этого дерева тоже съедобны, но его ветви расположены высоко, и дотянуться до них не так-то легко. Перезрев или начав гнить, плоды падают на землю. Вследствие ферментации их мякоть становится коричневой, приторной и густой, как черная патока с неприятным привкусом. Дерево называется иллахуанга пакай, то есть пакаи для грифа. Грифам гниющая еда кажется сладкой. Когда руна едят пакаи грифов, они принимают точку зрения грифа и наслаждаются гниющими фруктами, будто свежими.
Восприятие насекомых в качестве подходящей пищи, а гниющих плодов сладкими – это то, что делают тела других видов. Когда мы едим муравьев, как сверчков, или гниющие пакаи грифов, как нечто сладкое, мы покидаем собственные тела и входим в тела других существ. Таким образом мы видим другой мир с субъективной (я) точки зрения другого варианта осуществления. В эти мгновения мы живем в другой природе.
Чрезмерный интерес к размещению перспективы способствует почти дзен-осознанности своего состояния в любой момент времени. Луиза точно помнила, о чем думала в тот момент, когда ягуар убил ее собак в кустах. Банальность ее мыслей заметно контрастирует с нападением, происходящим в ту самую секунду[108].
Тогда мои мысли находились где-то далеко,
а я размышляла: «Пойти ли мне к Марине или нет?»
Мой разум находился где-то в другом месте, а я думала:
«Чтобы пойти туда,
я просто надену платье.
Но у меня больше нет хорошего платья, чтобы переодеться».
Луиза с полной осознанностью описывает эти грезы, а заодно и себя саму, пусть даже, по ее словам, она находится где-то далеко. Она располагает себя «здесь», отображая свои мысли на другое «здесь» – место нападения ягуара на собак.
Нападение произошло в интимной женской сфере – заброшенных садах, мозаике полей и лесов, которые Америга, Делия и Луиза регулярно посещали, собирая рыбный яд, плоды пальмы чунда и прочие растительные продукты. Проникнув в эту область, ягуар вышел за границы своей территории в лесной чаще. «Неужели на берегах Суно нет горных хребтов? – сердито сказала Луиза. – Там ягуарам самое место»[109], – с мольбой в голосе пояснила она. Поскольку ягуар, убивший собак, несомненно, следил за женщинами, когда те посещали свои личные сады и поля, Америга, Делия и Луиза были возмущены. Они чувствовали, что присутствие ягуара в их интимной сфере было агрессивным вторжением. Делия отметила, что такие места должны быть безопасными от хищников. Вот как Америга описала нарушение ягуаром их интимного пространства:
Что за звери бродят вокруг наших старых жилищ
и слушают, как мы писаем?
Ягуар запросто разгуливает в тех местах, где мы писали.
Неловко представлять, как в такой интимный момент тебя видит другое существо. Это тоже форма остранения, которая вызывает сильное беспокойство: она подчеркивает уязвимую природу отдельной самости, сведенной к себе самой и ставшей душевно слепой, то есть оторванной от других и выставленной на обозрение могущественному хищнику.
Каково было бы «увидеть» себя непосредственно в процессе становления слепыми к нашим собственным душам? Эту ужасающую возможность описывает один из бытующих в Авиле мифов о провалившейся попытке искоренения демонов хури-хури, который Иларио рассказал своему племяннику Алехандро, когда в предрассветные часы они потягивали чай из гуаюсы. Стоит заметить, что существует любопытная параллель между этим мифом и испанским отчетом о восстании 1578 года (см. Введение). Согласно этому документу, все испанцы были убиты, за исключением одной девушки, которую пощадили потому, что один мужчина-индеец захотел на ней жениться.
С помощью древесной ящерицы люди обнаружили последнее убежище демонов хури-хури высоко на дереве чунчу[110]. Чтобы демоны задохнулись, люди разложили вокруг дерева кучи жгучего перца и развели огонь. Все демоны, кроме одного, упали и разбились насмерть. Последний из упавших на землю хури-хури принял обличье прекрасной белой девушки. Молодой человек сжалился над ней. Они поженились, и у них появились дети. Во время купания детей демон начал потихоньку их есть («Высасывая их мозги, цо цо, через темечки», – к неудовольствию Иларио, вмешалась Америга). Однажды муж проснулся от магически насланного сна, терзаемый вшами. Он наивно попросил жену достать их из волос. Она села за мужем, в положении, в котором он ее не видел и не мог оглянуться назад, и начала расчесывать пальцами волосы. А затем мужчина почувствовал нечто странное.
Его шея
стала обжигающе горячей[111].
Он сказал, словно между делом, совсем без эмоций:
«Я истекаю кровью,
похоже, я ранен».
В конце он произнес тихим голосом, лишенным какого-либо чувства:
«Ты меня ешь».
Иларио пояснил: «Он не то чтобы разозлился, вовсе нет». Он просто сообщил – «вот так просто» – тот факт, что его едят заживо.
А он просто спал…
Она усыпила его до смерти.
Мужчина не может почувствовать, как его съедают заживо, с перспективы субъекта. Он не может по-настоящему «увидеть» свою жену, сидящую позади и поедающую его. Он не может посмотреть на нее в ответ. Вместо этого он ощущает собственную кончину с внешней бестелесной позиции. Он может лишь логически прийти к заключению, что он ранен, а затем – что его едят заживо, основываясь на физических последствиях этого действия. Он становится полностью «слепым» к себе самому как к самости. Он не ощущает боли и не страдает; он лишь фиксирует жжение кожи на шее. Только позже к нему приходит понимание, что причина этого – его собственная кровь, вытекающая из головы. Усилиями демонической жены он испытывает собственную смерть вне своего тела. До того, как его жизнь исчезнет в неразличимости: «Сон – впереди пробужденья, / Явь – продолжение сна; / Жизнь быстротечнее смерти; / Под глубиной – глубина?» – прежде чем из ступора он перейдет в сон, а из сна в смерть, он становится объектом для себя самого. Он становится бездейственным и бесчувственным. Лишь этот факт он и осознает, пусть и смутно. Это мрачный взгляд на мир, где агентность оторвана от чувствующей, целенаправленной, мыслящей, воплощенной и локализованной самости. Это конечная станция самости: радикальная душевная слепота, указание на мир, лишенный очарования жизни, мир, где нет ни самости, ни души, ни будущего – только следствия.
Глава четвертая
Межвидовые пиджины
Тот, кто говорит Ты, не обладает никаким Нечто как объектом. Ибо там, где есть Нечто, есть и другое Нечто; каждое Оно граничит с другими Оно; Оно существует лишь в силу того, что граничит с другими. Но когда говорится Ты, нет никакого Нечто. Ты безгранично. Тот, кто говорит Ты, не обладает никаким Нечто, он не обладает ничем. Но он состоит в отношении.
Мартин Бубер. Я и Ты
Собаки должны были знать, что с ними приключится в лесу в тот день, когда они были убиты. В разговоре с Делией и Луизой, состоявшемся дома вскоре после того, как мы похоронили тела собак, Америга удивилась вслух, почему собачьи компаньоны ее семьи не смогли предвидеть собственную кончину, а заодно почему она, их хозяйка, пребывала в неведении относительно уготованного им злого рока. «Пока я сидела возле костра, им не снились сны, – сказала она. – Собаки просто спали, а обычно им снятся яркие сновидения. Когда они спят возле костра, то лают ‘хуа хуа хуа’». Я узнал, что собакам снятся сны и, наблюдая за тем, как они спят, люди могут узнать значение их снов. Если бы, как предполагала Америга, собаки лаяли во сне «хуа хуа», это указывало бы на то, что им снится преследование животных, и, следовательно, оно произошло бы на следующий день в лесу, потому что так собака лает, преследуя добычу. А если бы той ночью они лаяли «куай», это было бы верным сигналом того, что ягуар на следующий день их убьет: так собаки вопят, когда на них нападают дикие кошки[112].
Однако той ночью собаки не лаяли вовсе, и потому, к ужасу своих хозяев, не смогли предсказать собственную смерть. Делия заявила: «Поэтому они не должны были умереть». Осознание того, что система интерпретации снов, используемая людьми для понимания своих собак, не сработала, вызвало в некотором роде эпистемологический кризис. Женщины начали сомневаться, могут ли они вообще что-либо знать. Удрученная Америга спросила: «Как мы вообще можем что-то знать?» Все смущенно засмеялись, когда Луиза ответила задумчиво: «Да как это узнаешь? Теперь, даже если смерть настигнет людей, мы не сможем об этом узнать». Америга пришла к простому выводу: «Нам это не должно было быть известно».
В принципе сны и желания собак познаваемы, потому что все существа, а не только люди, взаимодействуют с миром и друг с другом как самости, то есть как существа со своей точкой зрения. Чтобы понять другие виды самостей, нужно просто научиться жить в их различных воплощенных точках зрения. Поэтому сновидения собак имеют важное значение. Не только из-за предполагаемой предсказательной силы сновидений, но и потому, что представление о непостижимости снов собак поставит под сомнение познаваемость целей и намерений самости любого вида.
Принятие точки зрения другого существа размывает границы, отделяющие разные виды самостей. В своих взаимных попытках жить вместе и понимать друг друга, собаки и люди, например, постоянно участвуют в общем межвидовом габитусе, в котором отсутствуют привычные для нас различия между природой и культурой. В частности, иерархические отношения, объединяющие руна и их собак, основываются как на использовании людьми собачьих форм социальной организации, так и на наследии колониальной истории Верхней Амазонии, связывающей людей в Авиле с миром светлокожих метисов за границами деревни.
Межвидовая коммуникация может быть опасной. С одной стороны, важно не допустить полного преобразования человеческой самости, чтобы не остаться собакой навсегда, а с другой – избежать монадической изоляции, которую репрезентирует описанная в прошлой главе душевная слепота, солипсическая обратная сторона этого преобразования. Чтобы нивелировать опасность, люди в Авиле прибегают к различным стратегиям межвидовой коммуникации. Данные стратегии раскрывают нечто важное о необходимости выйти за пределы человека и сопряженной с этим трудности: сделать это так, чтобы не растворить человеческое. Кроме того, они обнаруживают важные свойства присущей семиозису логики, понимание которых лежит в основе развиваемой мной антропологии по ту сторону человека. Чтобы выделить некоторые из этих свойств и направить исследование в определенное русло, я воспользуюсь эвристическим приемом и загадаю незначительную, но не дающую покоя этнологическую головоломку: почему люди в Авиле интерпретируют сны собак буквально (например, если собака лает во сне, это значит, что она будет схожим образом лаять на следующий день в лесу), тогда как собственные сны они интерпретируют главным образом метафорически (например, если мужчине снится, как он убивает цыпленка, на следующий день в лесу он подстрелит пернатую дичь)?
Экология самостей, в которой живут руна, их собаки и множество лесных существ, простирается далеко за пределы человеческого, но в то же время является «слишком человеческой»[113]. Я использую это понятие, чтобы описать пути, которыми наши жизни и жизни других попадают в моральные сети, сплетенные людьми. Я хочу дать понять, что антропология, стремящаяся к более емкому пониманию человека, должна включить в объект исследования тех, кто находится за пределами человека. При этом она также должна принимать во внимание то, как на эти отношения может повлиять собственно человеческое.
В первой главе я утверждал, что символическое упоминание является отличительным свойством человека. То есть символическое (на этой планете) присуще только людям. Мораль – это тоже характерная черта человека, поскольку для морального мышления и этичного поведения необходима символическая референция. Это требует способности на мгновение дистанцироваться от мира и наших действий в нем, чтобы порассуждать о возможных образах нашего будущего поведения, которое, как мы полагаем, может быть хорошим для других, то есть не нас. Это дистанцирование достигается посредством символической референции.
Моя цель заключается не в том, чтобы прийти к всеобщему пониманию надлежащей системы морали. Я также не утверждаю, что хорошее общежитие – то, что Харауэй (2008: 288–89) называет «процветанием», – непременно требует рациональной абстракции или моральности (хотя это и необходимо для рассуждения о добре). Однако, чтобы помыслить антропологию по ту сторону человека, которая не проецировала бы человеческие качества повсеместно, мы должны поместить мораль в определенный онтологический контекст. То есть мы должны быть точными в том, где и когда мораль появляется. Очевидно, что до появления людей на земле не было ни морали, ни этики. Мораль не является неотъемлемой частью нечеловеческих существ, с которыми мы делим эту планету. Возможно, моральная оценка действий человека и уместна, но это не относится к нечеловеческим существам (см. Deacon, 1997: 219).
Ценность (value), напротив, присуща более широкому нечеловеческому миру, поскольку является неотъемлемым свойством жизни. Есть плохие и хорошие вещи для живых самостей и их возможностей развития (см. Deacon, 2012: 25, 322). Здесь стоит иметь в виду, что под «развитием» я подразумеваю возможность учиться путем приобретения опыта (см. Главу 2). Поскольку нечеловеческие живые самости могут расти, уместно подумать о том, какие моральные последствия будут иметь наши действия для их хорошего роста, то есть процветания[114].
Как и в случае с символами, признание отличительности морали не означает, что она отрезана от источника своего появления. Мораль и ценность, равно как и символическая и индексальная референции, находятся в отношении эмерджентной непрерывности. При этом ценность простирается за пределы человека. Это – конститутивная черта живых самостей. Наши моральные миры могут влиять на нечеловеческие существа именно потому, что некоторые вещи для них хороши, а некоторые плохи. Если бы мы научились прислушиваться к этим существам, жизни которых переплетены с нашими, то узнали ли бы, что некоторые вещи, которые хороши или плохи для них, хороши или плохи также и для нас.
Это особенно верно, когда мы начинаем рассматривать, каким образом то, что заключает нас в себе, становится эмерджентной самостью, которая может включать в свои предстоящие конфигурации множество видов существ. Мы, люди, являемся продуктом множества нечеловеческих существ, которые явились, чтобы сделать и продолжают делать нас такими, какие мы есть. Наши клетки в некотором смысле сами являются самостями, а их органеллы когда-то в далеком прошлом были свободно существующими бактериальными самостями; наши тела – обширные экологии самостей (Margulis and Sagan, 2002; McFall-Ngai et al., 2013). Ни одна из этих самостей сама по себе не является локусом морального действия, хотя его можно обнаружить в более крупных самостях, обладающих эмерджентными свойствами (например, способность человека к нравственному мышлению).
По мнению Харауэй, многовидовое столкновение представляет собой важнейшую область для культивирования этической практики. В нем мы наиболее явно встречаемся с тем, что Харауэй называет «значимой инаковостью» (Haraway, 2003). Мы сталкиваемся с инаковостью, которая оказывается радикально (значимо) другой, не являясь при этом несоизмеримой или «непознаваемой» (см. Главу 2). Тем не менее в этих столкновениях мы можем войти в близкие (значимые) отношения с другими, которые радикальным образом не являются нами. Многие из этих самостей не являются нами самими, они также не являются и людьми. Другими словами, они не символические создания и, следовательно, не являются локусом морального суждения. По существу они понуждают нас искать новые способы слушать и мыслить за пределами наших моральных миров, что, в свою очередь, может помочь нам представить и сделать мир лучше и справедливее.
Более объемлющая этическая практика, которая внимательно анализирует жизнь в мире, населенном другими самостями, должна стать характерной чертой возможных миров, которые мы представляем и которые стремимся породить вместе с другими существами. Однако реализация этой практики и принятие решений относительно того, какой вид процветания приветствовать и как освободить место для многочисленных смертей, от которых зависит любое процветание, сами являются моральной проблемой (см. Haraway, 2008: 157, 288). Мораль – это основополагающая черта нашей человеческой жизни и одно из многих ее затруднений. Мы сможем лучше понять ее при посредстве антропологии по ту сторону человека; семиозис и мораль должно осмысливать вместе, потому что мораль не может появиться без символического.
Определитель «слишком» (в противоположность «отличительному») не является ценностно-нейтральным. Он несет в себе моральное суждение, подразумевая присутствие чего-то потенциально тревожного. Эта и следующие за ней главы рассматривают то, как руна погружены во множество проявлений слишком человеческого наследия колониальной истории, оказывающей большое влияние на жизнь в этой части Амазонии. Короче говоря, эти главы начинают рассматривать проблемы властных отношений.
Собаки и люди в Авиле живут во многих отношениях в независимых мирах. Люди часто игнорируют своих собак, и когда они взрослеют, хозяева даже не обязательно их кормят. Со своей стороны, собаки, кажется, тоже во многом игнорируют людей. Они отдыхают в прохладной тени под домом, гоняются за сукой соседей или, как сделали собаки Иларио за несколько дней до того, как были убиты, самостоятельно охотятся на оленей[115]. И все же их жизнь тесно переплетена с жизнью хозяев-людей. Это переплетение заключается не только в ограниченности дома или деревни. Оно также является результатом взаимодействия собак и людей с биотическим миром леса, а также с социально-политическим миром за пределами Авилы, с которым оба вида связывает наследие колониальной истории. Отношения собак и людей следует понимать с позиций обоих этих полюсов. Иерархическая структура, на которой эти отношения основываются, одновременно (но не в равной степени) является биологическим и колониальным фактом. Так, отношения хищничества соответствуют тому, как руна и их собаки относятся к лесу, а также к миру белых.
Посредством процесса, который Брайан Хэир и его коллеги (Hare et al., 2002) назвали «филогенетической инкультурацией», собаки проникли в социальные миры людей настолько, что превзошли даже шимпанзе в понимании определенных аспектов человеческой коммуникации (например, различных указательных форм, определяющих местоположение еды). Чтобы выжить в Авиле, собака должна научиться правильным образом становиться человеком[116]. Исходя из этого, люди направляют своих собак по этому пути, подобно тому, как помогают молодежи перейти во взрослую жизнь. Они дают наставления собакам, как правильно жить, так же как они советуют это делать ребенку. Для этого они заставляют животных проглотить смесь из растений и других веществ, например желчи агути. Некоторые ингредиенты этой смеси, которая называется цита, вызывают галлюцинации и довольно ядовиты[117]. Поучая собак таким образом, люди в Авиле пытаются усилить человеческий этос поведения, который собаки должны разделять[118].
Как и взрослым людям руна, собакам не полагается быть ленивыми. Для собак это означает, что вместо охоты на цыплят и прочую домашнюю живность они должны преследовать лесную дичь. Кроме того, собакам, как и людям, не полагается быть жестокими. Это значит, что собаки не должны кусать людей или громко на них лаять. И, наконец, собаки, как и их хозяева, не должны расходовать всю свою энергию на секс. Мне довелось наблюдать несколько раз, как люди давали цита собакам. Случай в доме Вентуры во многом типичен. По словам Вентуры, до того, как его пес Пунтеро открыл для себя самок, он был хорошим охотником, но, став сексуально активным, утратил способность чуять зверей в лесу. Поскольку вещество души передается развивающемуся плоду через семя во время секса, пес, как и будущие отцы, которых я обсуждал в третьей главе, стал душевно слепым. Одним ранним утром Вентура с семьей поймали Пунтеро, перевязали его пасть куском виноградной лозы и связали ему ноги. Затем Вентура влил цита в пасть Пунтеро.
Делая это, он приговаривал:
[оно] охотится на небольших грызунов
не будет кусать цыплят
[оно] преследует стремительно