Москва и москвичи. Репортажи из прошлого Гиляровский Владимир
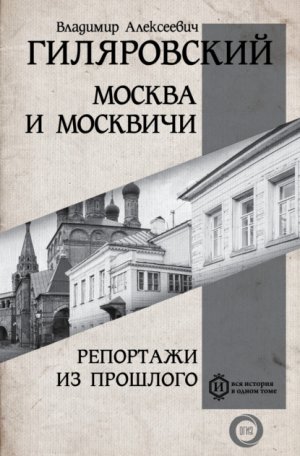
– Это не он, тот туда убежал, – вступился за меня прохожий с чрезвычайно знакомым лицом.
Разъяснилось, что я – не тот, которого они ловили, хотя на мне тоже была красная рубаха.
– Да вон у него бумаги в руках, вашебродие, – указал городовой на поднятую пачку.
– Это я сейчас поднял, мимо меня пробежал человек, обронил, и я поднял.
– Гляди, мол, тоже рубаха-то красная, тоже, должно, из ефтих! – раздумывал вслух дворник, которого я сшиб на мостовую.
– А ты кто будешь? Откуда? – спросил квартальный.
Тогда я только понял весь ужас моего положения и молчал.
– Тащи его в часть, там узнаем, – приказал квартальный, рассматривая отобранные у меня чужие бумаги.
– Да это прокламации! Тащи его, дьявола… Мы тебе там покажем. Из той же партии, что бежавший…
Половина толпы бегом бросилась за убежавшим, а меня повели в участок. Я решил молчать и ждать случая бежать. Объявлять свое имя я не хотел – хоть на виселицу.
На улице меня провожала толпа. В первый раз в жизни я был зол на всех – перегрыз бы горло, разбросал и убежал. На все вопросы городовых я молчал. Они вели меня под руки, и я не сопротивлялся.
Огромное здание полицейского управления с высоченной каланчой. Меня ввели в пустую канцелярию. По случаю воскресного дня никого не было, но появились – коротенький квартальный и какой-то ярыга с гусиным пером за ухом.
– Ты кто такой? А? – обратился ко мне квартальный.
– Прежде напой, накорми, а потом спрашивай, – весело ответил я.
Но в это время вбежал тот квартальный, который меня арестовал, и спросил:
– Полицмейстер здесь? Доложите, по важному делу… Государственные преступники.
Квартальные пошептались, и один из них пошел налево в дверь, а меня в это время обыскали, взяли кошелек с деньгами, бумаг у меня не было, конечно, никаких.
Из двери вышел огромный бравый полковник с бакенбардами.
– Вот этот самый, вашевскобродие!
– А! Вы кто такой? – очень вежливо обратился ко мне полковник, но тут подскочил квартальный.
– Я уж спрашивал, да отвечает, прежде, мол, его напой, накорми, потом спрашивай.
Полковник улыбнулся.
– Правда это?
– Конечно! На Руси такой обычай у добрых людей есть, – ответил я, уже успокоившись.
Ведь я рисковал только головой, а она недорога была мне, лишь бы отца не подвести.
– Совершенно верно! Я понимаю это и понимаю, что вы не хотите говорить при всех. Пожалуйте в кабинет.
– Прикажете конвой-с?
– Никаких. Оставайтесь здесь.
Спустились, окруженные полицейскими, этажом ниже и вошли в кабинет. Налево стоял огромный медведь и держал поднос с визитными карточками. Я остановился и залюбовался.
– Хорош?
– Да, пудов на шестнадцать!
– Совершенно верно. Сам убил, шестнадцать пудов. А вы охотник? Где же охотились?
– Еще мальчиком был, так одного с берлоги такого взял.
– С берлоги? Это интересно… Садитесь, пожалуйста.
Стол стоял поперек комнаты, на стенах портреты царей – больше ничего. Я уселся по одну сторону стола, а он напротив меня – в кресло и вынул большой револьвер кольт.
– А я вот сначала рогатиной, а потом дострелил вот из этого.
– Кольт? Великолепные револьверы.
– Да вы настоящий охотник! Где же вы охотились? В Сибири? Ах, хорошая охота в Сибири, там много медведей!
Я молчал. Он пододвинул мне папиросы. Я закурил.
– В Сибири охотились?
– Нет.
– Где же?
– Все равно, полковник, я вам своего имени не скажу, и кто и откуда я – не узнаете. Я решил, что мне оправдаться нельзя.
– Почему же? Ведь вы ни в чем не обвиняетесь, вас задержали случайно, и вы являетесь как свидетель, не более.
– Извольте. Я бежал из дома и не желаю, чтобы мои родители знали, где я и, наконец, что я попал в полицию. Вы на моем месте поступили бы, уверен я, так же, так как не хотели бы беспокоить отца и мать.
– Вы, пожалуй, правы… Мы еще поговорим, а пока закусим. Вы не прочь выпить рюмку водки?
Полицмейстер не сделал никакого движения, но вдруг из двери появился квартальный:
– Изволили требовать?
– Нет. Но подождите здесь… Я сейчас распоряжусь о завтраке: теперь адмиральский час.
И он, показав рукой на часы, бившие 12, исчез в другую дверь, предварительно заперев в стол кольт. Квартальный молчал. Я курил третью папиросу нехотя.
Вошел лакей с подносом и живо накрыл стол у окна на три прибора.
Другой денщик тащил водку и закуску. За ним вошел полковник.
– Пожалуйте, – пригласил он меня барским жестом и добавил: – Сейчас еще мой родственник придет, гостит у меня проездом здесь.
Не успел полковник налить первую рюмку, как вошел полковник-жандарм, звеня шпорами. Седая голова, черные усы, черные брови, золотое пенсне. Полицмейстер пробормотал какую-то фамилию, а меня представил так – охотник, медвежатник.
– Очень приятно, молодой человек!
И сел. Я сообразил, что меня приняли действительно за какую-то видную птицу, и решил поддерживать это положение.
– Пожалуйте, – пододвинул он мне рюмку.
– Извините, уж если хотите угощать, так позвольте мне выпить так, как я обыкновенно пью.
Я взял чайный стакан, налил его до краев, чокнулся с полковниками и с удовольствием выпил за один дух.
Мне это было необходимо, чтобы успокоить напряженные нервы. Полковники пришли в восторг, а жандарм умилился:
– Знаете что, молодой человек. Я пьяница, Ташкент брал, Мишку Хлудова перепивал, и сам Михаил Григорьевич Черняев, уж на что молодчина был, дивился, как я пью… А таких, извините, пьяниц, извините, еще не видал.
Я принял комплимент и сказал:
– Рюмками воробья причащать, а стаканчиками куманька угощать…
– Браво, браво…
Я с жадностью ел селедку, икру, съел две котлеты с макаронами, и еще, налив два раза по полстакана, чокнулся с полковничьими рюмками и окончательно овладел собой. Хмеля ни в одном глазу. Принесли бутылку пива и кувшин квасу.
– Вам квасу?
– Нет, я пива. Пецольдовское пиво я очень люблю, – сказал я, прочитав ярлык на бутылке.
– А я пива с водкой не мешаю, – сказал жандарм. Я выпил бутылку пива, жадно наливал стакан за стаканом. Полковники переглянулись.
– Кофе и коньяк!
Лакей исчез. Я закурил.
– Ну, что сын? – обратился он к жандарму.
– Весной кончает Николаевское кавалерийское, думаю, что будет назначен в конный полк, из первых идет…
Лакей подал по чашке черного кофе и графинчик с коньяком.
У меня явилось желание озорничать.
– Надеюсь, теперь от рюмки не откажетесь?
– Откажусь, полковник. Я не меняю своих убеждений.
– Но ведь нельзя же коньяк пить стаканом.
– Да, в гостях неудобно.
– Я не к тому… Я очень рад… Я ведь только одну рюмку пью.
Я налил две рюмки.
– И я только одну, – сказал жандарм.
– А я уж остатки… Разрешите.
Из графинчика вышло немного больше половины стакана. Я выпил и закусил сахаром.
– Великолепный коньяк, – похвалил я, а сам до тех пор никогда коньяку и не пробовал.
Полковники смотрели на меня и молчали. Я захотел их вывести из молчания.
– Теперь, полковник, вы меня напоили и накормили, так уж, по доброму русскому обычаю, спать уложите, а там завтра уж и спрашивайте. Сегодня я отвечать не буду, сыт, пьян и спать хочу…
По лицу полицмейстера пробежала тучка, и на лице блеснули морщинки недовольства, а жандарм спросил:
– Вы сами откуда?
– Приезжий, как и вы здесь, и, как и вы, сейчас гость полковника, а через несколько минут буду арестантом. И больше я вам ничего не скажу.
У жандарма заходила нижняя челюсть, будто он грозил меня изжевать. Потом он быстро встал и сказал:
– Коля, я к тебе пойду! – и, поклонившись, злой походкой пошел во внутренние покои. Полицмейстер вышел за ним. Я взял из салатника столовую ложку, свернул ее штопором и сунул под салфетку.
– Простите, – извинился он, садясь за стол. – Я вижу в вас, безусловно, человека хорошего общества, почему-то скрывающего свое имя. И скажу вам откровенно, что вы подозреваетесь в серьезном… не скажу преступлении, но… вот у вас прокламации оказались. Вы мне очень нравитесь, но я – власть исполнительная… Конечно, вы догадались, что все будет зависеть от жандармского полковника…
– …который, кажется, рассердился. Не выдержал до конца своей роли.
– Да, он человек нервный, ранен в голову… И завтра вам придется говорить с ним, а сегодня я принужден вас продержать до утра – извините уж, это распоряжение полковника – под стражей…
– Я чувствую это, полковник; благодарю вас за милое отношение ко мне и извиняюсь, что я не скажу своего имени, хоть повесьте меня.
Я встал и поклонился. Опять явился квартальный, и величественный жест полковника показал квартальному, что ему делать.
Полковник мне не подал руки, сухо поклонившись. Проходя мимо медведя, я погладил его по огромной лапе и сказал:
– Думал ли, Миша, что в полицию попадешь!
Мне отдали шапку и повели куда-то наверх на чердак.
– Пожалуйте сюда! – уже вежливо, не тем тоном, как утром, указал мне квартальный какую-то закуту.
Я вошел. Дверь заперлась, лязгнул замок, и щелкнул ключ. Мебель состояла из двух составленных рядом скамеек с огромным еловым поленом, исправляющим должность подушки. У двери закута была высока, а к окну спускалась крыша. Посредине, четырехугольником, обыкновенное слуховое окно, но с железной решеткой. После треволнений и сытного завтрака мне первым делом хотелось спать и ровно ничего больше.
«Утро вечера мудренее!» – подумал я, засыпая.
Проснулся ночью. Прямо в окно светила полная луна. Я поднимаю голову – больно, приклеились волосы к выступившей на полене смоле. Встал. Хочется пить. Тихо кругом. Подтягиваюсь к окну. Рамы нет – только решетки, две поперечные и две продольные, из ржавых железных прутьев. Я встал на колени на нечто вроде подоконника и просунул голову в широкое отверстие. Вдали Волга… Пароход где-то просвистал. По дамбе стучат телеги. А в городе сонно, тихо. Внизу, подо мной, на пожарном дворе лошадь иногда стукнет ногой. Против окна торчат концы пожарной лестницы. Устал в неудобной позе, хочу ее переменить, пробую вынуть голову, а она не вылезает… Упираюсь шеей в верхнюю перекладину и слышу треск – поддается тонкое железо кибитки слухового окна. Наконец, вынимаю голову, прилаживаюсь и начинаю поднимать верх. Потрескивая, перекладина поднимается, а за ней вылезают снизу из гнилого косяка и прутья решетки. Наконец, освобождаю голову, примащиваюсь поудобнее и, высвободив из нижней рамы прутья, отгибаю наружу решетку. Окно открыто, пролезть легко. Спускаюсь вниз, одеваюсь, поднимаюсь и вылезаю на крышу. Сползаю к лестнице, она поросла мохом от старости. Смотрю вниз. Ворота открыты. Пожарный-дежурный на скамейке, и храп его ясно слышен. Спускаюсь. Одна ступенька треснула. Я ползу в обхват.
Прохожу мимо пожарного в отворенные ворота и важно шагаю по улице вниз, направляясь к дамбе. Жажда мучит. Вспоминаю, что деньги у меня отобрали. И вот чудо: подле тротуара что-то блестит. Вижу – дамский перламутровый кошелек. Поднимаю. Два двугривенных! Ободряюсь, шагаю по дамбе. Заалелся восток, а когда я подошел к дамбе и пошел по ней, перегоняя воза, засверкало солнышко… Пароход свистит два раза – значит, отходит. Пристань уже ожила. В балагане покупаю фунт ситного и пью кружку кислого квасу прямо из бочки. Открываю кошелек – двугривенных нет. Лежит белая бумажка. Открываю другое отделение, беру двугривенный и расплачиваюсь. Интересуюсь бумажкой – оказывается, второе чудо: двадцатипятирублевка. Эге, думаю я, еще не пропал! Обращаюсь к торговцу:
– Возьму целый ситный, если разменяешь четвертную.
– Давай!
Беру ситный, иду на пристань, покупаю билет третьего класса до Астрахани, покупаю у бабы воблу и целого гуся жареного за рубль.
Пароход товаро-пассажирский. Народу мало. Везут какие-то тюки и ящики. Настроение чудесное… Душа ликует…
Астрахань. Пристань забита народом.
- Какая смесь одежд и лиц,
- Племен, наречий, состояний…
Солнце пекло смертно. Пылища какая-то белая, мелкая, как мука, слепит глаза по пустым немощеным улицам, где на заборах и крышах сидят вороны. Никогошеньки. Окна от жары завешены. Кое-где в тени возле стен отлеживаются в пыли оборванцы.
На зловонном майдане, набитом отбросами всех стран и народов, я первым делом сменял мою суконную поддевку на серый почти новый сермяжный зипун, получив трешницу придачи, расположился около торговки съестным в стоячку обедать. Не успел я поднести ложку мутной серой лапши ко рту, как передо мной выросла богатырская фигура, на голову выше меня, с рыжим чубом… Взглянул – серые знакомые глаза… А еще знакомее показалось мне шадровитое лицо… Не успел я рта открыть, как великан обнял меня.
– Барин? Да это вы!..
– Я, Лавруша…
– Ну, нет, я не Лавруша уж, а Ваня, Ваняга…
– Ну, и я не барин, а Алеша… Алексей Иванов…
– Брось это! – вырвал он у меня чашку, кинул пятак торговке и потащил. – Со свиданием селяночки хлебанем.
Орлов после порки благополучно бежал в Астрахань – иногда работал на рыбных ватагах, иногда вольной жизнью жил. То денег полные карманы, то опять догола пропьется. Кем он не был за это время: и навожчиком, и резальщиком, и засольщиком, и уходил в море… А потом запил и спутался с разбойным людом…
Я поселился в слободе, у Орлова. Большая хата на пустыре, пол земляной, кошмы для постелей. Лушка, толстая немая баба, кухарка и калмык Доржа. Еды всякой вволю: и баранина, и рыба разная, обед и ужин горячие. К хате пристроен большой чулан, а в нем всякая всячина съестная: и мука, и масло, и бочка с соленой промысловой осетриной, вся залитая доверху тузлуком, в который я как-то, споткнувшись в темноте, попал обеими руками до плеч, и мой новый зипун с месяц рыбищей соленой разил.
Уж очень я был обижен, а оказывается, что к счастью!
С нами жил еще любимый подручный Орлова – Ноздря. Неуклюжий, сутулый, ноги калмыцкие – колесом, глаза безумные, нос кверху глядит, а из-под вывороченных ноздрей усы щетиной торчат. Всегда молчит и только приказания Орлова исполняет. У него только два ответа на все: «ну-к што ж» и «ладно».
Скажи ему Орлов, примерно:
– Видишь, купец у лабаза стоит?
– Ну-к што ж!
– Пойди дай ему по морде!
– Ладно.
И пойдет, и даст, и рассуждать не будет, для чего это надо: про то атаману знать!
– Золото, а не человек, – хвалил мне его Орлов, – только одна беда – пьян напьется и давай лупить пи с того ни с сего, почем зря, всякого, приходится глядеть за ним и, чуть что, связать и в чулан. Проспится и не обидится – про то атаману знать, скажет.
На другой день к обеду явилось новое лицо: мужичище саженного роста, обветрелое, как старый кирпич, зловещее лицо, в курчавых волосах копной, и в бороде торчат метелки от камыша. Сел, выпил с нами водки, ест и молчит. И Орлов тоже молчит – уж у них обычай ничего не спрашивать – коли что надо, сам всякий скажет. Это традиция.
– Ну, Ваняга, сделано, я сейчас оттуда на челночишке… Жулябу и Басашку с товаром оставил на Свиной Крепи, а сам за тобой: надо косовушку, в челноке насилу перевезли все.
Волга была неспокойная. Моряна развела волну, и большая, легкая и совкая костромская косовушка скользила и резала мохнатые гребни валов под умелой рукой Козлика – так не к лицу звали этого огромного страховида. По обе стороны Волги прорезали стены камышей в два человеческих роста вышины, то широкие, то узкие протоки, окружающие острова, мысы, косы…
Козлик разбирался в них, как в знакомых улицах города, когда мы свернули в один из них и весла в тихой воде задевали иногда камыши, шуршавшие метелками, а из-под носа лодки уплывали в них ничего не боящиеся стада уток.
Странное впечатление производили эти протоки: будто плывешь по аллее тропического сада… Тишина иногда нарушается всплеском большой рыбины, потрескиванием камышей и какими-то странными звуками…
– Что это? – спрашиваю.
– Дикие свиньи свою водяную картошку ищут. Какую водяную картошку, я так и не спросил, уж очень неразговорчивый народ!
Иногда только они перекидывались какими-то непонятными мне короткими фразами. Иногда Орлов вынимал из ящика штоф водки и связку баранок. Молча пили, молча передавали посуду дальше и жевали баранки. Мы двигались в холодном густом тумане бесшумными веслами.
Уверенно Козлик направлял лодку, знал, куда надо, в этой сети путаных протоков среди однообразных аллей камыша.
Я дремал на средней лавочке вместо севшего за меня в весла Ноздри.
Вдруг оглушительный свист… Еще два коротких, ответный свист, и лодка прорезала полосу камыша, отделявшего от протока заливчик, на берегу которого, на острове ли, на мысу ли, торчали над прибрежным камышом ветлы-раскоряки – их можно уже рассмотреть сквозь посветлевший, зеленоватый от взошедшей луны туман.
Из-под ветел появились два человека – один высокий, другой низкий.
Они, видимо, спросонья продрогли и щелкали зубами. Молча им Орлов сунул штоф, и только допив его, заговорили. Их никто не спрашивал.
Все молчали, когда они пили.
Привязали лодку к ветле. Вышли.
– Вот! – сказал большой, указывая на огромные мешки и на три длинных толстых свертка в рогожах.
Козлик докладывал Орлову:
– То из той клети, знаешь, и эти балыки с мочаловского вешала. Вот ведерко с икрой еще…
Погрузившись, мы все шестеро уселись и молча поплыли среди камышей и выбрались на стихшую Волгу… Было страшно холодно. Туман зеленел над нами. По ту сторону Волги, за черной водой еще чернее воды линия камышей. Плыли и молчали. Ведь что-то крупное было сделано, это чувствовалось, но все молчали: сделано дело, что зря болтать!
Вот оно где: «нашел – молчи, украл – молчи, потерял – молчи!»
Должно быть, около полудня я проснулся весь мокрый от пота – на мне лежал бараний тулуп. Голова болела страшно. Я не шевелился и не подавал голоса. Вся компания уже завтракала и молча выпивала. Слышалось только чавканье и стук бутылки о край стакана. На скамье и на полу передо мной разложены шубы, ковер, платья разные – и тут же три пустых мешка. Потом опять все уложили в мешки и унесли. Я уснул и проснулся к вечеру. Немая подошла, пощупала мою голову и радостно заулыбалась, глядя мне в глаза. Потом сделала страдальческую физиономию, затряслась, потом пальцами правой руки по ладони левой изобразила, что кто-то бежит, махнула рукой к двери, топнула ногой и плюнула вслед. А потом указала на воротник тулупа и погладила его.
Понимать надо: согрелся, и лихорадка перестала трясти и убежала. Потом подала мне умыться, поставила на стол хлеб и ведро, которое мы привезли. Открыла крышку – там почти полведра икры зернистой.
Ввалилась вся команда, подали еще ложек, хлеба и связку воблы. Налили стаканы, выпили.
– Ешь, а ты икру-то хлебай ложкой!
Я пил и ел полными ложками чудную икру. Все остальные закусывали воблой.
– Ваня, а ты же икру? – спросил я.
– Обрыдла. Это тебе в охотку.
Подали жареную баранину и еще четвертную поставили на стол.
Пьянствовали ребята всю ночь. Откровенные разговоры разговаривали. Козлик что-то начинал петь, но никто не подтягивал, и он смолкал. Шумели… дрались… А я спал мертвым сном. Проснулся чуть свет – все спят вповалку. В углу храпел связанный по рукам и ногам Ноздря. У Орлова все лицо в крови. Я встал, тихо оделся и пошел на пристань.
В Царицыне пароход грузится часов шесть. Я вышел на берег, поел у баб печеных яиц и жареной рыбы.
Иду по берегу вдоль каравана. На песке стоят три чудных лошади в попонах, а четвертую сводят по сходням с баржи… И ее поставили к этим. Так и горят их золотистые породистые головы на полуденном солнце.
– Что, хороши? – спросил меня старый казак в шапке блином и с серьгой в ухе.
– Ах, как хороши! Так бы и не ушел от них.
Он подошел ко мне близко и понюхал.
– Ты что, с промыслов?
– Да, из Астрахани, еду работы искать.
– Вот я и унюхал… А ты по какой части?
– В цирке служил.
– Наездник? Вот такого-то мне и надо. Можешь до Великокняжеской лошадей со мной вести?
– С радостью.
И повели мы золотых персидских жеребцов в донские табуны и довели благополучно, и я в степи счастье свое нашел. А не попади я зипуном в тузлук – не унюхал бы меня старый казак Гаврило Руфич, и не видел бы я степей задонских, и не писал бы этих строк!
– Кисмет!
…Степи. Незабвенное время. Степь заслонила и прошлое и будущее. Жил текущим днем, беззаботно. Едешь один на коне и радуешься.
- Все гладь и гладь… Не видно края…
- Ни кустика, ни деревца…
- Кружит орел, крылом сверкая…
- И степь, и небо без конца…
Вспоминается детство. Леса дремучие… За каждым деревом, за каждым кустиком кроется опасность… Треснет хворост под ногой, и вздрогнешь… И охота в лесу какая-то подлая, из-за угла… Взять медведя… Лежит сонный медведь в берлоге, мирно лапу сосет. И его, полусонного, выгоняют охотники из берлоги… Он в себя не придет, чуть высунется – или изрешетят пулями, или на рогатину врасплох возьмут. А капканы для зверя! А ямы, покрытые хворостом с острыми кольями внизу, на которые падает зверь!.. Подлая охота – все исподтишка, тихо, молком… А степь – не то. Здесь все открыто – и сам ты весь на виду… Здесь воля и удаль. Возьми-ка волка в угон, с одной плетью! И возьмешь начистоту, один на один.
Степь да небо. И мнет зеленую траву полудикий сын этой же степи, конь калмыцкий. Он только что взят из табуна и седлался всего в третий раз… Дрожит, боится, мечется в стороны, рвется вперед и тянет своей мохнатой шеей повод, так тянет, что моя привычная рука устала и по временам чувствуется боль…
А кругом – степь да небо! Зеленый океан внизу и голубая беспредельность вверху. Чудное сочетание цветов… Пространство необозримое…
И я один, один с послушным мне диким конем чувствую себя властелином необъятного простора. Разве только
- Строгих стрепетов стремительная стая
- Сорвется с треском из-под стремени коня…
Ни души кругом.
Ни души в этой степи, только что скинувшей снежный покров, степи, разбившей оковы льда, зеленеющей, благоуханной.
Я надышаться не могу. В этом воздухе все: свобода, творчество, счастье, призыв к жизни, размах души…
Привстал на стременах, оглянулся вокруг – все тот же бесконечный зеленый океан… Неоглядный, величественный, грозный…
И хочется борьбы…
И я бессознательно ударом плети резнул моего свободного сына степей…
Взвизгнул дико он от боли, вздрогнул так, что я почуял эту дрожь, почувствовал, как он сложился в одно мгновение в комок, сгорбатил свою спину, потом вытянулся и пошел, и пошел!
Кругом ветер свищет, звенит рассекаемая ногами и грудью высокая трава, справа и слева хороводом кружится и глухо стонет земля под ударами крепких копыт его стальных, упругих, некованых ног.
Заложил уши… фырчит… и несется, как от смерти…
Еще удар плети… Еще чаще стучат копыта… Еще сильнее свист ветра… Дышать тяжело…
И несет меня скакун по глади бесконечной, и чувствую я его силу могучую, и чувствую, что вся его сила у меня в пальцах левой руки… Я властелин его, дикого богатыря, я властелин бесконечного пространства. Мчусь вперед, вперед, сам не зная куда и не думая об этом…
Здесь только я, степь да небо.
- Я в юности не мало шлялся
- В степях безбрежных на коне,
- От снежной бури укрывался
- Не раз в калмыцком джулуне.
- Как хорошо в степи целинной!
- Какой простор… Какая тишь…
- Дон тихо вьется лентой длинной,
- Шумит таинственно камыш…
- Порой, как бешеный, проскачет
- Казак с арканом на руке.
- За мглою марево маячит.
- Табун мелькает вдалеке…
- Толока пыльная. Пасется
- Овец отара… Стая псов…
- Из-под коня порой сорвется
- Со звоном пара стрепетов…
- Все гладь и гладь… Не видно края…
- Ни кустика, ни деревца…
- Кружит орел, крылом сверкая…
- И степь, и небо без конца…
Чем дальше углубляешься в степь, тем ближе подвигаешься к доисторическому прошлому. Будто во времена Батыя живешь, когда очутишься за Гремячей, в калмыцких улусах, и когда доберешься до Дербентов, в степи астраханские! Там уж совсем скифы, в полной неприкосновенности, как в первые годы нашествия Батыя, когда монголы заняли дикие степи между низовьями Волги и Дона. Только в Азии, в глубинах Монголии сохранились родичи наших калмыков, которые так же кочуют, как и наши, не изменившие своего образа жизни с первой половины XVII века, когда они пришли из Джунгарии и прочно осели здесь. Как и тогда, так и теперь в этой дикой пустыне им нужен только простор, где можно культивировать свое богатство, свое оружие, свое продовольствие – лошадь. Степь да лошадь – все для калмыка, и жизнь и радость. Родился в степи, выкормлен на кобыльем молоке, всю жизнь ест конину, пьет кумыс, пьянствует ракой, водкой из кобыльего молока, закусывает бозой-сыром из него же, одет весь в конскую и баранью шкуру. Живет при лошади и на лошади. Просидеть двое-трое суток, не слезая с седла, для него обычно.
Калмыки люди совершенно свободные и в калмыцких степях имеют свои куски земли или служат при чьих-либо табунах из рода в род, как единственные знатоки табунного дела. Они записаны в казаки и отбывают воинскую повинность, гордо нося казачью фуражку и серьгу в левом ухе. Служа при табунах, они поселяются в кибитках, верстах в трех от зимовника, имеют свой скот и живут своей дикой жизнью в своих диких степях.
Есть калмыки и оседлые, занимаются хлебопашеством и садоводством, но я буду говорить только о кочевых, живущих степью.
Это не те степи, которые описаны Гоголем.
Только два месяца, март и апрель, до начала мая необозримые, гладкие, как тарелка, равнины сплошь цветут ярким зелено-красным ковром.
В половине мая стараются закончить сенокос – и на это время оживает голая степь косцами, стремящимися отовсюду на короткое время получить огромный заработок… А с половины мая яркое солнце печет невыносимо, степь выгорает, дождей не бывает месяца по два – по три, суховей, северо-восточный раскаленный ветер, в несколько дней выжигает всякую растительность, а комары, мошкара, слепни и оводы тучами носятся и мучат табуны, пасущиеся на высохшей траве. И так до конца августа…
В этих степях, между Доном с севера и Егорлыком с юга, паслось до 100 тысяч лошадей: это Сальский округ.
Эти степи принадлежали войску Донскому и сдавались, для порядка, арендаторам по три копейки за десятину с обязательством доставить известное количество лошадей. Разводить скот и, главное, овец было запрещено, чтобы не портить степи – овца лошадь съест, говорили калмыки. Овца более даже, чем рогатый скот, выбивает степь и разносит заразные болезни.
Степь, где паслись отары овец, превращается в голодную толоку, на которой трава не вырастает. Таков скотопрогонный тракт через Сальский округ из Ставрополя до Нахичевани.
Другое дело верблюды, которыми пользуются в степи как рабочей силой.
В степи не дозволялось селиться. Вследствие этого на всем громадном пространстве степей донского коневодства не было ни усадеб, ни деревень, ни церквей. Только кочевали калмыки и далеко-далеко один от другого стояли зимовники коневодов, состоявшие из одного-двух домов, пары мазанок, сарая, конюшни. Сено и солома огромными скирдами высились над степями и служили единственной защитой для табунов во время сильных зимних буранов, шурганов по-местному, таких, о каких на севере и не слыхали. Только привычный табунщик, калмык, и выдерживал их. Трудна для калмыка зима, осень – август, сентябрь и октябрь – лучшее время после весны, а с ноября снег занесет степь и лежит до марта. Бывают снега небольшие, когда «тебенить», т. е. доставать траву, раскапывать снег копытами, лошадям легко даже из-под полуаршинного снега. Трогательная картина: пасется на снегу табун, возле маток стоят жеребята и ждут, пока для них матка отгребет снег копытом до травы.
Но бывают гнилые зимы, с оттепелями, дождями и гололедицей. Это гибель для табунов – лед не пробьешь, и лошади голодают. Мороза лошадь не боится – обросшие, как медведь, густой шерстью, бродят табуны в открытой степи всю зиму и тут же, с конца февраля, жеребятся. Но плохо для лошадей в бураны. Иногда они продолжаются неделями – и день и ночь метет, ничего за два шага не видно: и сыпет, и кружит, и рвет, и заносит моментально.
Вот где начинается каторжная служба табунщика.
Девиз калмыка такой: табун ушля – я ушля. Табун пропал – я пропал.






