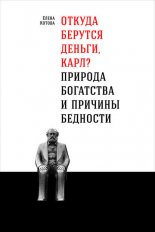Магия и культура в науке управления Шевцов Александр

© Шевцов А.
© Издательство «Роща»
Когда-то мир был иным, совсем иным. В мире было волшебство и жили волшебники, чародеи и маги. И в этом никто не сомневался! Только вдумайтесь в это НИКТО!
Оно означает, что все люди знали, что среди них есть волшебники и мир полон чудес. Они видели его волшебным!
Это не моя фантазия, это этнографический факт. Первобытное общество живет в волшебном мире. Или, как принято говорить у этнографов и антропологов, народная культура была культурой магической.
Что такое магия? И что такое культура? Сейчас эти иностранные по происхождению слова стали для нас настолько привычными, что мы даже и не задумываемся над ними. Но в те времена, когда культура наших предков была магической, они не знали ни слова «культура», ни слова «магия».
Если бы я писал эту работу как историк или антрополог, я мог бы привести несколько определений этих понятий, как это обычно и делается. Но я пишу ее как психолог. По сути, это прикладное психологическое исследование в рамках культурно-исторической школы психологии. И меня интересуют не определения и не соответствие написанного мною каким-то канонам одной из научных школ. Мне хочется понять самого себя и свою тягу к чуду…
Вы не замечали за собой подобного? Иногда хочется покоя, иногда вкусненького и почти всегда чего-нибудь волшебного! Значит, тяга к чуду является явной составляющей моей личности. Почему? И откуда она взялась? Может, это культура у меня такая? И что такое чудо, волшебство по моим представлениям? И если это культура, то совпадают ли мои представления о магии с вашими представлениями?
Четверть века назад, разъезжая по деревням Владимирщины в поисках народных ремесел как самостийный этнограф, среди потомков офеней, то есть коробейников, я столкнулся с колдунами. Настоящими, живыми и кое-что могущими. «Кто могет, тот и маг!» – сказал мне один из них, когда я спросил, была ли на Руси магия. До этого я в них не верил. После этого перестал верить, потому что начал знать и даже мочь кое-что. Несколько лет я, что называется, занимался полевыми сборами. А по сути, изучал и учился. Попросту говоря, лез во все, во что меня запихивали старики. Потом они начали уходить, и в девяносто первом году я остался наедине со своими записями.
Но уже в том же году я начал о них рассказывать и провел первый семинар по Неведомой русской культуре. Пожалуй, я рассказывал людям лишь то, что чудо возможно.
В итоге вокруг меня собралась, как это говорится, группа энтузиастов, которая захотела реконструировать и возродить кусочек утраченной народной культуры. Мы создали Учебный центр традиционной русской культуры и принялись за прикладную этнопсихологическую работу, потому что не видели другого инструмента для исследования этого явления, кроме психологии. Многие из нас тут же поступили на психфаки, чтобы стать профессиональными психологами.
По ходу учебы выяснилось, что академическая психология по преимуществу наука описательная, а не объяснительная. Мы начали поиск действенных направлений внутри психологии и остановились на родившемся когда-то в России, а теперь перекочевавшем в Америку направлении, которое называется культурно-исторической психологией.
В этом ключе мы защищали свои дипломы и в этом ключе мы ведем всю экспериментальную работу.
Культурно-историческая психология зарождалась в Советской России как противопоставление марксистской психологии психологии буржуазной. Основателем ее считается Лев Выготский, а ближайшими сподвижниками – виднейшие советские психологи Лурия и Леонтьев. На самом деле культурно-историческая школа Выготского была лишь вторым рождением культурно-исторической психологии в России, потому что первый раз она была заявлена Константином Дмитриевичем Кавелиным еще в семидесятых годах прошлого века. Тогда же и была не понята и затравлена передовой революционно-демократической интеллигенцией во главе с Чернышевским и Сеченовым, предпочитавшей естественнонаучный подход. Культурная психология, созданная Кавелиным, не имела почти никакого продолжения.
Так что школу Выготского – Лурии вполне можно рассматривать как самостоятельную школу, рожденную требованиями времени. И как бы отрицательно ни относились мы сейчас к марксизму, именно его культурно-исторический подход, бесспорно, являлся шагом вперед в психологии. Александр Лурия провел первые полевые КИ-психологические (КИ – так мы сокращаем «культурно-исторический») исследования еще в 1931 году, на год раньше Маргарет Мид, чье исследование анимистического мышления стало классикой антропологии, хотя на поверку оказалось фальшивкой.
Постепенно культурно-историческая психология перерастала стадию сбора материала или описания и становилась наукой экспериментальной. По крайней мере, последние десятилетия, почти полностью исчезнув в России, она развивалась в этом направлении в Америке. Это видно из трудов ученика Лурии и признанного лидера современной культурно-исторической школы психологии Майкла Коула. По сути, Коул внес раскол в современную психологию, заявив право на существование не естественнонаучного, а гуманитарного направления в этой науке. Можно считать, что это третье возрождение культурно-исторической психологии.
Почему КИ-психология то рождается, то гибнет, а потом рождается вновь? Гибнет она, наверное, в первую очередь из-за противодействия академической науки, которая является отнюдь не братством искателей истины, а огромным сообществом людей, занимающим в государстве очень значимое место и бьющимся за то, чтобы это место удержать. Иначе говоря, современная наука – это предприятие экономическое и политическое.
И разлад в своих рядах оно считает так же недопустимым, как и любая партия. Кто-кто, а уж мы, русские, имели перед глазами немало примеров подобных проявлений науки как сообщества. Судьбы Кавелина и Выготского достаточно красноречивы, хотя их вполне можно считать благополучными.
Но политическая сторона научной деятельности, пожалуй, не самое страшное в науке. Психология самих людей, ученых, общества – это гораздо более сильное препятствие. Новое не принимается и затравливается самими людьми, к которым оно обращено, пока вдруг не сменится мода. Мода… Этому нужно бы посвятить отдельное КИ-психологическое исследование.
Мы начинали свои экспериментальные работы задолго до того, как узнали о работах Коула. Это мы потом поняли, что они являются КИ-психологическими. А вначале мы просто отбросили все ограничения и обязательные требования и с головой окунулись в исследования. Мы хотели иметь объяснения. Мы были как дети, и оправдания академической психологии, что она наука лишь описательная, нас не устраивали. Заявилась наукой обо мне, изволь объяснить, почему мне так плохо! И почему я такой!
А не можешь – разберусь сам!
Юношеский максимализм и множество юношеских ошибок.
Зато мы нашли за эти неистовые годы экспериментирования и множество объяснений, которыми не обладает академическая наука. И на основе этих объяснений создали свой мир.
А зачем еще нужны объяснения, как не затем, чтобы жить лучше? А жить лучше можно только в лучшем мире, потому что жить вообще можно только в мире. Вне мира человек жить не умеет.
Так вот, эта книга – это мысли о том, что исподволь правит миром человека сквозь слои обычного и привычного. Эта книга – поиск магии и силы жизни… Она рождалась из раздумий о том, как нам создать такой народ, который будет единым, который не будет жить ненавистью, который будет способен радоваться своей жизни вместо того, чтобы ненавидеть чужих и не таких, как все.
В мировой антропологической науке утвердилось как само собой разумеющееся мнение, что постановка эксперимента в культурологии и антропологии невозможна. Мы немало занимались именно экспериментальной работой и, исходя из нашего опыта, утверждаем, что это неверно. Конечно, эти эксперименты могут быть недостаточной глубины. Но это смотря для какой цели. Для наших целей, а они были психологическими, глубины наших экспериментов вполне хватало.
Для этого одним из первых больших экспериментальных исследований было изучение, как создать для своего народа успешную экономику. Как вообще рождается экономика, как она гибнет или побеждает. Все это можно читать в учебниках, но уж очень хотелось посмотреть самим. К тому же и выживать надо. Для этого мы разработали собственную школу игротехники, основывающуюся на народных представлениях об игре и отыграли множество деловых игр не на продажу, а для себя. Чтобы понять и научиться.
Сейчас, в современном мире, можно создавать успешное предприятие или сеть предприятий, что уже близко к понятию микроэкономики или экономики сообщества, на основе западного менеджмента. Он явно успешен. Но история знает и другую успешную науку управления и хозяйствования. Это русский путь, благодаря которому Россия стала в прошлом веке одной из самых сильных капиталистических держав. Оба пути хороши, но мы выбрали для себя русский. Выбрали и запустили в работу, создавая экономику своего игрового народа, который мы назвали троерусским казачеством.
Этот эксперимент идет уже несколько лет и идет вполне успешно. С экономической точки зрения. Но еще успешнее он идет с точки зрения прикладного психологического исследования. Это настоящая битва за выживание, и как всякая битва он выявляет множество скрытых психологических механизмов, как мешающих, так и помогающих нам выживать.
Вот о них-то и рассказ.
Сам эксперимент мы начинали в рамках Программы, которую приняло Общество русской народной культуры в 1998 году. Программа эта называлась «Назад в Россию» и ставит своей целью создание условий для того, чтобы русские умы, которые разлетаются сейчас по миру, начали возвращаться на Родину. Задача эта оказалась химерической, никто из уехавших возвращаться не собирался. Уезжали, чтобы уехать. Тем не менее, ход наших рассуждений, когда мы разрабатывали эксперимент и соответствующую ему Программу, был примерно таков.
Русский народ и все российское общество почему-то разваливаются. Люди переполнены ненавистью и завистью к чужому образу жизни. Свое не ценится, и молодежь стремится сбежать из страны, чтобы стать американцами и забыть свое происхождение, как проклятие.
Могут ли русские жить в любви и гордиться собой, своей культурой и своим обществом? Хватит рассуждать о том, как мы плохи и что нам мешает, давайте попробуем сделать так, как мечтаем.
Однако при этом, входя в эксперименты, мы не забываем, что собрались вместе вовсе не ради них. Они – лишь ступени к гораздо более важным для нас целям. Назовем их тоже мечтами. У каждого есть какая-то мечта, которую он не может осуществить или сейчас, или вообще. Может быть, потому что одинок, может быть, потому что не хватает знаний или средств. Не важно, почему, важно, что эксперименты нужны только затем, чтобы, обретя необходимое, вернуться к своей мечте.
Я, к примеру, как и многие другие, с нетерпением жду окончания этих экспериментов, чтобы перейти к прикладному изучению человеческих способностей, а затем к их раскрытию у себя. Летать хочется!
Раз так, то вопрос о выборе направления при создании своей экономики звучит так: нам нужно такое экономическое основание, которое позволит уйти к своим мечтам как можно быстрее. Иначе говоря, дело, которое мы избираем за основу нашей экономики, должно быть прибыльным.
И это тут же поставило нас перед выбором: прибыльных дел немало, но мы не хотим торговать Россией. А кроме природных ресурсов в России почти ничего не осталось. Разве что мозги…
Эта же книга рассказывает о том, что удалось рассмотреть сквозь пленку бытового мышления, сквозь пленку привычной культуры. Эта книга – о Дороге Домой через страны Востока и Запада, из образов которых и состоит наша евразийская культура.
Раздел 1. Магия и культура
Глава 1. Магия и культура в науке
Большинство исследований магии сделано этнографами и антропологами. Психологи очень редко обращались к этой теме, вероятно, потому, что люди, владеющие магией, редко встречаются психологам. А может, и потому, что эта тема не является поощряемой в научном сообществе.
Не знаю, делались ли вообще попытки разграничить магию и культуру, то есть, по сути, выделить магию из культуры, но вот другие разграничения, имеющие целью определить предмет магии, вводились.
К примеру, один из самых блистательных и самых известных антропологов этого столетия Бронислав Малиновский начинает одну из своих лучших статей о магии так:
«Нет обществ, какими бы примитивными они ни были, без религии и магии. Но тут же следует добавить, что нет и диких племен, люди которых были бы начисто лишены научного мышления и элементов науки, хотя часто именно так о них судят. В каждом примитивном обществе, изучавшемся заслуживающими доверия и компетентными наблюдателями, всегда обнаруживаются две четко различимые сферы, Сакральное и Мирское (Профанное), другими словами, сфера Магии и Религии и сфера Науки» (Малиновский Б. Магия, наука и религия: [Сб] – М.: «Рефл-бук», 1998. – С. 19.).
Малиновский написал эту работу в 1925 году. Сейчас, читая ее, я вижу скорее череду вопросов, чем ответов, впрочем, как и сам Малиновский видел вопросы, к примеру, в нашумевших работах Леви-Брюля (См., напр. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М.: Педагогика-пресс, 1994.). Часть из них я и попытался задать еще раз, начиная собственное исследование. Какие? Те, что позволяли мне как психологу разграничить магию и культуру. Поясню еще одним примером.
Примерно в то же время, что и статья Малиновского, в России выходит большая работа не менее блистательного русского ученого, коми по происхождению, Алексея Сидорова. Его судьба была противоположностью судьбы Малиновского, которому для написания его многочисленных и общепризнанных работ потребовалось всего два года полевых наблюдений на романтических Тробрианских островах. Сидоров сам вырос в той среде, которую описывал, посвятил ее изучению всю жизнь, много лет, уже будучи крупным ученым, вел полевые исследования и как этнограф, и как археолог. И тем не менее, в 1937 году он был арестован и вскоре осужден по делу «Коми буржуазных националистов». После этого он был погружен в безвестность среди своих и чужих. А между тем многие его взгляды опережали современное ему развитие этнологической науки.
Я использую одну из таких мыслей, высказанных им в «Материалах по психологии колдовства» (Сидоров А. С. Знахарство, колдовство и порча у народа Коми. Материалы по психологии колдовства. – СПб.: «Алетейя», 1997. – С. 20–21.), чтобы обосновать собственный подход к исследованию магии сквозь производственную деятельность человека.
«Первоначальные формы культа отнюдь не могут быть объяснены из каких-либо конкретных религиозных представлений, из каких-либо мифов. Культ имеет самостоятельные источники своего происхождения. Он непосредственно и гораздо ближе связан с инстинктами, с волевой деятельностью человека, чем с областью представлений. Наоборот, религиозные представления, область религиозного мифа связаны уже с более поздними культурно-историческими эпохами, с эпохой возникновения речи.
Если человеческая идеология есть в значительной степени функция общественной и, в конечном счете, хозяйственной жизни, то первичный культ есть эта самая хозяйственная жизнь, понимаемая в широком смысле этого слова, когда магическое и хозяйственное действие находятся в нерасчлененном состоянии в силу отсутствия понятия о магическом как таковом. Если исключить, что то и другое, т. е. культ и миф, не представляют параллельно развивающихся и взаимодействующих процессов, то в основу изучения религии скорее нужно поставить не миф, не представление, тем более не словесное их выражение, а трудовое, магически-трудовое действие. (Принцип, установленный еще Гегелем.)
Вместе с тем на этой ступени нерасчлененного реально-магического действия не существует еще для нас проблемы магического. Магическое действие, как таковое, начинает сознаваться с момента расчленения представления о вещах, со времени возникновения представлений о сверхъестественном в противоположность таковых о реальном. Магическое действие, возникшее на почве владения орудиями, оставаясь по существу по-прежнему действием, получает теперь свое обособленное значение в свете применения его к объекту не только реальному, но и нереальному. Вполне понятно, что и первичное понятие о сверхъестественном должно было иметь формы, очень близкие к реальному, и последнее в свою очередь было очень расплывчато в своих очертаниях, но тем не менее, раз обособившись, и то и другое в дальнейшем начали развиваться самостоятельными путями. Таким образом, проблема магического в нашем понимании связывается с проблемой раздвоения человеческих представлений о внешнем мире. На почве этого раздвоения вырастают два параллельных мира, мир реальных предметов и мир двойников».
По сути, Сидоров говорит здесь о том, как рождается наше мышление. Это стоило бы разобрать подробнее, но, поскольку он был последователем академика Марра, это не такая уж простая задача. Поэтому я просто приведу несколько выдержек из рассказа Малиновского о том, как занимаются земледелием меланезийские туземцы:
«…вся эта деятельность перемежается магией, целый ряд обрядов выполняется на огородах каждый год в строгих последовательности и порядке. Поскольку руководство земледельческими работами находится в руках знахаря, а ритуальная и практическая деятельность тесно связаны, постольку при поверхностном наблюдении может показаться, что мистическое и рациональное поведение так переплетены, что их результаты не дифференцируются туземцами, поэтому их невозможно разграничить и при научном анализе. Так ли это на самом деле?» (Малиновский Б. – С. 29–30.)
Конечно, нет, отвечает Малиновский. Туземец всегда прекрасно различает труд и магию и прекрасно знает, где надо трудиться, а где колдовать.
«Несомненно, туземцы считают, что магия абсолютно необходима для плодородия их огородов. Что бы произошло без нее, никто не может точно сказать, ибо ни один огород никогда не закладывался без ритуала, несмотря на почти тридцатилетнее европейское правление, миссионерскую деятельность и более чем столетний контакт с белыми торговцами. Не освященный, заложенный без магии огород, вне всякого сомнения, будет подвержен разного рода напастям, нашествиям паразитов, проливным не по сезону дождям, набегам диких кабанов, налетам саранчи и т. п. Однако означает ли это, что все свои успехи туземцы приписывают исключительно магии? Конечно же, нет» (Там же. – С. 30.).
Точно так же любой туземец прекрасно видит, когда человек выступает в роли знахаря или колдуна, а когда в роли руководителя работ.
«То, что было сказано относительно обработки земли, соответствует любому другому из множества видов деятельности, в которых работа и магия идут рука об руку и никогда не смешиваются», – завершает свое рассуждение Малиновский.
На первый взгляд, создается впечатление, что он как бы опровергает утверждения Сидорова. Однако на самом деле Сидоров просто шире. Сидоров не случайно назвал свою работу психологической. Да, он видит, что на каком-то культурно-историческом этапе первобытный человек прекрасно различает деятельность и магию. Но он идет дальше и задается вопросом: а всегда ли так было? А если нет, то как было в самом начале, при зарождении мышления?
Малиновский до этого вопроса не дошел. Хотя при этом он пошел дальше господствовавшего в первой трети двадцатого века среди этнологов мнения, что «наука рождается из опыта, а магия создается традицией» (Там же. – С. 21). Он, скорее, сближает магию с протонаукой, точно так же, как и Сидоров, выделяя в сознании первобытного человека два мира:
«Мы попытались точно выяснить, существует ли в сознании дикаря одна сфера действительности или две, и обнаружили, что помимо сакрального мира культа и веры он знает и светский мир практической деятельности и рационального мировоззрения» (Там же. – С. 37.).
Когда читаешь об этих двух мирах сознания, может показаться, что Сидоров и Малиновский говорят об одном и том же. В каком-то смысле это так, но стоит разобраться получше, потому что, на мой взгляд, как раз здесь и кроется возможность найти определение понятия «культура», которое позволит начать собственное исследование.
Итак, Малиновский изначально разделил общественную жизнь примитивных народов на «две сферы»: Сакральную (Магия-Религия) и Мирскую (Наука). Что, соответственно, позволяет разделить сферу сакрального на Магию и Религию, чем он вполне успешно и занимается в своей статье. Но что из этого относится к культуре?
Мне думается, что для Малиновского этот вопрос просто не правомерен. Потому он его и не задает. Все относится к культуре. Сам Малиновский – культуролог, идущий антропологическим направлением в исследовании культуры или различных культур. И магию он исследует изнутри и лишь как часть культуры.
Сидоров тоже не задает такого вопроса. Но при его подходе он вполне возможен и, по сути, звучит в утверждении о наличии «источников происхождения культа». Конечно, культ – это не совсем культура, но это уже очень и очень близко к постановке вопроса о зарождении культуры. И это прямо звучит в словах: «Он (культ – А. А.) непосредственно и гораздо ближе связан с инстинктами, с волевой деятельностью человека, чем с областью представлений» (Сидоров А. С. – С. 20.).
Задавая вопрос о том, из чего рождаются «первоначальные формы культа», которые предшествуют религиозно-мифологическим представлениям, то есть Сакральному Малиновского, Сидоров, по сути, задает вопрос: из чего рождается в нашем сознании культура, в которую все входит?
Это вопрос психологический, поэтому и появляются упоминания о представлениях и инстинктах. И употребленное им выражение «человеческая идеология» надо понимать отнюдь не в привычном нам политизированном смысле, а именно как некое развитие понятия «представление».
Представления как таковые – это предмет личностной психологии. А чем становятся представления, накапливаясь в «общественной и, в окончательном счете, хозяйственной жизни»? Идеологией, если мы увидим, что «идеология» – это «идеи» или «эйдосы», то есть образы или представления в определенной связи. Какой? Что это за связь?
Вот ее-то я бы, пожалуй, и назвал культурой. Образы, поскольку они есть лишь восприятия одних и тех же вещей и явлений мира, у всех примерно одинаковы, а культуры разнятся поразительно. Почему? Предполагаю, как раз потому, что эти одинаковые образы по-разному увязаны.
Сразу оговорюсь, и магия и культура меня интересуют исключительно как психолога, а в этой книге как прикладного психолога. Иначе говоря, мне нужны лишь самые простые и обобщенные определения, чтобы можно было в их рамках начать собирать материал и вести исследование. Своего рода гипотетические предположения о том, чем могут быть эти явления с точки зрения прикладной культурно-исторической психологии. Возможно, что итогом исследования и явятся более точные определения. А может, и нет. Достаточно будет, если исследование подтвердит правильность моего подхода.
Во всяком случае, в дальнейшем я буду неоригинально исходить из того, что человеческое сознание проходит несколько стадий в своем онтогенетическом и филогенетическом развитии, и самая ранняя из них не имеет отношения к культуре.
Это утверждение предполагает, что сознание оказывается своего рода вместилищем культуры, когда она возникает.
Подход, могущий вызвать возражения, потому что еще Кавелиным говорилось о материальных хранилищах культуры, которыми являются вещи. Но тут мы сразу разделим предметы, что, собственно говоря, и делает сам Кавелин, а за ним и Сидоров. Материальную культуру мы оставим культурологам, а сами перейдем на чисто психологическую почву и оставим своим материалом лишь образы этих вещей, хранящиеся в нашем сознании.
Тут я бы хотел выдвинуть гипотезу, которую, скорее всего, не смогу доказать в этой работе, потому что она требует отдельного исследования. Но исходить буду именно из нее, поскольку неоднократно проверял ее в своих прикладных работах.
Сознание ребенка принимает в себя культуру вместе с мышлением.
Это утверждение, в свою очередь, предполагает необходимость разделения мышления и разума, которые обычно смешиваются в нашем понимании. Под разумом я, в данном случае, понимаю способность человеческого ума распознавать в окружающем мире и решать задачи, связанные с выживанием. Впоследствии, по мере усложнения жизни – любые задачи. Разум включается тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то совершенно новым, не имеющимся в нашей памяти, но требующим от нас каких-то действий. Чаще всего, это или какая-то опасность, или помеха в достижении желания.
Налетев на помеху, человек, это особенно ярко видно на детях, какое-то время не в состоянии ее распознать как помеху. Он просто продолжает повторять предыдущее действие. Но как только он понимает, что помеха есть то, что надо преодолеть, он начинает думать, то есть переходит в состояние «задачности», озадачивается, как говорится в русском языке, и тогда включается поиск обходных путей.
Это разум. Но это не все, что он делает.
После того, как способ преодолевать какую-то определенную помеху найден, перед разумом встает задача – как облегчить жизнь и не тратить на это дело столько сил. И он закрепляет найденный успешный способ решения этой жизненной задачи в памяти в виде образа.
Этот образ становится привычным способом поведения при столкновении с подобными помехами в будущем. Так рождается мышление.
Те старики, которые рассказывали мне о колдовстве и магии, рассмотрели в словах мышление, мыслить возможность для этимологических игр. Они были большими любителями так называемых «народных этимологий».
Мыслить для них означало Мы – Слить, то есть Слить Нас в общество.
По сути, это очень близко к выражению, имеющемуся в «Слове о полку Игореве», где говорится о «свычаях и обычаях». Мой дед, большой любитель «Слова» и этимологических игр, писал, что и то и другое – привычки. Но в «свычае» скрыто слово «свой», а в «обычае» – общий.
Иначе говоря, сталкиваясь с неведомым, молодое сознание распознает помеху как задачу и включает для ее решения разум. Если решение найдено и проверено, оно закрепляется в виде личной привычки – свычая. Если же подобная помеха и соответствующая ей задача оказывается постоянно встречающейся на жизненном пути всего сообщества, то постепенно ее решение закрепляется в сознаниях всех членов общества в виде общественной привычки – обычая. Вот это и есть Слить – Мы, Мыслить в противоположность разумному Думать.
Из способности ума сначала Думать, а потом закреплять найденные решения в памяти постепенно рождается основной набор привычных способов решения жизненных задач, позволяющий не задумываться, но и не проигрывать. Его, пожалуй, можно бы назвать мировоззрением определенного сообщества, но правильнее – Образом мира. Этому понятию я уделю немало внимания в этой книге, поэтому пока не буду на нем задерживаться.
Сейчас мне важнее указать на то, что Образ мира оказывается как бы костяком нашего ума. На него крепятся и простейшие образы Разума, и сложные образы привычек и обычаев Мышления. В силу этого он не просто двойственен, а гораздо многослойнее. Это, на мой взгляд, и отразилось в словах Сидорова и Малиновского о множественных мирах, в которых живет человек. Это не миры, конечно, а образы миров. И какие-то из них есть прямые носители того, что мы называем культурой.
Что же в таком случае есть культура? Я не буду вдаваться ни в обсуждение того, что об этом говорилось на протяжении человеческой истории, ни даже в перечисление определений. Я оттолкнусь от простого, почти бытового определения Даля. Оно будет вполне достаточным, потому что моя задача даже от него уйти к еще более «простому» психологическому пониманию этого явления, как оно содержится в ненаучной части нашего мышления. Итак:
«Культура – обработка и уход, возделывание, возделка; || образование, умственное и нравственное; культивировать вм. обрабатывать, возделывать, образовать».
Как видите, понятие «культура» составное и совмещает в себе несколько понятий: от латинского понятия «превращение дикой природы в не дикую» до понятия «образование». «Образование» в педагогическом смысле впервые стало использоваться во времена Гумбольта немцами. Кстати, в немецком языке, как и в русском, оно тоже происходит от основы «образ» (Bild). Следовательно, означает привнесение образов в необразованное сознание.
Получается, культура – это то, что с помощью соответствующих образов переводит сознание человека в состояние, отличное от природного или дикого.
Я не отказываю в данном случае материальным проявлениям культуры в праве считаться культурой. Я просто отказываюсь сейчас это обсуждать. Споры на эту тему происходили весь последний век (См., напр., обзорно-методологические работы Л. А. Уайта, Д. П. Мёрдока, Д. Бидни, А. К. Кафаньи, К. Гирца, Д. Фейблмана и других в сборнике «Антология исследований культуры». – Т. 1: Интерпретации культуры. – СПб.: Университетская книга, 1997.). Споры, особенно научные – это хорошо. Мне рассказывали, что в них рождается истина. Мне правда, кажется, что культура. Скажем, культура культурологического сообщества. Но может быть, это одно и то же? Во всяком случае, я свое первое представление о том, что такое культура, получил не из книг культурологов. Меня в него, что называется, сунули, точно головой в печь. Полевые этнографы, сталкивавшиеся с тем, как разлетается научное высокомерие при встрече с живой, сильной и умной народной культурой, меня поймут. Поэтому мне трудно спорить с культурологами и проще рассказывать о культуре по-своему, держа перед собой в памяти то, что я видел в жизни.
Поэтому я бы хотел сопоставить эти споры о культуре с понятием «очищения сознания», которое было присуще всем магическим или первобытным обществам. (Кстати, я предпочитаю называть те общества, которые этнологи и антропологи именуют то первобытными, то примитивными, – магическими, потому что именно отказ от магии в пользу науки и создал современную цивилизацию). В каком-то смысле эти споры так же очистительны для нашего понимания самих себя, как и то, что я испытал на себе, когда в своих этнографических поисках налетел на русских деревенских колдунов в Савинском районе Ивановской области.
Это бывшая Владимирская губерния, места расселения людей, именовавших себя офенями. Вообще-то офени, как считает наука, – это просто торговцы вразнос, коробейники. Однако мои многолетние исследования, да и просто то, что я сам родился в офенском роду и с детства воспитывался еще в той культуре, позволяет мне утверждать, что это было гораздо более сложное и глубокое явление. Офени, безусловно, создали свою собственную культуру, которая исчезает в этом веке, но у которой были, на мой взгляд, глубочайшие корни, уходящие через скоморохов в первобытную древность Руси.
Поэтому среди них, по крайней мере, среди той части их большого сообщества, которая именовала себя Мазыками, долго жили те знания, которые обычно именуют мистическими и магическими. Впрочем, вся народная жизнь насквозь магична. Без магии, приговора, приметы или заклинания не начинается настоящим крестьянином ни одно дело.
Но тут вопрос уже упирается в действенность той магии, которая используется. Кто-то только «знает», а кто-то и «могет». Вот на этом водоразделе застревает вся наука. Она предпочитает считать, что народная магия – не более чем набор формул и внушение. Могу заверить, многое из того, что знали деревенские колдуны, было вполне действенным. Впрочем, много было и такого, что мы вполне оправданно назвали бы сегодня психотерапией.
К подобным психотерапевтическим приемам можно отнести и способ очищения, показанный мне в 1985 году деревенским колдуном, докой, как его называли, по прозвищу Степаныч. Как я понимаю, он применялся при обучении молодых. Степаныч же называл «Мозохой». Офенские словари переводят это слово как «солома». Но когда я спросил его, что такое «мозоха», он ответил: мусор. Поэтому я условно называю эту работу «Мусор», хотя можно было бы назвать и «Культурой».
В один из моих самых первых приездов к нему Степаныч однажды вечером вдруг помрачнел, подошел ко мне, и сказал:
– Ну давай, умник, ответь деревенскому дедушке на несколько вопросов, – тут он болезненно ткнул пальцем мне в солнечное сплетение и спросил. – Это ты?
– Ну, я, – ответил я и, очень остроумно взяв себя за рубашку в том месте, куда он тыкал, принялся ее рассматривать. Насколько я понимаю, я так показывал, что я умный человек и всегда готов пошутить. К сожалению, Степаныч шутить не умел.
– Одежда – это ты или это твоя одежда? – мрачно переспросил он.
– Моя.
– Мозоха! В огонь!
И для того, чтобы я смог осознать в этот миг, что если я смог сказать про одежду, что она моя, значит, она не есть мое действительное «Я», он принялся с меня эту рубашку срывать. Причем так решительно, что я вынужден был отпихнуть его и сам снять рубашку.
– Так, – продолжил он и еще раз попытался ткнуть мне в солнечное сплетение. Правда, тут уж я был настороже и отодвинулся. Но он все равно достал меня и ткнул очень больно. Так, что я зашипел и начал растирать место удара. – Болит? – тут же спросил он.
– Болит, – подтвердил я.
– Что болит?
– Живот!
– Тело болит? – уточнил он.
– Тело, тело.
– Какое тело? – дурацки вскидывая брови, спросил он.
– Мое тело! – ответил я, отодвигаясь от него.
– Так значит, это тоже не ты? Мозоха!
Я, конечно, не предполагал, что он начнет вытряхивать меня и из тела, но в серьезности его намерений я нисколько не сомневался. Этот дед с первых дней мне показал, что он шутить не любит, просто потому, что у него на это времени уже не оставалось. Это был последний год его жизни. А поскольку я пришел к нему не как ученый, а под видом ученика, то он соответственно и требовал от меня учебы на пределе. Поэтому, допустив до своего осознавания мысль о теле, я задумался всерьез. Но моя мысль вдруг сделала еще один замысловатый скачок из тех, которыми мы показываем окружающим свою умность:
– Я мыслю, значит, я существую! – вдруг выпалил я. В общем-то, это было все, что я тогда помнил из Декарта. Но обычно в тех обществах, где я вращался, этого бывало достаточно, чтобы показать свою «эрудированность» или умность, по-русски. Но Степаныч шуток не понимал… Он все принимал всерьез, потому что то, что он делал, было магией. Он был обычным деревенским колдуном, а не начитанным знатоком магии:
– А мысли твои?
И это только в первый миг после вопроса я посчитал, что вопрос в точности такой же, как предыдущие, и от него можно отшутиться. Затем я вспомнил эту Декартовскую мысль, от нее потянулась цепочка к множеству других подобных «умностей»: Я знаю, что я ничего не знаю. Ничто человеческое мне не чуждо. Познай себя… Баранкин, будь человеком! Умница. Хороший мальчик… Ненавижу! Надо вести себя правильно… Горюшко ты мое луковое!.. Ай-яй-яй!.. Баю баюшки баю, не ложися на краю!.. – и все они были в прямом смысле чужими во мне, но именно они-то и были мной! И их было много, много, словно туча вокруг. А где же Я?!.
Я вдруг как-то сразу ослаб и начал лихорадочно перебирать мысль за мыслью, а Степаныч яростно кричал всякий раз: Мозоха! Жечь! Мозоха! Мозоха! Мозоха! Мозоха! Мозоха! Мозоха! Мозоха! Мозоха! Мозоха! Мозоха! Мозоха! Мозоха! Мозоха! Мозоха! Жечь! В огонь!.. И так всю ночь напролет.
Потом меня охватило какое-то озарение, я начал что-то прозревать в окружающем меня мире и падать. Просто не держало тело.
Тогда он позволил мне поспать, а потом разбудил и пытал еще сутки. И у меня было озарений – одно за другим. Одно из них буквально вывернуло меня всего наизнанку и меня долго рвало, но я словно не замечал этой помехи и все выкидывал и выкидывал из себя собственные куски. Когда в рвоте появилась кровь, он заставил меня поспать еще и отправил на поезд.
Я ехал и сквозь окружающие вещи и людей прозревал то, что нами правит. Культуру, если хотите. Вот так я впервые встретился с этой Госпожой лицом к лицу…
Можем ли мы говорить, что Магия – это всего лишь часть культуры? Или же есть за Магией нечто, что уходит в эту дикую, природную среду, из которой все берется?
Если подходить к этому вопросу строго последовательно, то можно сказать, что в нашем сознании нет ничего, кроме представлений, то есть образов. И если в нем есть представление, что какие-то основы магии являются природными или стихийными, то это все равно лишь представление, образ, а значит, часть культуры.
Что ж, будем исходить из того, что у нашего сознания есть дообразное, стихиальное состояние, которое и обеспечивает возможность накопления образов, а значит, и культуры, если не очень придираться к терминологии. А это означает, что вопрос о Магии становится вопросом о том, из чего состоит явление, которое описывается в этнологии и живет в нашем бытовом сознании под именем «Магия».
Обычно этнографы и антропологи описывают первобытную магию как набор обрядов и ритуалов. Бытовое же представление о магии связывается с мистикой «белых и черных магий», что является наследием довольно поздней и весьма надуманной европейской мистической традиции, но при этом тоже опирается на разнообразные ритуалы. Есть ли в Магии нечто помимо этого?
Есть. Сам Малиновский, рассказывая о современных ему воззрениях этнологов, говорит:
«В то время как наука основана на концепции естественных сил, магия зарождается из идеи некой мистической безличной силы, в которую верит большинство примитивных народов. Представление об этой силе, называемой у меланезийцев мана, у некоторых австралийских племен арангквилтха, у различных групп американских индейцев маниту, варан, оренда и безымянной у других народов, тем не менее является почти универсальной идеей, встречающейся везде, где процветает магия. <…> для большинства примитивных народов и в целом для низших стадий дикости характерна вера в сверхъестественную безличную силу, движущую всеми теми силами, которые имеют какое-либо значение для дикаря, и являющуюся причиной всех действительно важных событий в сфере сакрального. Таким образом, мана, а не анимизм определяет “минимум религии”. Это “до-анимистическая религия”, и мана ее сущность как сущность магии, которая поэтому радикально отличается от науки.
Однако остается вопрос, что же такое мана, эта безличная сила магии, которая предположительно господствует во всех формах ранних верований?» (Малиновский Б. – С. 22.)
Малиновский отнюдь не так определенно разделяет мнение остальных ученых о резком разграничении магии и науки в первобытном обществе. Но вот вопрос этот он задает по-настоящему и не дает на него определенного ответа. Слишком противоречивыми оказываются описания проявлений и использований маны. Сами маги сказали бы на это: сила есть сила, ее нельзя назвать словами, ею можно только овладеть. Малиновский вслед за всей остальной европейской наукой говорит иначе: маны не может быть, потому что не может быть никогда, хотя бы потому, что я – самый совершенный из всех людей этого мира – ею не владею! Люди евро-американской культуры склонны очень переоценивать свою способность судить о мире верно…
Тем не менее, рассказывая о «Золотой ветви» Фрэзера, Малиновский называет одно из проявлений маны, которое я считаю главным и от которого хотел бы оттолкнуться и в собственном исследовании.
«В “Золотой ветви”, начиная со страшного и таинственного ритуала в честь лесных богов у Неми, перед нами раскрывается поразительное разнообразие магических и религиозных культов, придуманных человеком для того, чтобы контролировать и активизировать влияния неба и земли, солнца и дождя, способствующие плодородию; такое впечатление, что ранняя религия преисполнена неукротимыми силами жизни, в ее юной красоте и первозданности, безудержности и такой неистовой мощи, что это иной раз приводит к актам самоубийственного жертвоприношения» (Там же. – С. 24.).
Сила жизни! Вот ответ. Именно за попытки экспериментальных реконструкций русских народных обрядов, связанных с силой жизни, Живой, нас и называли язычниками. К сожалению, мы не язычники, мы все-таки ученые и поэтому так до конца и не поняли, что же это такое!
И именно эти экспериментальные работы с древними обрядами убедили нас, что идти к пониманию силы жизни надо не так. Эти магические обряды умерли вместе с соответствующей им религией. А сила жизни продолжает бурлить и давать плодородие! Она и только она позволяет нам выживать сегодня в полуразрушенной России. Она заставляет создавать предприятия и экономику. Она где-то рядом, просто мы неверно к ней шли. Теперь мы идем другим путем, но наш опыт позволяет нам делать обоснованные, хоть и неожиданные сравнения современности с древностью. С той древностью, когда небо было ближе к земле, а сознание чище и прозрачнее настолько, что люди обладали Видением и Медом поэзии…
Как, к примеру, в классическом русском заговоре, обращенном к богине или духу плодородия Жниве:
Жнива, ты, Жнива, подай мою силу на овсяную жниву! (Великорусские заклинания. Сборник Л. Н. Майкова. – СПб.: Издательство Европейского Дома, 1994. – С. 112.)
Гобино, как говорилось в древности на Руси, или сытая жизнь, довольство и достаток пищи были целью подавляющего большинства магических действий, использующих эту таинственную жизненную силу.
Что это значит для меня и моего исследования? Самое малое – возможность обнаружить магию в столь привычных нам производстве и предпринимательстве, а также возможность осмыслить производственные отношения через охоту за жизненной силой. Если производство магично, то экономика – поле божественных игр. Если это удается рассмотреть и показать другим, можно рассчитывать и на чудо. Хотя бы экономическое!..
Но как к нему прийти? Пока как психолог-прикладник я вижу только один путь – последовательно очищая наше сознание слой за слоем от того, что перекрыло наше видение. Удастся вернуть саму способность видеть в обыденном волшебную силу – можно будет ставить вопрос и об ее использовании.
И что же за слои нам придется преодолевать на этом пути? Пока явно наметились несколько основных: наука и религия как составные части культуры, если идти вслед за антропологами. Или же мышление, а за ним разум, чтобы выйти на стихиальные уровни сознания, если идти путем культурно-исторической психологии.
Сейчас, в самом начале исследования, я не мог бы определенно ограничиться только каким-то одним путем. Пусть дорога подскажет сама, как по ней идти. Но со всей определенностью ясно, что в той жизненной науке, с помощью которой мы создаем свои предприятия и обеспечиваем выживание – ее можно назвать наукой управления – присутствует то, что определенно является культурой. Но присутствует и то, что определяет ее действенность и способность доставлять нам желаемое способами, неведомыми культуре. И это – магия.
Глава 2. Немного истории и этнографии
Как я уже сказал, я вел свои собственные этнографические сборы на территории так называемого Верхневолжья. Эта местность между Шуей, Ковровом и Суздалем – древнейшие русские земли, входившие уже с X века в состав Ростово-Суздальского княжества, а впоследствии ставшие частью Великого княжества Владимирского.
Места эти до славян были заселены финно-уграми. В основном, мерей. Русские всегда считали финнов, особенно живших на пограничье славянского мира, колдунами, так же, как считали их колдунами шведы и норвежцы. Даже сейчас верные своей древней культуре марийцы возрождают «языческие» поклонения священным рощам. Во времена Ивана Грозного для нужд царя колдуний привозили из Карелии. В начале русской истории таким колдовским пограничьем славянского мира было Верхневолжье.
Что значит «колдун», если мы относим это понятие к тем временам? Ясно, что для времени Ивана Грозного, то есть для XVI века, только русские, особенно давно и прочно христианизированная верхушка общества, считали финнов колдунами в каком-то современном смысле этого слова. Сами эти колдуны просто жили по обычаям своего народа и были неотъемлемой частью той культуры, которую христианство преследовало и уничтожало под именем язычества.
Язычество, если сделать прямой перевод библейского слова «языцы», – это народная вера, вера нехристианских народов. Но для нас было бы точнее назвать это народной культурой, чтобы показать, что антропологическое исследование не имеет цели противопоставления тех или иных религий. В данном случае разговор о верах – это всего лишь описание того материала, который предоставляет нам история.
Итак, земли Верхневолжья исконно были местом смешения нескольких культур. Как называют такие места ученые – этническим котлом. Первая волна славянского испоселения была преимущественно кривичской и, естественно, языческой в то время. Надо думать, именно поэтому заселение края прошло легко и естественно. Летописи не сообщают ни о каких войнах между славянами и финнами.
Вторая русская волна приходит сюда в XII веке после неожиданного решения Андрея Боголюбского. Имея все права на Великий Киевский престол, он уходит во Владимир на Клязьме, перенося с собой в середину русских земель и Великое княжение. Владимир после этого становится столицей Руси, а Киев медленно превращается в провинциальный город на далеком пограничье. В этом он подобен Петербургу. И я совершенно согласен с Вадимом Кожиновым, что «уход Андрея из Киева во Владимир имел и неизмеримо более масштабный и глубокий смысл» (Кожинов В. В. История Руси и русского Слова (Опыт беспристрастного исследования). – М.: «Алгоритм», 1999).
Андрей вывел с киевщины множество лучших людей, как земледельцев, так и ремесленников. Именно с их уходом хиреет Киев и рождается Новая Русь. Для нас же это означает, что Андреем Боголюбским в Верхневолжском этническом котле была заварена еще одна русская культура.
Если вспомним историю, то первая русская государственная культура возникает в летописном Новгороде, которым, скорее всего, была еще Ладога. Эта культура была многонациональной и в силу этого веротерпимой и языческой. Веротерпимость предполагает духовную свободу, но не дает опоры для сильного государства, объединения и войны с другими. Поэтому новгородская Русь искала порядку и власти на стороне и призвала варягов.
Этот эксперимент по созданию сильной культуры, позволяющей существовать сильному государству, был перенесен варягами из вольнолюбивого Новгорода на иную почву. В далекий полянский Киев. Каким-то образом это оказалось точным попаданием. Возможно, потому, что поляне уже веками пытались противостоять сильной государственности Хазарского каганата. Иначе говоря, находились в состоянии войны, которая всегда облегчает людям способность думать о единстве.
В итоге Новгород оказывается на окраинах, а первая русская государственная культура по прямой преемственности сменяется второй – Киевской и становится христианской по преимуществу. Христианство как позволяло чувствовать большее единство, так и становилось языком межгосударственного общения.
Культуру Владимирской Руси сменит московская государственная культура, которая возникнет в ходе борьбы с татаро-монгольским игом. Эта борьба, шедшая в условиях страшной раздробленности и постоянных взаимных предательств, смогла состояться и завершиться победой лишь при условии объединения всех сил в едином государстве. Но для объединения нужен стяг, нужно то, что сделает людей едиными. Таким стягом, как и в Киеве, стал христианство. И в этом смысле четвертую, то есть Московскую государственную культуру Руси и теперешней России можно считать принятой из Киева.
Впрочем, возможна и иная точка зрения. Московская культура возникает лишь с началом централизации. А в самом начале ига душа Руси словно бы отступает от опасности за леса и болота в Новгород. Теперь уже в наш Новгород. И Новгород времен Александра Ярославича Невского в начале XIII столетия становится новым центром Руси, рождая культуру времен ига. Культуру раздробленности и подавленности. Точнее, выживания в условиях опущенности. Тут уже было не до свободы и вольнодумства. Нужно было объединять все народные силы в единый кулак, и Невский становится святым.
Культура московская, именуемая Великорусской, рождается из новгородской с началом объединения Руси в централизованное государство, сплоченное единой верой и единой целью. Какой? Можно сказать, что свободой. Но наблюдая, как психолог, современные проявления Великорусской культуры в людях, я бы предпочел говорить, что этой целью была не столько свобода, как решение выжить даже опущенными и лишенными всех прав. Нас давят, а мы крепчаем…
Что же касается третьей русской культуры, культуры Владимирско-Суздальской, то она, скорее, была преемницей первого Новгорода. Ладоги. И действия Андрея Боголюбского, и уход русских людей с Киевщины по диалектическому закону отрицания отрицания можно, говоря научным языком, назвать реакцией на политику стольного Киева. И на военную политику, и на религиозную.
Каковы факты?
Владимирщина изначально как бы противопоставляла себя военизированному «милитаристскому» Киеву. Это был мирный край, край мирного сосуществования народов и культур.
В 1096 году был убит князем Олегом Святославичем сын основателя Владимира-на-Клязьме Владимира Мономаха. Владимир к тому времени был сильнейшим князем Руси и вполне мог расправиться с Олегом. Но вместо этого он шлет ему потрясающее письмо, которое я приведу в переводе с древнерусского Вадима Кожинова:
«О я, многострадальный и печальный! Много борешься, душа, с сердцем и одолеваешь сердце мое; все мы тленны, и потому помышляю, как бы не предстать перед Страшным Судьею, не покаявшись и не помирившись между собою.
Ибо кто молвит: “Бога люблю, а брата своего (Олег – двоюродный брат Владимира. – В. К.) не люблю”, – ложь это. И еще: “Если не простите прегрешений брату, то и вам не простит Отец наш Небесный”…
Господь наш не человек, но Бог всей вселенной, – что захочет, во мгновение ока все сотворит, – и все же сам претерпел хулу, и оплевание, и удары, и на смерть отдал Себя, владея жизнью и смертью. А мы что такое, люди грешные и худые? – сегодня живы, а завтра мертвы, сегодня в славе и чести, а завтра в гробу и забыты, – другие собранное нами разделят.
Посмотри, брат, на отцов наших: что они скопили?. Только и есть у них, что сделали душе своей…
Дивно ли, если муж (Сын Владимира. – В. К.) пал на войне? Умирали так лучшие из предков наших. Но не следовало ему искать чужого и меня в позор и печаль вводить. Подучили ведь его слуги, чтобы себе что-нибудь добыть, а для него добыли зла… И не враг я тебе, не мститель. Не хотел видеть крови твоей…
Ибо не хочу я зла, но добра хочу братии и Русской земле… Не от нужды говорю я это, ни от беды какой-нибудь, посланной Богом, сам поймешь, но душа своя мне дороже всего света сего.
На Страшном Суде без обвинителей сам себя обличаю» (Там же – С. 327).
Как пишет Кожинов: «…это послание, по-видимому, произвело громадное впечатление на Олега. Осенью того же, 1097, года Олег прибыл в принадлежавший Владимиру Любеч, где состоялся знаменитый съезд князей во главе со Святополком Киевским. На Любечском съезде, по летописному сообщению, было провозглашено: “…почто губим Русьскую землю, сами на ся котору (распрю, раздор) деюще?. ноне отселе имемся в едино сердце, и блюдем Рускые земли”» (Там же.).
Прямое прочтение христианской доктрины не как государственной религии, а по текстам первоисточников, попытки сменить ценности, правящие русскими сообществами – это все для меня итог примерного двухсотлетнего правления киевской военной культуры и, соответственно, психологическая «реакция» на это правление русских людей. Иными словами, Владимиром Мономахом на рубеже XI и XII веков была заложена основа для смены культуры. И как в случае с Киевом, для этого потребовалось перенести центр и столицу Руси как можно дальше от основного хранилища правящей культуры.
Но по-настоящему эту революцию совершает сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский. Именно при нем лучшие люди Руси, ее цвет, ум и способности съезжают с Киевщины и переезжают на Владимирщину. И начинается русский ренесанс, возрождение русского язычества в рамках теперь уже прочно утвердившегося христианства. Смею, правда, предположить, что христианства, в первую голову, понятого так, как понимал Владимир Мономах, то есть как пути к Богу, а не как пути к мировому господству. Хотя это, конечно, только предположения.
Зато не вызывает сомнений, что символом этой культуры, которую исследователи называют Двоеверием, является Дмитриевский собор Владимира, построенный братом Андрея Всеволодом. Владимирские князья, конечно же, были людьми разумными и вполне отдавали себе отчет в том, что для защиты государства нужна сила и сила военная. А это значит, что и соответствующая этому требованию вера, объединяющая народ. Назовем ее современно: политическая религия. Но что-то должно быть и для души…
Маленький кусочек из рассказа владимирца о Владимирщине:
«Исследователи этого единственного в своем роде памятника искусства (Дмитровского собора) подсчитали, сколько и каких изображений поместили мастера на трех его стенах, без аркатурного пояса и без трех алтарных апсид, составляющих четвертую стену. В книге Н. Н. Воронина приводится такая таблица:
Изображения христианского характера 46
Звери и птицы 236
Грифы 28
Растения 234
Прочие 22
Итого: 566 изображений
Выходит, что изображений христианских помещено всего лишь на 8 процентов резных камней.
Всеволод поручил строить монашески-строгий и величественный Успенский собор властям церковным. Его воздвигали для народа, который нужно было держать покорным князю и священнослужителям.
А Дмитриевский собор Всеволод повелел строить для себя, для своей семьи, для своих приближенных» (Голицын С. М. Сказания о белых камнях. – М.: Молодая гвардия, 1980 – С. 159).
Возможно, что именно Ростово-Суздальские земли были той упомянутой арабскими источниками Артанией или Арсанией, которая наряду с Куявой и Славией была третьим центром русских земель. И если Куява – киевщина считается центром воинским, а Славия – торговым, то Арсания была центром сакральным, местом духовного поиска в залесской тишине…
Это, конечно, недоказуемо при том состоянии источников, которые мы сегодня имеем. Однако Владимирщина дала мировой культуре такое явление, как Офени, которых я и изучал во время моих этнографических экспедиций. Можно считать, что это явление чисто экономическое. Ну, заставили тяжелые условия жизни в неплодородном нечерноземье отдельных крестьян взяться за отхожие промыслы и добираться в своих поездках от Сибири до Кавказа и Германии. И создать свой собственный тайный или особый язык, который до сих пор живет по всей России в виде блатной фени…
Не верю, что все так просто. Кажется мне, что от такого общественного явления, как офени, наука просто отмахнулась. У нее, конечно, были для этого оправдания. Слишком много было утеряно, и слишком мало сохранилось источников. Но и то, что ничего не делалось для добывания новых, тоже определенность. На основании моих собственных многолетних исследований я могу определенно утверждать, что явление это было полноценной культурой. Также могу сделать и предположение, что культура эта, которая может теперь считаться лишь этнографической, является наследницей той самой третьей государственной культуры Руси, которая сложилась в XII веке, а потом передавалась из поколение в поколение, постепенно умирая как не соответствующая требованиям времени. Я не в состоянии этого доказать и потому буду говорить лишь о том, что застал.
Можно считать, что мне повезло. Мой дед был уездным писарем и оставил записки о той части офенского мира, которая называла себя Мазыками. К тому же, благодаря его памяти, мне удалось проникнуть к тем, кто еще хранил кое-что из мазыкских знаний. И это кое-что явно было связано с колдовством. Во всяком случае, местные жители прямо считали некоторых из стариков, с кем я встречался, колдунами.
В русской этнографической науке имеются два «классических» взгляда на колдуна. Один из них, особенно ярко представленный в трудах таких школ, которые я бы назвал «Славяноведением» (Школа Н. И. Толстого) и «Семиотической школой» (Школа В. Топорова и В. Иванова), показывает и колдовство и народную магию как бытовые в общем-то действия крестьянина по обеспечению плодородия и вообще жизни. Этот взгляд уходит корнями еще к Е. Н. Елеонской, Н. Познанскому, Л. Майкову, В. Добровольскому и многим другим. Это традиция подхода к магии как общекультурному, почти бытовому явлению.
Иной взгляд представлен в работах тех ученых, которые сталкивались с живыми колдунами. Эти работы чрезвычайно редки и показывают колдуна примерно так, как описываются в мировой этнологической литературе шаманы и индейские жрецы. Это человек воспринимается ученым, скорее, как мрачный шарлатан с нависшими бровями, освоивший какое-то количество приемов запугивания и внушения. Хотя, конечно, и это тоже является определенной культурой, неотторжимо присущей культуре общенародной в определенные эпохи.
Могу сказать одно, то, с чем столкнулся я, было и похоже на все описанное, и не похоже. Живая культура так отличается от своих описаний! Я ездил к своим старикам семь лет. И при всем том, что я сам, можно сказать, был представителем той же культуры, поскольку родом из той же среды, мне до сих пор не удается полностью понять и описать то, что я видел и познал. Я отчаялся рассказать о моих Мазыках сразу и целиком и в последнее время рассказываю по частям. Рассказ об их взглядах на жизнеобеспечение, предпринимательство, устройство предприятий и Артелей – одна из таких частей большой картины. Не самая показательная, я думаю. Но важная.
Чтобы не потеряться в объеме того, что можно было бы рассказать об офенях, я пока приведу лишь два примера понятий, использовавшихся стариками-мазыками в рассказах о предпринимательстве. Сразу хочу предупредить: вместо имен своих информаторов я употребляю прозвища. Прозвища, правда, настоящие. Так они и звали друг друга при мне. Делаю же я это из уважения к их памяти и по их просьбе.
Итак, в первую очередь о понятии Офеса или Офеста.
Офест по-офенски – это крест. Но когда мне рассказывал об этом один из моих учителей по прозвищу Дядька, он придавал этому понятию особое и своеобразное значение. Смысл его примерно таков.
В деловом общении внутри Артели или предприятия, как и при ведении переговоров, существует своего рода горизонталь и вертикаль взаимодействия.
Вертикаль – это взаимоотношение или взаимодействие различных мест за Столом, которым является предприятие.
И предприятие, и общество вообще мазыки рассматривали как своего рода систему иерархически увязанных мест, которую называли Столом. Стол тут, очевидно, имелся в виду тот, за которым сидят гости на пиру у князя. Хотя этим князем может быть в определенных обстоятельствах и Хозяин дома, то есть простой крестьянин. Вспомним хотя бы, что во время свадьбы жениха – простого крестьянского парня – зовут молодым князем, а его невесту – молодой княгиней. Точно так же это может относиться и к Хозяину пира.
За любым столом, начиная с Велик-стола, то есть стола Великого князя, и до самого простого крестьянского, люди всегда рассаживаются в соответствии с их достоинством, то есть с той оценкой, которую дает им общество. Соответственно достоинству место, соответственно месту – и почести. И этим пиршественный стол в совершенстве похож на предприятие, где кормление, то есть зарплата, всегда жестко увязано с занимаемым местом и достоинством человека.
Поэтому распределение людей в обществе по различным местам и службам мазыки называли не только столом, но и кормушкой. И это очень точно отражает истинное устройство общества и показывает то, что правит людьми.
Естественно, как мы все это прекрасно знаем, по этой вертикали можно перемещаться как снизу вверх, поднимаясь к Власти, так и обратно, падая на Дно. Подробнее об этом рассказывается в курсе Общественной психологии (Свойское мышление) Училища. Поэтому я в излишние подробности вдаваться не буду.
Что имеет значение для нас сейчас: мазыки эту вертикаль или иерархию Власти и достоинств считали лестницей восхождения к вершине общественной пирамиды. И называли её, по словам Дядьки, Дробина. Естественно, она и есть вертикальная часть Офеса. Дробина – это лестница, по которой люди карабкаются к Власти.
Горизонталь же – это дееспособность или способность делать то, ради чего тебя взяли или наняли. Это твоё дело – Мастыра.
Дробина и Мастыра складываются в крест, и Мастыра как бы постоянно скользит по Дробине. Это своего рода бегающая ступенька лестницы твоего восхождения к вершинам общества. Она же и есть то место, которое ты постоянно занимаешь.
И это вполне работающий образ, потому что он позволяет понять одну очень простую истину, Истоту, как это называлось, – куда бы ты ни взобрался или не опустился по лестнице общественного восхождения, ты все равно займешь свое место, просто потому, что твое место всегда с тобой, и будешь работать и получать корм в соответствии с ним. Принять это – все равно, что принять самого себя и тот мир, в котором ты воплотился в этот раз.
И смысл этого образа в том, что на каком бы месте ты не оказался, ты всегда живешь и кормишься только благодаря взаимодействию с обществом, которое и двигает тебя по этой лестнице и кормит за то, что ты для него делаешь. И места ты занимаешь не те, что хочешь, а те, что нужно занять, чтобы общество выжило. В очень значительной мере все это – проявление стихии, естественной, как сама природа. Только стихии общественной, сложившейся так за тысячелетия взаимной притирки множества людей. Лезть в это со своей волей нужно очень осторожно, чтобы общество не начало разрушаться, как экология Земли. Революционные эксперименты ясно показывают это.
Однако когда доходит до дела, вся эта ясность улетучивается.
Улетучивается потому, что обычно люди предпочитают избрать одно определённое положение и исходить всегда только из него. Одни предпочитают видеть только вертикаль и бездумно лезут по ней к вершинам вверх или вниз, вместо того, чтобы достигать общую цель.