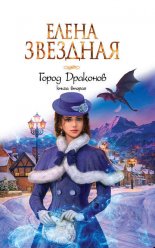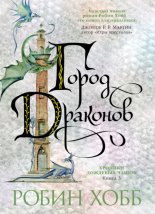Жена Тони Трижиани Адриана

Сегодняшний вечер положил конец их задушевным разговорам и неспешным прогулкам по дороге домой. Конец запальчивым спорам об их общей страсти, свинге, – о том, кто лучший джазист, Дик Хэймс или Бинг Кросби, Дюк Эллингтон, Кэб Кэллоуэй или братья Дорси. Конец репетициям на стылых хорах вечером по средам и жалобам на священника, который отказывался включить для них отопление. Конец всем предвкушениям и надеждам.
Саверио подошел к балюстраде хоров и спел соло «О святая ночь». В этом гимне он излил всю свою боль, понимая, что в рождественский сочельник больше нигде не найдется для нее места. Музыка всегда была для него убежищем. Он находил утешение в пении; так он выпускал пар и выражал свои чувства. Когда он добрался до нот в связующей теме, его голос зазвучал полнее, сильнее и увереннее, чем когда-либо слышали прихожане. Он удержал ноту a cappella, а органистка застыла, занеся пальцы над клавишами, ожидая, когда он вдохнет. И наконец он допел окончание гимна под негромкий аккомпанемент органа. Слово «Рождества» повисло над прихожанами, как кружевной полог, пока Саверио удерживал последнюю ноту.
Когда он замолк, органистка бесшумно сняла ступни с педалей и пальцы – с клавиатуры. Прихожане погрузились в тишину, но тут же пришли в странное возбуждение.
Когда Саверио вернулся на свою скамью, к нему наклонилась Констанция.
– Им хочется аплодировать! – прошептала она. – И это в церкви!
От ее горячего дыхания у него зачесалась шея, но он все же кивнул в знак благодарности.
Товарищи по хору стали хлопать Саверио по спине, поздравляя с триумфом, но он почти не ощущал их прикосновений. Его мысли витали далеко. Он так ловко вывел ту высокую ноту, будто поймал ее в воздухе, как бабочку, и бережно держал за хрупкие трепещущие крылышки, пока она билась у него в руке. Он пел в надежде завладеть вниманием Черил и завоевать ее своим мастерством. Но она, похоже, его вовсе не слушала. Черил сосредоточилась на другом – на прихожанах в церкви, а точнее, на своем женихе в пальто-дипломате.
Литургия закончилась. В бумажном пакете лежал последний апельсин. Оставшись один на хорах, Саверио чистил апельсин, бросал кожуру в пакет и наблюдал, как Черил и Рикки (тот самый, который скоро будет водить собственный «паккард») зажигали свечи и преклоняли колени у алтаря Непорочного Зачатия в алькове рядом с главным алтарем, а потом повернулись и пошли под руку по центральному нефу, покидая церковь, а заодно – и его жизнь.
Положив ноги на табурет органистки, Саверио откинулся на скамье и одну за другой проглотил все сладкие дольки апельсина. Последние прихожане гуськом уходили в морозную ночь. Он собирался прятаться здесь, пока церковь не опустеет совсем.
– Эй, это ты – Саверио? – Усатый мужчина лет тридцати в темно-синем шерстяном пальто элегантного покроя стоял на верхней ступеньке у входа на хоры. – Да ты ешь, ешь. Апельсин-то, наверное, вкусный, братишка?
Саверио поспешно сглотнул.
– Братишка?
– Просто такое выражение. Это ты – тот мальчишка, который пел? – Мужчина надел шляпу на кулак и стал ее вращать.
– Да.
– То соло в конце. Это ты так вытянул си?
– Да, я. – Саверио покраснел.
– Умеешь ты петь, дружище. Я Сэмми Прецца. Играю на саксофоне в оркестре Рода Роккаразо. Знакомое имя?
Саверио выпрямился на скамье.
– Я его слышал по радио.
– Неплохо, правда?
– Мне вполне нравится.
– Ну так вот, у нас тут вокалист отпал, и Род ищет новый голос. Я думаю, ты ему придешься по сердцу. Есть у него один квартетик, поет прилично, но все-таки вся соль в солисте. Лицо оркестра. Ну, место солиста я тебе не гарантирую, но в том же квартете состав меняется постоянно. Вот, возьми, – Сэмми протянул Саверио свою визитную карточку. – В новогоднюю ночь мы выступаем в Ист-Лэнсинге. Покажешь эту визитку – тебя впустят. А уж я проведу тебя к Роду.
– А дальше что?
– Споешь для Рода, там и посмотрим.
– Спасибо.
Саверио изучил визитку – тисненный золотом скрипичный ключ, черные буквы. Смотрелось шикарно.
– А лет тебе сколько? – спросил Сэмми.
– А на сколько я выгляжу? – парировал Саверио.
– Хороший ответ. – Сэмми обернулся, перед тем как спуститься по лестнице. – Без шуток, парень, горло у тебя что надо.
По пути с литургии домой Розария Армандонада взяла сына под руку.
– Ты так красиво пел! – восхитилась она. – Люди плакали. Да и я тоже.
– Ма, но мне вовсе не хочется, чтоб люди плакали, когда я пою.
– Нет, это хорошо. Значит, они что-то почувствовали. – Она стиснула его руку.
– Я хочу делать людей счастливыми, – возразил Саверио.
– Так и получается. Хотя у них и льются слезы.
– Разве можно быть счастливым, когда плачешь?
– Они плачут, потому что на них нахлынули воспоминания о том, чего – или кого – им не хватает. Это куда лучше, чем та дурацкая музыка, которую крутят по радио.
– Не лучше, просто другое.
На углу Боутрайт-стрит до них донесся запах жареных каштанов. Они переглянулись. Саверио усмехнулся:
– Па!
Леоне стоял во дворе их дома и поджаривал каштаны на тяжелой чугунной сковороде, поставленной прямо на небольшой костер, для которого он вырыл ямку в стылой земле.
– Леоне, жаль, что ты не слышал, как твой сын пел сегодня в церкви, – сказала Розария.
– Да слыхал я его пение.
– Но в эту ночь он пел как ангел, с необычайной силой и чистотой.
– Похоже, я заставил некоторых плакать, – добавил Саверио.
– Если я запою, все вокруг тоже разрыдаются, – пошутил Леоне, вручая жене полную горячих каштанов медную миску. Из потрескавшейся обугленной кожуры в морозный воздух вырывался душистый пар.
– Пойду приготовлю сироп и залью каштаны, – сказала Розария, уходя в дом.
Саверио стал помогать отцу гасить костер. Пока Леоне забрасывал пламя золой с лопаты, Саверио опустился на колени и скатал большой снежный ком. Он передал его отцу, тот положил снег прямо поверх золы, огонь зашипел, и вскоре от него остались лишь завитки серого дыма.
– Па, после мессы ко мне подошел один человек, – начал Саверио.
– Зачем?
– Хочет, чтобы я сходил к ним в ансамбль на прослушивание.
– И чем ты там будешь заниматься?
– Петь. И, может, еще немного аккомпанировать на мандолине.
Мандолину он упомянул в надежде тронуть сердце отца. Тому довелось на ней играть еще мальчишкой, в Италии, и сына он тоже научил. Но Леоне это не впечатлило.
– Ты рабочий на заводе «Руж», – строго напомнил он.
– Знаю. Но я мог бы выступать по вечерам. Может, подзаработаю немного.
– Нельзя делать и то и другое.
– Почему?
– Нельзя. Такая жизнь не для тебя.
– Но ведь эти музыканты отлично зарабатывают. Развлекают людей, и деньги текут рекой. Если я добьюсь успеха, то наверняка буду получать вдвое больше, чем моя теперешняя зарплата.
– Это просто какая-то афера, – заявил отец. – Не попадайся на их удочку.
Саверио последовал в дом за отцом.
– Все честно, они собираются платить мне за выступления, – настаивал он.
– Это они сначала говорят, что заплатят, а как поедешь на гастроли, не будет тебе никаких денег. Слыхал я истории о шоу-бизнесе. Это занятие для цыган. Ты трудишься, а босс загребает все твои денежки. Ты голодаешь, а он жиреет, с певичками развлекается, а тебе – ничего.
– Все вовсе не так.
– Да что ты в этом понимаешь?
– Я знаю, как оно на самом деле, потому что на мессе был человек из оркестра Рода Роккаразо. Он меня потом разыскал, чтобы поговорить. Сам ко мне обратился. Сказал, что у меня есть талант и что я мог бы добиться успеха в музыкальном деле.
Саверио прошел за отцом на кухню, где Розария мешала на плите сироп. Выключив конфорку, она залила очищенные ядрышки каштанов горячей сладкой жидкостью.
– Его дело – не твое дело. Мы этого человека не знаем. Кто он вообще такой? Чего ему на самом деле от тебя нужно? – повысил голос Леоне.
– Леоне, просто выслушай мальчика, – попросила мать.
– Заткнись, Розария!
Она повернулась обратно к плите и стала мешать томившийся в большой кастрюле соус маринара[5].
– Не разговаривай с ней так, – негромко произнес Саверио.
Леоне ударил кулаком по столу. Сын понял, что его реплика привела отца в бешенство, и немедленно о ней пожалел.
– Не лезь не в свое дело! – снова ударил кулаком по столу Леоне. – Это мой дом!
– Все здесь твое, папа. Но не надо говорить маме «заткнись». Этот спор только между тобой и мной.
– Все в порядке, – попыталась успокоить сына Розария.
– Сегодня ведь сочельник, – устало добавил юноша, хотя знал, что отец всегда готов поскандалить, какой бы на дворе ни был день.
– Ты потеряешь работу в «Руже», вот чем это закончится. А ведь обратно тебя не возьмут! – Леоне снова повысил голос. – Люди едут отовсюду, из Миссури, Кентукки, Чикаго, да еще и с сыновьями, а у некоторых много-много сыновей, и все хотят работать в «Руже». Они согласны на любой труд. Пусть и цианидная плавильня, им все равно. Любой труд. А у тебя хорошая работа на конвейере, и ты от нее отказываешься. Только глупый мальчишка бросает хорошую работу на конвейере.
– Я хочу заниматься другим. Может, попробовать что-то иное, я еще не решил.
– Жизнь – это не то, что тебе хочется делать. Это то, что надо делать.
– Но почему нельзя и то и другое?
– Можно, – сказала Розария.
– Я же велел тебе не вмешиваться! – предостерег жену Леоне, прежде чем обернуться к сыну. – Ты хоть представляешь себе, что мне пришлось сделать, чтобы устроить тебя на завод? У них там целые списки желающих. Я им пообещал, что ты будешь хорошо работать, еще лучше, чем я.
– Но я – не ты.
– Тебе все легко достается. Ты просто маменькин сынок.
– Хорошо, Па, – сдался Саверио. Было ясно, что отец в ярости, а когда дело доходило до этого, доставалось и сыну, и – особенно – матери.
– У Саверио есть талант! Мне бы хотелось, чтобы он его развивал, – тихо проронила Розария.
– А ты-то с каких пор разбираешься в талантах?
– Я разбираюсь в моем сыне.
– Ни в чем ты не разбираешься! – прогрохотал Леоне.
Он резко поднялся, отшвырнув стул. Ударившись о стену, стул развалился.
Розария и Саверио бросились к обломкам и подобрали перекладины и спинку; для Леоне было в порядке вещей сломать что-нибудь. Розария вышла из кухни, неся в охапке детали стула, точно хворост, а Саверио остался у раковины. Леоне налил себе вина. Подобные сцены были привычными в их семье по праздникам, а частенько и по воскресеньям. Леоне использовал малейший предлог, чтобы раскричаться, накрутить себя, мать спешила исчезнуть, и в доме воцарялась тишина – но не мир.
Запах кипящего на плите соуса сделался почти резким: чеснок, помидоры и базилик полностью приготовились. Саверио выключил огонь, взял пару кухонных полотенец, снял кастрюлю с конфорки и переставил ее на край плиты. Отец закурил. Саверио медленно помешивал соус, размышляя, как бы лучше подобраться к отцу.
– Ма сегодня сделала укладку в парикмахерской, – сказал он наконец.
– И что?
– А ты и внимания не обратил.
– И что с того?
– Когда женщина делает укладку, это не для нее, а для тебя. Она хорошо выглядит. Ты бы сказал ей. Ей будет приятно.
Леоне подымил сигаретой.
– Никогда не указывай отцу, что делать, – буркнул он.
– Я просто предложил.
– Не предлагай.
– Ладно.
– Следи за тем, как со мной разговариваешь.
– Ладно, буду следить. Если ты станешь приветливее разговаривать с Ма.
Леоне пренебрежительно помахал сигаретой в сторону сына.
– Я с собственным сыном в сделки не вступаю.
– Я ведь не собираюсь жить с вами всегда, чтобы ей было с кем перекинуться парой слов. Однажды вы с Ма останетесь одни, и вам придется общаться друг с другом. Говори с ней приветливо. Как я. Как миссис Фарино на рынке. Как миссис Руджьеро в лавке мясника. Как отец Импречато в церкви.
– Священник-то всегда приветливый, потому что он хочет наших soldi[6]. – Леоне потер пальцы один о другой, намекая на сбор пожертвований в церкви.
– Не все на свете хотят твоих денег, – возразил сын.
– Это ты так думаешь. Твоих денег они тоже хотят, кстати.
– Однажды я отсюда уеду.
Леоне рассмеялся.
– И куда же ты отправишься? – иронически спросил он.
– Не знаю.
– А чем займешься?
– Я пока не решил, – солгал Саверио. Он знал в точности, чем хочет заниматься, но разумнее держать эти планы при себе.
– Пустишь свою жизнь на ветер.
– Понимаешь, Па, жизнь – такое дело, нам она достается только один раз. Можно гнуть спину на заводе «Руж», откладывать каждый цент, купить любимой девушке золотую цепочку, а в тот вечер, когда ты намерен ее подарить, узнать, что девушка собирается замуж за другого. И выходит, что все эти долгие часы на конвейере, когда ты думал, что трудишься ради воплощения своей мечты, чтобы устроить счастливую жизнь с хорошенькой девушкой, от которой ты без ума, ты ничего подобного не делал, а рвал жилы просто ради счастья крутить гаечный ключ для Генри Форда.
– Тебе платят хорошие деньги.
– Деньги имеют значение, только если с их помощью можно сделать кого-то счастливым. Так сказал коробейник, и я думаю, что он прав.
– Цыган? Ты поверил цыгану?
– Мне он показался довольно умным.
– Подумай головой. Тебе же надо что-то есть. Еду надо на что-то покупать. За все, что не выросло в огороде, приходится платить.
– Это просто основные потребности. Их я тоже подсчитал. Чтобы обеспечить себе еду, достаточно работать на конвейере пару часов в день, неделя за неделей, всю жизнь. А что делать с оставшимися восемью часами? Куда уходит эта зарплата? На что тратится?
– Государство забирает.
– Часть. А остальное?
– Откладываешь. Под матрац. Только не в банк. Потому что никогда не знаешь, что может случиться.
– Это мне неинтересно. Я хотел увидеть свою зарплату отлитой в золоте вокруг прекрасной шеи Черил Домброски.
– Она тебя отвергла?
– Да, отвергла. – Саверио было нелегко признать это вслух.
– Тогда ну ее к черту.
– Справедливо. Если бы она меня любила, я бы отдал ей все, что у меня есть.
– Ты от нее глаз оторвать не можешь, – улыбнулся отец.
– Вот будь у меня девушка, уж я бы хорошо с ней обращался. Потому я тебя и ругаю, Па. У тебя же есть девушка. Надо хорошо с ней обращаться.
– Ты ничего не знаешь.
– Кое-что я все-таки знаю. Например, что грех любить девушку и не показывать ей этого.
– Ай, оставь, – отмахнулся Леоне.
– Ты даже не понимаешь, как тебе повезло. Однажды поймешь, но будет слишком поздно, – выпалил сын напоследок и оставил отца одного на кухне.
По пути к себе на второй этаж он увидел, что мать сидит в гостиной у радио. Розарии было сорок лет, и седина только начинала пробиваться в ее черных волосах. Она сохранила стройную фигуру, а черты лица выдавали коренную венецианку – точеный нос, прекрасные карие глаза.
Розария украсила их скромный дом как смогла: покрасила стены в веселый желтый цвет, то и дело до блеска натирала воском серый линолеум, сшила муслиновые занавески – вроде простые, но по-своему изящные, с оборочками по низу. Украшения для рождественской елки она тоже изготовила своими руками, и теперь эти невесомые, будто сотканные из паутинок кружевные звездочки эффектно свисали с колючих ветвей. Саверио не раз замечал, что мать изо всех сил старается привнести хоть немного красоты в их жизнь.
– С тобой все хорошо, Ма? – заботливо спросил он.
– Да, да. – Она отмахнулась от сына тем же жестом, который только что сделал ее муж.
– Мне очень жаль, что так вышло.
– Стул починить не получится, – вздохнула она. – По-моему, с этим не справится и десяток столяров. Дерево уже никуда не годится. Пойдет на розжиг.
– Я куплю тебе новый стул.
– Лучше отложи деньги.
– Я так и сделал, Ма. Они наверху, под матрацем. Когда я наконец-то потратил деньги на что-то красивое, ничего хорошего из этого не вышло.
– Очень жаль, – сказала мать.
– Может, в следующий раз получится, – улыбнулся Саверио.
– Мне нравится наша елка, – заметила Розария, разглядывая елку от пола до макушки. – Будет грустно ее разбирать после Богоявления.
– Ты здорово ее украсила.
– Спасибо, Сав.
– Ты купила мне шляпу? – Саверио поднял стоявшую под елкой большую круглую коробку в оберточной бумаге.
– Да ты подглядел!
– Не-а, просто догадался по коробке, она ведь круглая.
– Я ее плохо завернула, – сказала мать извиняющимся тоном.
– Все отлично, Ма.
– Надеюсь, она тебе понравится.
– Шляпа мне нужна.
– Я знаю. – Она понизила голос: – В кепке ты не произведешь впечатления на руководителей оркестра. А я хочу, чтобы ты пошел на то прослушивание.
– Мне бы тоже хотелось, Ма.
– Ты всю душу вкладываешь в пение.
– Я верю в то, о чем пою, – признался он.
– Вот потому это так трогает людей.
Саверио сел рядом с матерью.
– Например, слова «В яслях дремлет дитя», – сказал он.
Розария обняла сына.
– Их написал человек, который держал на руках младенца, – улыбнулась она.
Саверио попытался отстраниться, но мать не отпускала и только крепче сжала его в объятиях.
– Ты навсегда останешься моим малышом.
– Ма! – смутился он.
– Я вырастила хорошего сына. Настоящего артиста. Я хочу, чтобы ты им стал. Помнишь, ты раньше писал стихи. Ты ведь мог бы сочинять песни – такие, как эта.
– Наверное, можно попробовать, – согласился он.
– Надо пробовать. Надо использовать свой талант. Грех этого не делать.
– Мне нравится петь в церкви.
– Ты ведь знаешь, когда в семье Пепаретти режут свинью, миссис Пепаретти всегда приносит мне кусок лопатки. А я люблю потушить ее в горшке, под соусом. В один год она принесла мясо, а оно не влезло в мой горшок. Кость оказалась слишком велика для моего несчастного горшка. Не было никакой возможности приготовить это мясо. Так что мне пришлось вернуть ей лопатку, иначе свинина так бы и пропала. Мне кажется, у тебя похожий случай: ты перерос свой горшок. Тебе тесно в хоре церкви Святого Семейства, а летний фестиваль в Дирборне всего лишь для любителей. Пора найти нечто побольше и получше, – заключила Розария.
– А как я узнаю, что мне это по зубам?
– Это проще всего. Если ты будешь нравиться людям, они тебе это покажут. А не понравишься, всегда сможешь вернуться на конвейер.
– Ты говорила об этом с Па?
– Нет. Он бы только обиделся. Твой отец не видит картин и не слышит музыки. Он человек ответственный.
– Вот как ты это называешь?
– Он твой отец, – напомнила ему Розария, хотя в этом не было нужды. Леоне был светилом в их маленькой солнечной системе; помимо них, больше ни для кого там не оставалось места. – Папа у нас практичный.
– А практичные люди не мечтают, – кивнул Саверио.
– Мечтают, просто о другом. Его мечта – сохранять за собой рабочее место, работать неделя за неделей, год за годом. Время от времени получать прибавку к зарплате. И чтобы хватало на аренду дома и можно было купить пальто, когда оно нужно ему, тебе или мне. Его мечта – обеспечить наши жизненные потребности. Он вырос в такой нищете, что для него еда, одежда, крыша над головой, даже самые простые, уже роскошь.
– Как и дети.
– О чем это ты? – удивилась Розария.
– Ма, почему у вас только один ребенок? Почему у вас не родилось больше детей?
– Я молилась: «Боже, пошли мне, что Тебе будет угодно». Он послал мне тебя, и все.
– Я хочу, чтобы у меня когда-нибудь было восемь детей.
– Целых восемь? – просияла Розария.
– Я хочу, чтобы у меня был дом, полный гомона, смеха, музыки, игр и детей. Здесь я один, и у нас слишком тихо. Хочу большой обеденный стол, за которым будут собираться все, кого я люблю. Хочу быть отцом, ответственным человеком. Но я не превращусь в такого, как он. Я буду доволен своей судьбой. Если мне достанется хорошая жена, уж я-то точно не стану ходить с унылым лицом. Я сделаю так, чтобы меня постоянно окружали люди. Хочу столько детей, чтобы мне трудно было их всех пересчитать и запомнить. Хочу быть таким, как мистер Дереа, – когда он зовет своих ребят домой, то путается, потому что не может припомнить всех имен. Хочу быть таким же озадаченным и не помнить, кто есть кто. Хочу, чтобы Рождество проходило шумно и все пели песни.
– В моем детстве дома у нас все было именно так. Только мы праздновали еще и Богоявление, после Рождества. Семья Мараско любила отмечать Рождество с толком и без спешки. Мы пели все рождественские гимны, шли на полночную мессу, а потом каждый обязательно получал что-нибудь особенное – пирог со смоквами, конфетку. На подарки нам не очень-то хватало.
– Как, у вас не было подарков? – удивился Саверио.
– У нас не было ничего, кроме друг друга.
– И этого вам хватало?
Мать ненадолго задумалась.
– Тогда я считала, что да.
– Может быть, потому Па такой несчастный. Кто знает – родись у него больше детей, он бы чувствовал себя на равных с другими мужчинам в нашей церкви. Ты же понимаешь, о чем я. Все они окружены детьми.