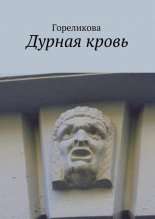Почти счастливые женщины Метлицкая Мария
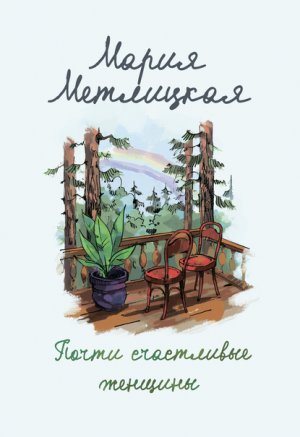
Аля растерянно и смущенно промолчала. Ей все было непонятно. Все, вся эта новая жизнь! И певица Лиля, бабушкина знакомая. Похоже, хорошая знакомая. И домработница Маша. Домработница? Кажется, домработницы есть только у очень богатых и важных людей. А бабушка Софья сама про себя говорит, что она – «обломок красивой жизни, как старые декорации, древний интерьер, антиквариат». Но она же пенсионерка и живет на пенсию? Разве можно держать работницу на пенсию и ходить в рестораны? И кажется, бабушка там завсегдатай. И портниха Стефа, обшивающая бомонд, будет собирать гардероб ей, какой-то провинциальной девчонке?
Ничего Аля не понимает, ничего. И неловко спросить. Ну и ладно, все как-нибудь встанет на свои места, она разберется.
Самое главное – ее новая бабушка, Софья Павловна Добрынина, человек не злой и невредный. И с ней, кажется, можно ужиться. Главное – что ей уже не так страшно. Так, совсем чуть-чуть, на четверть мизинца, как говорила бабушка Липа. А четверть мизинца – это вообще чепуха.
Спать не хотелось. Удивилась – так устала, такой длинный день! Но диван был жестким и неудобным, одеяло слишком тяжелым, в комнате было душновато, а окно открыть не получилось Да еще уличный фонарь светил прямо в глаза.
Аля ворочалась, вставала, ходила на кухню попить, заглядывала в гостиную, в ванную и туалет, немного посидела на кухне. В трубах журчала вода, и, подрагивая, гудел холодильник. «Странно все, – думала Аля. – Холодильник такой древний, даже у них на Лесной был современнее. И плита ужасная, ободранная и совсем старая. Как будто кухня Софью Павловну совсем не интересует. А в гостиной и в спальне красота».
Все здесь чужое. Все. И вряд ли станет родным. Или она не права?
А назавтра закрутили дела. Софья Павловна развела бурную деятельность «по внедрению Алевтины в столичную жизнь». С самого утра она сидела на телефоне, давала указания, говорила елейным, просящим голосом, острила, переходила на трагический шепот, громко смеялась и тяжело выдыхала, закончив разговор.
В полдень появилась Маша, помощница и бывшая «домоправительница». Как позже поняла Аля, постоянная Машина служба давно закончилась, приходила она нечасто, раз-два в неделю, как сама говорила, «по надобности».
– А как ее, Софью, бросить? – хмурилась Маша. – С голоду вспухнет! Ведь все по ресторанам, по ресторанам привыкшая! А на что теперь рестораны? А? Вот и я говорю – хорошая-то жизнь давно кончилась. А она все никак не может смириться, – с осуждением говорила она.
В Машины обязанности входила несложная, поверхностная и довольно халтурная уборка – смахивание пыли с поверхностей, возня со сто лет не стиранной половой тряпкой, от которой и без того запущенный пол не становился чище.