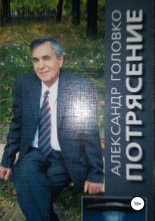Сага об угре Свенссон Патрик
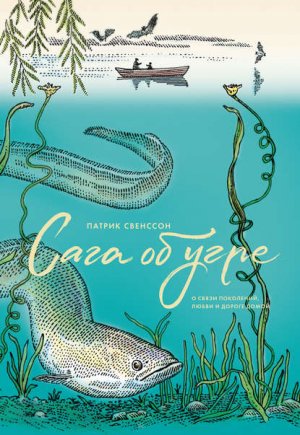
Дома у нас хранился дробовик. Он стоял в кладовке, пристегнутый к стене, — папа пользовался им исключительно редко. Несколько раз в год он уезжал на охоту с какими-то незнакомыми дяденьками. Выезжали они обычно рано утром, одетые в толстые неуклюжие куртки, с зелеными кепками на головах. Иногда он возвращался домой, неся за задние лапы зайца, окровавленного и безжизненного. Иногда — парочку фазанов. Но, похоже, это редко была его собственная добыча. Он говорил, что их подстрелил кто-то другой. Папе не нравилось стрелять в животных, стоящих неподвижно. В зайца, сидящего посреди поля в полном неведении и шевелящего ушами. В лесного голубя, воркующего на ветке дерева. Он видел их, целился, но не мог заставить себя нажать на спусковой крючок.
Тем не менее папа застрелил нашего кота. Нашего кота Оскара. Тут я точно знаю. Это был толстый, не очень общительный черно-белый кот, который днем по большей части лежал и спал на диване, но каждый вечер исчезал и появлялся только под утро. С годами он стал старым, больным и вялым и однажды утром не вернулся, — я даже не ломал голову над тем, куда он делся. Мама и папа сказали мне, что он убежал. Может быть, его сбила машина. И только много лет спустя я узнал, что его убил папа. Он застрелил нашего Оскара из своего дробовика, считая, что так будет правильнее.
Пытался он застрелить и бабушкиного кота. Тот тоже постарел и одряхлел, и папа повез его в лес, чтобы положить конец страданиям. Засунув в багажник дробовик и кота, он поехал на своей машине по узким гравийным дорожкам, пока не нашел подходящую полянку в лесу. Остановив машину, он вдруг заметил на краю поляны стайку куропаток. Нечасто удавалось подобраться к ним так близко — а заряженное ружье лежало в багажнике. Так что папа осторожно прокрался вокруг машины, одной рукой тихонько приоткрыл багажник и засунул туда другую, чтобы вытащить ружье, не выпуская наружу кота. Но в тот момент у кота — старого дряхлого кота — случился внезапный прилив энергии. Словно черная черточка, он выскользнул из узкой щели и мгновенно кинулся прочь, прямо на стайку куропаток. Кот бесследно исчез в кустах, вспугнутые куропатки улетели в другую сторону. А у машины остался стоять папа с ружьем в руке. Безответственный. Потерпевший неудачу. Этого кота он больше в глаза не видел.
Свои представления о людях и животных, о разнице между ними он, конечно же, вынес из детства. Для него это было нечто само собой разумеющееся, не нуждающееся в объяснениях. Для меня — далеко не столь однозначное.
Папа вырос на хуторе и еще в детстве помогал бороться с мышами и крысами в конюшне. Он ловил их голыми руками и убивал быстро и эффективно сильным ударом о стену. Он видел, как сворачивали шею курицам и топили котят. Видел, как дедушка резал свиней. Наблюдал, как свинью усыпляли, как перерезали горло и выпускали кровь. Научился поливать тушу кипятком, чтобы снять с нее толстую грубую щетину, и знал, как потом разрезать ее на части, превращая животное из живого существа в куски мяса.
Будучи взрослым, он продолжал помогать дедушке в этом деле и один раз взял меня с собой. Мне было тогда лет десять. Мы отправились туда рано утром, и, когда мы приехали к бабушке и дедушке, я успел разглядеть через открытые двери конюшни большое корыто с кипятком, стоящее внутри, ножи и щетки на полу, дедушку, который вывел свинью — большого и послушного хряка. Я был взбудоражен и немного напуган; вероятно, папа это заметил, потому что, когда пора было зайти внутрь и взяться за дело, он обернулся ко мне и произнес: «Нет, знаешь что, пойди-ка ты лучше к бабушке».
В его голосе звучали серьезные нотки, заставшие меня врасплох; я успел ощутить укол от унижения и разочарования. Но когда он вошел в конюшню и закрыл за собой дверь, оставив меня одного посреди двора, я испытал колоссальное облегчение.
Несколько дней спустя мы пошли ранним утром к реке вытаскивать удочки. Еще стояло лето, было жарко, а высокая трава высохла и тихонько шуршала. Большие толстые стрекозы мелькали над нашими головами, а река стекала по порогу необычно спокойно и лениво. Я стоял на склоне чуть в стороне от ивы, папа — в нескольких метрах от меня, и мы с ним увидели, что нейлоновая леска натянулась, словно струна. Положив на нее пальцы, я сразу ощутил, что она словно бы вибрирует; тогда я взял ее в руки и ощутил знакомое пульсирующее сопротивление.
— Там угорь, — громко сказал я.
Нам попался довольно большой угорь, с темно-коричневой спиной и блестящим светлым брюшком; я крепко держал его за головой и видел, как леска уходит внутрь крепко сжатой пасти. Он обвивался вокруг моей руки, как затягивающаяся веревка, до самого локтя, а когда он внезапно ослабил хватку и дернулся, его хвост хлестнул меня прямо по лицу. Густая слизь прилипла к моей щеке. Запах угря, давних времен и несоленого моря.
Неуклюжими пальцами я наконец открыл пасть угрю и увидел, что леска исчезает далеко в глотке. Крючок сидел глубоко — даже петли не было видно. Некоторое время я возился с леской, тянул ее, пытаясь забраться пальцами в пасть угрю, чтобы схватить крючок, но тут послышался мягкий и мокрый звук, и из пасти угря полилась кровь.
— Он проглотил крючок, — сказал я. — Можешь с ним разобраться?
Папа наклонился вперед и посмотрел на угря.
— Дружочек мой, — сказал он, — ты так глубоко его заглотил? Зачем же ты это сделал?
Потом он выпрямился и снова взглянул на меня.
— Нет, разберись с ним сам. Ты справишься.
Жизнь под водой
Какие бы противоречивые чувства ни вызывал угорь при ближнем контакте, в своей природной среде он производит вполне умиротворяющее впечатление. Он ничего из себя не изображает. Не устраивает драматических сцен. Он питается тем, что ему предлагается. Таится на дне, не требуя ни внимания, ни похвалы.
Угорь совсем не похож, например, на лосося, который сияет и мерцает чешуей, совершая свои головокружительные прыжки в воздухе. Лосось, как мне кажется, рыба эгоцентричная и тщеславная. Угорь куда скромнее. Он не выпячивает себя, не создает шума.
Если присмотреться поближе, угорь — прямая противоположность лососю. И угорь, и лосось — мигрирующие рыбы, оба живут как в соленой, так и в пресной воде, оба проходят несколько метаморфоз, однако их жизненные циклы отличаются по самым главным показателям.
Лосось относится к так называемым анадромным рыбам. Он нерестится в пресной воде, а его потомки через год-два спускаются в моря, где они вырастают и проводят большую часть своей жизни. Еще через несколько лет (по части терпения ему с угрем не сравниться) половозрелый лосось вновь поднимается в пресноводные водоемы, где и нерестится.
Угорь, со своей стороны, совершает аналогичное путешествие, но в обратном направлении. Он относится к катадромным рыбам, которые проводят жизнь в пресных водоемах, но нерестятся в соленой воде.
Отличает их друг от друга и еще одна, менее заметная деталь. Когда лосось поднимается вверх по рекам, то всегда стремится к тому водоему, в котором нерестились его родители. Таким образом, каждый лосось в самом буквальном смысле слова следует по пути своих предков. Каким-то образом ему известно, что он должен вернуться именно туда. Пожив в открытом море свободно и легкомысленно, он со временем всегда возвращается туда, откуда произошел, и присоединяется к заранее определенной группе. А это означает, что, по всей видимости, существуют генетические различия между лососями, живущими в разных водоемах. Лосось, так сказать, биологически привязан к месту своего происхождения. Он не позволяет себе никаких экзистенциальных отклонений.
Разумеется, угорь тоже возвращается к своим истокам — в Саргассово море, однако в этом огромном море он встречается с угрями со всей Европы и размножается без всякого учета того, кто откуда родом. Происхождение для угря — не семья и не биологическая принадлежность, а лишь место. А когда крошечный «ивовый листочек» полетит к берегам Европы и превратится в стеклянного угря, то поднимется вверх по течению любого подходящего водоема. То, где он проводит свою взрослую жизнь, похоже, не имеет никакой связи с предыдущим поколением, и почему угорь выбирает ту или иную реку, так и остается загадкой. Это означает, что генетические различия между угрями в разных водоемах Европы должны быть минимальными. Каждый угорь сам ищет свое место в мире — лишенный корней, экзистенциально одинокий.
Возможно, это судьба, в которой человеку легче узнать себя, чем в заранее запрограммированном, лишенном самостоятельности жизненном цикле лосося. И вероятно, именно поэтому угорь с его загадочностью и недоступностью продолжает волновать воображение. Человеку легче узнать себя в том, кто тоже носит в себе тайны, про кого не так-то просто сказать, кто он и откуда пришел. Скрытность угря напоминает о тайниках человеческой души. А в одиночку искать свое место в мире — в конечном счете самый универсальный человеческий опыт.
Само собой, я сейчас очеловечиваю угря, превращая его в нечто большее, чем он есть, и это может показаться весьма сомнительным занятием. Это называется «антропоморфизм» — попытка приписать нечеловеческим существам человеческие качества или состояния. В литературе это достаточно распространенный прием; существуют сказки и басни о животных, которые думают, говорят и чувствуют, как человек, руководствуются моралью и поступают в соответствии со своими принципами. Встречается такое и в религии. Божественным существам придавались человеческие черты, чтобы сделать их понятными. Асы были богами в человеческом облике. Иисус был Сыном Божьим и при этом человеком. Только таким образом Он мог стать связующим звеном между мирским и Божественным, Спасителем всех людей. По сути, речь идет об идентификации, умении увидеть нечто знакомое в чуждом, чтобы тем самым понять его и приблизиться к нему. Рисуя портрет, художник всегда изображает частичку самого себя.
Однако в естественных науках антропоморфизм никогда не был до конца принят. Естественные науки претендуют на объективность — на истину, которую можно увидеть под микроскопом. Они пытаются описывать мир, какой он есть, а не каким кажется. Угорь не человек, и его нельзя познать, сравнивая с человеком. Тот, кто применяет объективный и эмпирический подход, не станет говорить о животном подобным образом. Человеческое восприятие мира свойственно лишь человеку.
Но когда Рейчел Карсон написала об угре, она поступила именно так: одушевила его. В ее описании угорь стал осознающим и чувствующим существом, способным помнить и рассуждать, которое могло страдать от заданных алгоритмов своей жизни или наслаждаться тем хорошим, что жизнь ему все же даровала. У автора были на то веские причины. Если уж подводить итоги истории науки, Рейчел Карсон — одна из тех людей, кто внес самый большой вклад в понимание не только угря, но и всего огромного всемирного круговорота, частью которого угорь неизбежно является.
Рейчел Карсон была одним из самых известных и влиятельных морских биологов ХХ века, крупнейшим экспертом по океану и его обитателям, автором нескольких новаторских книг о подводной жизни, а со временем стала первопроходцем и символом экологического движения. Она во многих отношениях выдающийся человек.
Родилась она в мае 1907 года и выросла на крошечном хуторе Спрингдейл в Пенсильвании, в нескольких сотнях метров от величественной реки Аллегейни, огибавшей поселок. Именно здесь уже в первые годы жизни у нее развился интерес к животным и природе. С раннего возраста она полюбила леса и заливные луга, птиц и рыб. Но более всего ее очаровывала река и все, что таилось в ее глубинах, все те формы жизни, которые вода несла по излучинам от самого океана, омывавшего восточное побережье.
Разумеется, никто не мог знать заранее, кем она станет. Ее отец был коммивояжером, а мать — домохозяйкой. Семья с трудом сводила концы с концами, и об академической карьере речи быть не могло. Однако мать, сама отказавшаяся из-за замужества от карьеры педагога, всячески поощряла интерес дочери к природе. Она брала с собой Рейчел в долгие прогулки, во время которых они изучали растения, насекомых и птиц. Мать учила Рейчел наблюдать и обращать внимание на детали, к тому же внушила ей глубокое уважение к разнообразию жизни. Едва научившись читать и писать, Рейчел Карсон начала создавать собственные книжки и рисовать к ним иллюстрации. Это были насыщенные фактической информацией рассказы о мышах, лягушках, совах и рыбах. Говорят, она была замкнутым ребенком, у нее не было близких друзей, но наедине с природой она никогда не чувствовала себя одинокой. Именно мир природы она изучила лучше, чем какой-либо другой.
Со временем, несмотря на все трудности, она все же попала в университет, куда поступила в возрасте восемнадцати лет, сдав выпускные экзамены лучше всех в своем классе. Ее мать продала семейный фарфор, чтобы оплатить университетский взнос. Поначалу Рейчел Карсон изучала историю, социологию, английский и французский, но уже в первой своей студенческой работе призналась, в чем состоит ее самый большой интерес: «Я люблю в природе все прекрасное, а дикие существа — мои друзья». Два года спустя, когда ей уже исполнилось двадцать, она осознала исключительно важную вещь. Сама она описывала это как своего рода открытие: в один прекрасный день она внезапно поняла, что хочет посвятить свою жизнь морю. Именно на него направить всё свое любопытство и академические таланты. Позднее она писала: «Я поняла, что мой путь ведет меня к океану, которого я на тот момент даже не видела. Каким-то образом моя судьба была связана с океаном».
Что привлекло Рейчел Карсон в подводном мире? На первый взгляд, выбор может показаться абсурдным. Выросшая в глубине материка, она никогда даже не видела моря собственными глазами, не опускала стопы в воду, не прислушивалась к биению волн о берег. Тем не менее такой поворот теперь казался неизбежным. Словно она шла на запах по огромной реке — против течения, всю дорогу до самого истока — к океану, который и есть исток всего. Именно это она осознала. Все мы изначально вышли из моря, и потому тот, кто хочет разобраться в происхождении жизни на Земле, в первую очередь должен понять море. Много позже, в книге 1951 года, которая так и будет называться — «Море вокруг нас», она объяснит это открытие в своей удивительной манере, отличающей ее от всех остальных морских биологов, одновременно и научно, и поэтично:
«Животные, покинувшие море и начавшие жить на суше, взяли море с собой в своих телах — наследие, которое они передали своим потомкам и которое по сей день связывает сухопутных животных с их происхождением из Мирового океана. Рыбы, амфибии, рептилии, теплокровные птицы и млекопитающие — все мы носим в своих сосудах раствор соли, в котором такие вещества, как натрий, калий и кальций, растворены почти в такой же пропорции, как в морской воде. Это наше наследие с тех времен, когда тысячи миллионов лет назад наши дальние предки развились из одноклеточных существ в многоклеточные, выработав систему внутренней циркуляции, по которой поначалу текла лишь морская вода».
Так все мы возникли из воды, из нашего собственного загадочного Саргассова моря. «И как всякая жизнь изначально зародилась в океане, так и каждый из нас начинает свою жизнь в миниатюрном океане, каким являются околоплодные воды в матке».
Осенью 1932 года Рейчел Карсон стала докторантом по морской биологии, а в углу лаборатории у нее стоял аквариум с угрями. Ей хотелось изучить, как отреагирует угорь, если менять содержание соли в воде. Она стремилась понять, как он справляется со столь кардинальными изменениями, происходящими с ним в течение жизни, как подчиняется своей судьбе — долгой миграции и загадочным метаморфозам. Научную работу ей закончить не удалось, но угорь запал ей в душу. Она часто показывала друзьям угрей в аквариуме, рассказывая об их загадочном жизненном цикле и долгом путешествии в Саргассово море. Она не забудет свой интерес к угрю и через некоторое время вернется к его изучению.
Мечты об академической карьере разбились о суровую реальность: в июле 1935 года умер отец Рейчел Карсон, и ей пришлось взять на себя материальные заботы о матери и старшей сестре. Продолжать научную работу в лаборатории за скромную зарплату теперь не представлялось возможным. Притязания и желание самореализации оказались на втором месте, на первое вышли долг и привязанность к семье. Однако благодаря своим университетским связям она нашла возможность заняться тем, что наряду с животными и природой с детства являлось ее главным интересом, — писательским трудом. Она начала писать сценарии к серии радиопередач о жизни в море. В пятидесяти двух отрывках, по семь минут каждый, она рассказывала о различных видах морских животных; ее повествование было корректным с научной точки зрения и при этом увлекательным. Заказчик — американское Бюро рыболовства — остался так доволен результатом, что ей тут же дали новое задание: написать предисловие к брошюре о жизни в море. Она создала текст, который назвала «Мир вод», — рассказ о многообразии морской жизни, обо всех существах, прячущихся под блестящей поверхностью воды, которые проживают под водой всю свою жизнь, охотятся за другими или ускользают от тех, кто за ними охотится, рождаются, размножаются и умирают. Текст базировался на ее академических знаниях по биологии моря, однако это было нечто большее — образное, прочувствованное повествование. Прочтя ее текст, заказчик решил, что он не вписывается в стиль ведомственной информационной брошюры. Получилось нечто иное, чем то, что они себе представляли. Это настоящая литература.
— Боюсь, мы не сможем это использовать, — сказал представитель ведомства. — Однако пошлите его в The Atlantic Monthly.
Благодаря этому случаю Рейчел Карсон и стала писателем, но, несмотря ни на что, ее дорога привела к морю — началу начал, и вся ее жизнь и работа были посвящены тому, чтобы изучить и понять это начало.
В 1941 году вышла первая книга Рейчел Карсон. Она называлась «Под морским ветром» и, по сути, строилась на той статье о море, которая действительно была опубликована в престижном журнале The Atlantic Monthly. Ей хотелось рассказать о море как об огромной и многогранной стихии, описать хотя бы часть того, что происходит в его глубинах, за пределами человеческого глаза и знания. Своим рассказом она хотела также показать нечто куда большее и универсальное: как все взаимосвязано. В письме издательству она объясняет: «Я хочу сказать, что эти рассказы не только призывают на помощь воображение — они позволяют лучше увидеть проблемы человека. Они повествуют о том, что происходило бесчисленные тысячи лет. Они вечны, как солнце и дождь, как само море. Настойчивая борьба за выживание в море отражает борьбу за жизнь на земле, как человеческую, так и не человеческую».
Для этого она использовала прием, весьма оригинальный и необычный для морского биолога, — антропоморфизм, стилистический прием сказки и басни. Первая часть книги описывает жизнь у берегов моря, вторая посвящена открытому морю, а третья — тому, что происходит в морских глубинах. В центре каждой части оказывается одно животное. В первой мы встречаем морскую птицу — так называемого американского водореза, живущего у края моря. Он охотится за мелкой рыбешкой, перемещается в зависимости от времени года и прилива, всю жизнь оставаясь идеально приспособленной частью куда более комплексного и сложного целого. Птица имеет не только свою историю и личность, но даже имя — Ринхопс, по латинскому названию вида, и в процессе повествования она встречается со множеством других животных, обитающих в специфической прибрежной среде: с цаплями, черепахами, креветками, сельдями и крачками. Между тем человек фигурирует лишь на заднем плане, как отдаленный чужак.
Во второй части мы следим за жизнью макрели по имени Скомбер, которая плывет в своем гигантском косяке в открытом море, окруженная чайками, акулами и китами, однако реальная опасность начинает угрожать ей лишь тогда, когда безликие люди забрасывают на глубину свой трал.
В третьей и последней части книги мы встречаемся с угрем. Ясное дело, более яркого представителя загадочных морских глубин Рейчел Карсон и не нашла бы. В письме издательству она поясняет: «Я знаю, что многие содрогаются при виде угря. Но для меня (и, думаю, для всех, кто знаком с его историей) встреча с угрем — все равно что встреча с человеком, объездившим самые красивые и отдаленные уголки Земли; на мгновение передо мной встают живые картины тех странных мест, в которых побывал угорь и которые мне, человеку, недоступны».
Рассказ об угре начинается в маленьком озере под названием Биттерн-Понд у подножья большого холма. Озеро, окруженное камышом, рогозом и водными гиацинтами, расположено в трехстах километрах от моря, в него впадают лишь два небольших ручейка. Там нам представляют животное, о котором пойдет речь: «Каждую весну вверх по заросшему травой, пересыхающему руслу в Биттерн-Понд поднимается множество крошечных существ. Устроены они очень странно: узкие стеклянные палочки для мороженого, короче пальца. Это молодняк угря, рожденный в океане».
Затем Рейчел Карсон представляет нам самку угря десяти лет от роду, которую она называет Ангвилла. Всю свою жизнь Ангвилла прожила в маленьком озере — с тех пор, как попала сюда в образе стеклянного угря. Днем она пряталась в тростнике, а по ночам отправлялась на охоту — «ибо, как все угри, любила темноту». Зиму она перезимовывала, зарывшись в мягкий и теплый ил на дне, — «ибо, как все угри, любила тепло». Ангвилла — существо, которое чувствует и переживает, помнит свое прошлое, страдает и любит. Постепенно ею овладевает тоска. Когда приходит осень, с Ангвиллой что-то не так, как обычно. Она тоскует по другим местам — смутно и безотчетно. И однажды темной ночью она отправляется к реке, вытекающей из озера, пробирается по речкам и ручейкам — все долгие триста километров до открытого моря. Мы следуем за ней в ее путешествии по океану, когда она обходит все препятствия и западни на пути к манящему Саргассову морю. Далее — в глубину, в пропасть, которая является «древним ложем океана», далеко вниз, где вода течет «холодно и неумолимо, как само время».
И когда Ангвилла и все прочие старые угри исчезают — из поля нашего зрения и сфер нашего знания, — мы видим прозрачные и невесомые «ивовые листочки», следующие в обратном направлении, — «единственное завещание родителей-угрей», — плывущие по течению в своем долгом пути через океан, в сторону континента и той земли, «которая сама когда-то была морем».
Книга «Под морским ветром» появилась на полках американских книжных магазинов в ноябре 1941 года. Само собой, момент на редкость неудачный. Месяц спустя мировые дела смешали все карты: Япония напала на Пёрл-Харбор. США вступили в войну, и интерес к сказочным рассказам об угрях, макрелях и американских водорезах упал до нуля. Было продано не более двух тысяч экземпляров, и о книге вскоре забыли.
Однако со временем она вернется из забвения, будет вновь опубликована, ее будут читать и полюбят новые поколения. В первую очередь потому, что в ней жизнь в море описывается красиво и сказочно, образно и литературно, при этом совершенно на научной основе. Очеловечивание животных, на которое пошла Рейчел Карсон, было намеренным и весьма продуманным методом. Используя сказочные приемы, она, однако, не преступала границы науки. У нее угорь не говорит и не действует каким-то экстравагантным способом. Она просто пыталась вдуматься в то, как выглядит реальная жизнь угря, как он воспринимает выпавшие ему испытания, миграцию и метаморфозы в том странном жизненном цикле, который она описала с предельной научной точностью. В предисловии к первому изданию она поясняла: «Я говорю о рыбе, которая „боится“ своего врага, не потому, что думаю, будто рыбы испытывают страх так же, как мы, — но я думаю, что рыба ведет себя так, словно она боится. У рыбы доминирует реакция физиологическая, у нас — психологическая. Но для того чтобы поведение рыбы стало нам понятно, мы должны описывать его словами, применяемыми для психологического состояния человека».
Таким образом, поведение угря впервые стало для нас понятным — во всяком случае, куда понятнее, чем раньше. Рейчел Карсон — и это делает ее уникальной в истории естественных наук — открыла одно правило: чтобы понять другое существо, нужно увидеть в нем частичку себя. Она идентифицировала себя с животными, и эта идентификация давала ей способность и мужество очеловечивать их. Она сделала нечто запретное в традиционной естественной науке: придала угрю сознание, вселила в него почти человеческую душу, тем самым приблизившись к нему. Она сделала так не потому, что верила в наличие у угря сознания, а для того, чтобы помочь нам понять, каким уникальным и сложным существом является угорь. Угорь у нее остается угрем, однако мы в каком-то смысле можем узнать в нем себя. Угорь по-прежнему загадка, но не совсем непостижимая.
Что отличает человека от угря? Принято считать, что человек осознает свое существование, а за этим осознанием следует воля изменить свое бытие. Во всяком случае, долгое время разница между человеком и животным воспринималась именно так.
В XVII веке Рене Декарт считал, что всех существ помимо человека следует воспринимать как «автоматы». Животные наделены телами, и их действия — не более чем механические реакции. Человек же, напротив, наделен тем, чего нет у животных, — душой. От души исходит мышление, которое само по себе является доказательством сознания. Стало быть, у человека есть сознание, поскольку у него есть душа. У животных нет души и, следовательно, нет сознания.
Благодаря душе человек приподнимался над животными, но также над течением времени и изменчивостью. Представление о душе тогда, как и в наши дни, связывали с тем, что каждый человек — индивид. Слово «индивид» означает то, что нельзя разделить, — единицу, которая остается неизменной даже тогда, когда меняется все вокруг. А поскольку человеческое тело неизбежно подвержено изменениям, как и внешние обстоятельства человеческой жизни, то должно существовать нечто иное, более устойчивое, делающее нас индивидами. Это нечто долгое время именовали душой.
Эта разница между животными и людьми, конечно же, никогда не была однозначной. Когда в 1758 году Карл Линней выпустил десятое издание постоянно дорабатываемого труда Systema Naturae (то самое издание, которое принято считать наиболее значимым, отправной точкой в создании зоологической номенклатуры), в нем содержалось несколько сенсационных изменений по сравнению с предыдущими изданиями. Помимо прочего Линней переместил китов из рыб в млекопитающие, а летучих мышей — из птиц в млекопитающие. Но главное — именно в этом издании он на время отказался от границы между человеком и животным, поместив орангутанга в тот же род — Homo, — что и человека. Это означало, что орангутанг, по мнению Линнея, являлся человеком. А мы, представители вида Homo sapiens, оказались не единственными в своем роде, то есть не так одиноки, как мы думали.
Это была научная ошибка, довольно быстро исправленная, однако она успела вызвать интересные вопросы. Если орангутанг человек, означает ли это, что у него есть душа? Осознает ли он собственное существование? И что в таком случае отличает человека и орангутанга от гориллы и шимпанзе? И если эта граница стерта, то что отличает человека от летучей мыши или угря?
Через некоторое время появился Чарльз Дарвин и отобрал у нас вечную душу раз и навсегда. Эволюционная теория не допускает идеи о неизменной душе, поскольку она говорит, что всякая жизнь и все ее части подвержены изменениям. Человек стал животным среди прочих. А затем, по мере успехов современных научных исследований, представители животного мира двигались в противоположном направлении, все больше становясь похожими на нас. Им приписывают если не душу, то по крайней мере сознание. Сегодня нам известно, что у животных бывают куда более сложные состояния сознания, чем это считалось ранее. Исследования показывают, что множество животных, в том числе рыбы, могут испытывать боль. Целый ряд фактов указывает и на то, что многие животные способны испытывать страх, который сродни человеческому переживанию страха, а также горе, материнские чувства, стыд, сожаление, благодарность и даже то, что мы могли бы назвать словом «любовь».
Кроме того, существуют животные, например приматы и врановые, которые способны решать продвинутые умственные задачи, обучаться средствам коммуникации как с родственниками по виду, так и с другими животными, могут представлять себе будущее, например отказаться от вознаграждения сейчас ради большего вознаграждения позднее. Все те критерии, которые мы за века истории выработали, чтобы отличать человека от животного: сознание, личность, использование орудий, восприятие будущего, абстрактное мышление, решение проблем, язык, игра, культура, способность испытывать горе или тоску, страх или любовь, — все эти критерии каждый по отдельности оказались по крайней мере спорными, часто — недостаточными, порой — совершенно ошибочными. Граница на самом деле в каком-то смысле стерта. Ворона, стоящая перед зеркалом, понимает, что видит в нем себя, — а это означает, что она осознает свое существование. Она знает, что она существует, — и неважно, знает ли она, кто она такая.
Так что угорь наделен сознанием — по крайней мере, какой-то формой сознания. Но осознает ли он свое существование? И что он чувствует? Какие чувства испытывает во время всех своих метаморфоз, ожидания и путешествия? Знакома ли ему скука? Нетерпение? Одиночество? Что ощущает угорь, когда приходит его последняя осень, когда тело меняется, становясь сильным и серебристым, а нечто необъяснимое влечет его в Атлантический океан? Тоску? Чувство незаконченности? Страх смерти? Каково это — быть угрем?
Рейчел Карсон очеловечила угря, чтобы мы лучше его поняли, чтобы мы, представляя себе ощущения угря, смогли понять его поведение. Но означает ли это, что мы понимаем, что испытывает сам угорь?
В последние десятилетия этот вопрос становится все более центральным. Философ Томас Нагель в 1974 году написал знаменитую статью о философии сознания, дав ей заголовок «Каково быть летучей мышью?», а его ответ на этот вопрос краток и предельно ясен: этого мы знать не можем.
Нагель считал, что всем животным свойственно сознание. Сознание — это в первую очередь состояние. Это субъективное переживание мира, рассказ органов чувств о том, что нас окружает. Однако человек не может постигнуть, что такое быть летучей мышью, или угрем, или гипотетическим существом из космоса. Наш опыт жизни именно в качестве человека ставит пределы нашей способности вжиться в иное сознание.
Вероятно, летучая мышь находится совсем в другом состоянии сознания, чем человек. Мир она воспринимает в первую очередь через эхо. Нам это известно прежде всего благодаря итальянскому ученому Ладзаро Спалланцани, который, помимо того что был тезкой мистического профессора в новелле Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек», бесплодно искал истину о размножении угря. В начале девяностых годов XVIII века Спалланцани провел серию новаторских экспериментов с летучими мышами, в результате которых, помимо прочего, констатировал, что они могут свободно летать, не сталкиваясь с препятствиями, в совершенно темной комнате. Кроме того, он изловил большое количество летучих мышей, удалил им глаза и снова выпустил на свободу. Когда ему удалось поймать нескольких слепых летучих мышей и вскрыть их, он обнаружил у них в желудке массу только что пойманных насекомых. Стало быть, летучие мыши могли охотиться и ориентироваться, вообще не используя зрение. Следовательно, констатировал Спалланцани, они используют слух.
Значит, когда летучая мышь летит в ночи над рекой, она ничего не видит, однако посылает быстрые высокочастотные звуки, отражающиеся от предметов и существ. Эхо этих звуков перерабатывается и интерпретируется летучей мышью, которая создает таким образом весьма детальную картину мира. Благодаря этой своей способности летучая мышь может молниеносно перемещаться в полной темноте среди веток дерева, не задевая их. Кроме того, она может отличать один вид ночных бабочек от другого по тому, как звук отражается от их крыльев. Все, с чем сталкивается летучая мышь, имеет свой узор из отраженного звука, и за счет этого она ощущает свое окружение. Ее картина мира — постоянный поток отраженных звуков, из этого и складывается восприятие мира летучей мышью.
Человек находится в совершенно ином состоянии сознания, и, когда мы пытаемся понять, каково это — быть летучей мышью, именно наше сознание, по мнению Нагеля, ограничивает нас.
Недостаточно пытаться представить себе, каково это — иметь крылья и плохое зрение, каково летать ночью над рекой, ловя ртом насекомых, или посылать звуковые сигналы и ловить эхо. «Как бы далеко я ни продвинулся в своих представлениях (а продвинусь я не очень далеко), — писал Нагель, — все это говорит мне лишь о том, как я чувствовал бы себя, если бы вел себя как летучая мышь. Но вопрос не в этом. Мне хочется понять, каково летучей мыши быть летучей мышью. А когда я пытаюсь себе это представить, меня ограничивают мои органы чувств».
Нагель считает, что проблема не ограничивается взаимоотношениями между человеком и животными. Как, например, слышащий человек может понять представления о мире глухого от рождения? Как зрячий может объяснить картинку человеку, который всегда был слепым?
Нагель стремился опровергнуть то, что принято называть редукционизмом, — то есть представление, что сложные понятия можно объяснить и осознать через простые. К примеру, что мы могли бы понять психическое состояние другого существа, изучая и описывая физические и химические процессы, происходящие в его мозгу. Редукционизм пытается объяснить большое через малое, исходя из того, что целостное состоит из более дробных частей, каждая из которых сама по себе может быть объяснена и понята, в результате чего целое также может стать понятным.
Однако Нагель утверждал, что этого недостаточно. Когда речь идет о сознании, нужно признать: существуют состояния сознания, неизвестные нам, которые так и останутся непознанными, даже если человек как вид будет существовать вечно. Некоторые вещи мы никогда не поймем — ни о летучей мыши, ни об угре. Мы можем выяснить, откуда они берутся, как движутся и ориентируются, мы можем узнать их почти как людей, но мы никогда не сможем в полной мере понять, каково это — быть ими.
Это логичный подход к миру — и, судя по всему, вполне корректный. И все же хочется верить, что Рейчел Карсон достигла своеобразного понимания, которое на самом деле невозможно. Не через редукционизм, не через эмпирический опыт, не через традиционные научные попытки разглядеть истину в окуляр микроскопа, а через уникальное свойство, которым, похоже, обладает лишь человек, — фантазию.
А теперь сказка. Жил-был мальчик, который поймал угря. Мальчика звали Самуэль Нильссон, и было ему восемь лет. На дворе стоял 1859 год.
Пойманного угря, который был невелик, Самуэль Нильссон выпустил в колодец на хуторе Брантевик в юго-восточной части провинции Сконе. Поверх колодца была положена тяжелая каменная плита.
Там и жил наш угорь в темноте и одиночестве, питаясь червяками и насекомыми, иногда падавшими в воду, отрезанный от мира и лишенный не только моря, неба и звезд, но и самого смысла жизни: путешествия домой, назад в Саргассово море, делающего жизненный цикл завершенным.
И угорь продолжал жить, хотя все, окружающее его, исчезло. Угорь жил, когда угри его поколения конца XIX века стали сильными и серебристыми и отправились в Саргассово море, чтобы размножиться и умереть. Он жил, когда Самуэль Нильссон стал взрослым мужчиной, состарился и умер. Он пережил и детей Самуэля Нильссона. И его внуков, и правнуков.
Угорь дожил до таких преклонных лет, что со временем прославился. Люди приезжали со всей страны, чтобы заглянуть в колодец в надежде увидеть угря. Он стал живой нитью, связывающей нас с прошлым: угорь, у которого украли жизнь, отомстил, обманув смерть. Может быть, он вообще бессмертен?
Назвать это сказкой, строго говоря, неправильно и несправедливо. Совершенно точно известно, что в колодце в Брантевике живет угорь. Живет он там, судя по всему, очень давно. Сложности возникают с той частью повествования, которая касается Самуэля Нильссона. Мы не можем точно сказать, сколько лет угорь прожил в колодце в Брантевике.
Некоторые, правда, пытались. В 2009 году телепрограмма «Среди природы» отправилась в Брантевик. Угрю на тот момент было предположительно сто пятьдесят лет, — показав факт его существования, телевизионщики хотели по крайней мере перенести его из мифологии в реальность.
Передача запечатлела одни из самых драматичных мгновений в истории шведской журналистики о природе. Телевизионщики не без труда сдвинули в сторону большую четырехугольную плиту и заглянули в колодец, который имел глубину в четыре-пять метров и был укреплен со всех сторон большими камнями. Угорь, разумеется, не показывался. Достав насос, они выкачали из колодца всю воду. Угря не было видно. Ведущий программы Мартин Эмтенэс спустился в колодец и стал ощупывать руками щели между камнями, пока вода потихоньку снова заполняла колодец. Никакого угря.
Они уже собирались положить на место каменную плиту и уйти ни с чем, как вдруг заметили на самом дне движение, и Мартин Эмтенэс снова спустился в колодец, чтобы посмотреть, что это такое.
Угорь — тот мистический угорь из Брантевика, которого им в конце концов удалось выловить, — оказался очень странным существом. Он был маленький, всего пятьдесят с половиной сантиметров в длину, но с гигантскими глазами. Если все остальное в его образе ужалось, приспосабливаясь к жизни в тесном темном колодце, то глаза выросли в несколько раз больше, чем у обычного угря. Словно он пытался компенсировать отсутствие света. Когда он извивался в траве возле колодца, то казался пришельцем из другого мира — так трагически отмеченный жизнью во тьме и одиночестве, такой странный и непохожий среди нас.
— Вполне вероятно, что миф об угре из Брантевика на самом деле правда, — сказал потом ведущий программы Мартин Эмтенэс. — Возможно, ему и вправду сто пятьдесят лет.
После полуторавековой жизни в таких условиях показалось слишком большой дерзостью нарушить тот порядок, который помогал угрю в течение стольких лет обманывать смерть. Измерив и обследовав угря, телевизионщики просто отпустили его обратно в колодец, в темноту, где он, похоже, вознамерился пережить всех нас.
Угорь из Брантевика продолжал жить еще какое-то время, но под конец все же сдался. В августе 2014 года владелец колодца обнаружил, что угорь мертв. К этому моменту — если мы решим поверить всем преданиям — ему было сто пятьдесят пять лет. Останки были направлены в Лабораторию по изучению пресноводных в Стокгольме, где надеялись сосчитать годовые кольца на отолите — своего рода слуховом кристалле во внутреннем ухе, дабы раз и навсегда определить возраст угря.
Однако отолит так и не обнаружили — возможно, крошечный кристалл исчез, когда тело подверглось разложению. Весь ил со дна колодца выкачали и просеяли через сито, но отолит бесследно пропал. Каким-то образом угорь, который уже не мог обмануть смерть, все же в последний раз перехитрил человека.
Независимо от того, насколько правдива история об угре из Брантевика, факт остается фактом: угорь может доживать до очень преклонных лет. Самый старый угорь, возраст которого почти доподлинно известен, был пойман в Хельсингборге в 1863 году двенадцатилетним мальчиком по имени Фриц Нецлер. Угрю было тогда года два от роду, он был маленький и тоненький, длиной менее сорока сантиметров. Он только что прибыл после долгого путешествия из Саргассова моря. Преобразившись из стеклянного угря в желтого, он вошел в пролив Эресунн, а далее в ручей Хэльсубеккен, который в те времена протекал прямо через парк в центре Хельсингборга. Там, едва он проделал путь в пару сотен метров, его поймал Фриц Нецлер. Фриц дал угрю кличку Пютте и держал его в небольшом аквариуме в своей квартире в Хельсингборге. Там угорь становился старше, но не рос в длину. Годы шли, а угорь оставался в своем юном состоянии — тоненький, длиной менее сорока сантиметров.
Когда Пютте было около двадцати лет, умер отец Фрица Нецлера, которого тоже звали Фриц и который был в этом городе врачом. На какое-то время угорь и его хозяин расстались. Пютте в своем аквариуме переезжал из одной семьи в другую. Предположительно он жил какое-то время в Лунде.
В 1899 году, в возрасте около сорока лет, угорь снова вернулся к Фрицу Нецлеру — младшему, к тому времени взрослому мужчине, который, как и его отец, стал врачом. Угорь был по-прежнему тоненьким и не длиннее сорока сантиметров, а после долгих лет, проведенных в тесных аквариумах в темных квартирах, у него, как у его собрата из Брантевика, глаза стали непропорционально большими. Говорят, что Фриц кормил его с рук мясом или рыбой. А особенно охотно угорь ел маленькие кусочки телячьей печенки.
Со временем угорь, конечно же, пережил своего хозяина. Пютте было уже почти семьдесят, когда Фриц Нецлер — младший умер. Это произошло в 1929 году, и, после нескольких лет жизни у очередной семьи в городе, в 1939 году он был передан в дар музею Хельсингборга. Там Пютте в конце концов умер — судя по расчетам, в возрасте восьмидесяти восьми лет. Это произошло в 1948 году.
Сегодня чучело Пютте хранится в одном из фондов музея. В музейном каталоге можно прочесть, что этот экспонат представляет собой «угря Пютте в аквариуме с крышкой, где находится угорь в жидкости, а также камни». Ширина аквариума составляет пятьдесят сантиметров. Сам Пютте — вернее, его чучело — тридцать восемь сантиметров в длину.
Таким образом, Пютте, с большой вероятностью, дожил почти до девяноста лет, однако по человеческим меркам оставался подростком. Как и угорь из Брантевика, он не только на всю жизнь сохранил необычно маленький размер — Пютте не пережил последнего превращения в половозрелого серебристого угря. И это указывает на еще одну загадку в вопросе об угре. Откуда угрю известно, когда ему пора проходить свои метаморфозы? Как угорь узнаёт, что жизнь заканчивается и его ждет Саргассово море? Какие голоса сообщают ему, когда пора отправляться в путь?
Очевидно, что все это не случайность. Сколько бы лет ни было угрю, он, похоже, в каком-то смысле может остановить старение. Когда того требуют обстоятельства, последнее превращение отодвигается. Если угорь не на воле и не может отправиться в Саргассово море, то он не проходит последней метаморфозы, не превращается в серебристого угря и не достигает половой зрелости. Вместо этого он терпеливо ждет — десятилетие за десятилетием, — пока возможность не представится или же пока искра жизни в конце концов не угаснет. Когда все складывается не так, как хотелось бы, угорь переводит жизнь в режим ожидания, откладывает ее движение. И может ждать почти сколь угодно долго.
Когда в восьмидесятые годы XX века в рамках исследования, проводимого в Ирландии, выловили большое количество половозрелых серебристых угрей, обнаружилось, что возраст рыб, направлявшихся в Саргассово море и находившихся, таким образом, на последней стадии жизненного цикла, очень сильно различался. Самому младшему было всего лишь восемь лет, а самому старому — пятьдесят семь. Все они находились на одной и той же стадии развития, в одном и том же жизненном периоде — и при этом один был в семь раз старше другого.
Возникает вопрос: как такое существо воспринимает время?
Для человека его восприятие времени неумолимо связано со старением, а старение следует весьма предсказуемой хронологической линии. С человеком не случаются метаморфозы: мы стареем, но остаемся такими же. Само собой, состояние здоровья может быть разным, нас может постигнуть болезнь или несчастный случай, но в целом мы обычно знаем, когда ожидать новой стадии в жизни, наши биологические часы идут относительно неизменно, и нам известно, когда мы молоды и когда становимся старше.
Угорь же после каждой метаморфозы становится новым существом, и каждая стадия его жизненного цикла может сокращаться или удлиняться в зависимости от того, где и при каких обстоятельствах он находится. Его старение, похоже, привязано к чему-то иному, нежели просто время.
Ощущает ли такое существо течение времени, или же время для него — состояние? Может быть, у него просто-напросто свой отсчет времени, отличный от нашего? Океанский отсчет?
Рейчел Карсон утверждала, что в океане, на самой глубине, где угорь размножается и умирает, время течет по-другому. Там время в каком-то смысле уже сыграло свою роль и больше не имеет значения для ощущения реальности. Там нет тех мерок, которыми мы обычно измеряем время. Там нет смены дня и ночи, нет времен года и все происходит в своем ритме. В своей книге «Под морским ветром» она писала о пропасти под Саргассовым морем, где «изменения происходят медленно, где годы проходят бессмысленно, где времена года не имеют значения». А в книге «Море вокруг нас» она писала о том, что такое плыть в открытом океане в звездную ночь, смотреть на далекий горизонт и понимать, что время и пространство безграничны: «Как никогда на суше, здесь понимаешь, насколько это верно, насколько наш мир — это мир воды, планета, на которой доминирует покрытие из Мирового океана, из которого континенты высовываются на более краткое или более долгое время, чтобы потом снова исчезнуть».
Самые древние существа, известные человеку, рождены в море. Двустворчатому моллюску Мину, так называемому исландскому моллюску, выловленному у берегов Исландии в 2006 году, оказалось не менее пятисот семи лет. Ученые рассчитали, что он родился в 1499 году, через несколько лет после того, как Колумб открыл Америку, в те времена, когда в Китае правила династия Мин. Кто знает, сколько бы еще прожил моллюск, если бы ученые в своем желании узнать его возраст случайно не прикончили его? В Тихом океане, к востоку от Китая, обитают шестилучевые, или стеклянные, губки, которые, как выяснилось, могут жить более тысячи ста лет. На океанском дне, где вращение Земли и восходы-закаты солнца не могут повлиять на течение жизни, старение подчиняется другим законам. Если и существует нечто вечное или почти вечное, то искать его надо в океане.
Нет, угорь не бессмертен — но почти бессмертен, и если уж мы позволяем себе немного его очеловечивать, то следует задуматься над тем, как он выдерживает все это ожидание. Большинство людей сказали бы, что это самое трудное испытание. Отсутствие событий и ожидание тяжелее всего переносить: время течет особенно медленно, когда нам скучно. Мы содрогаемся при мысли о том, чтобы провести сто пятьдесят лет в темном колодце, в одиночестве, практически без всяких впечатлений. Когда время не разбавлено событиями или переживаниями, оно становится монстром, почти невыносимым мучением.
Сто пятьдесят лет в одиночестве и темноте я представляю как одну бесконечную ночь, проведенную в бессоннице. Из тех бессонных ночей, когда физически ощущаешь каждую секунду — как она медленно и обстоятельно ложится на предыдущую, словно бесконечная мозаика. Пытаюсь представить себе нетерпение в такую ночь, когда настолько остро ощущаешь время и вместе с тем никак не можешь на него повлиять.
Судя по всему, угорь воспринимает все это совсем по-другому. Животное не страдает от скуки так, как человек. У него нет конкретного представления о времени — секундах, складывающихся в минуты, которые сливаются в годы и из которых состоит вся жизнь. Вероятно, угря не охватывает нетерпение от того, что ничего не происходит.
Однако существует нетерпение иного рода, которое появляется, когда что-то осталось незавершенным. Нетерпение, когда нам мешают сделать то, что мы намерены сделать.
Такие мысли приходят мне в голову, когда я думаю об угре из Брантевика. Хоть он и дожил до ста пятидесяти пяти лет, хотя ему и удавалось так долго откладывать смерть, времени все равно не хватило, чтобы совершить свое предначертанное путешествие и обрести смысл своего существования. Он перешел все границы, пережил всех вокруг, растянув это долгое и безнадежное существование — от зарождения до угасания — на полтора века. Однако до Саргассова моря он так никогда и не добрался. Обстоятельства заставили его остаться в вечном ожидании своего часа.
Из всего этого мы можем сделать вывод, что время — ненадежный компаньон, и, как бы медленно ни текли секунды, жизнь проносится мгновенно: ты рождаешься и несешь в себе свое наследие, делаешь все возможное, чтобы освободиться от предначертанного, и, вероятно, тебе это даже удается, но в какой-то момент ты обнаруживаешь, что придется проделать весь путь туда, откуда ты появился, а если не успеешь, то нечто важное так и останется незавершенным, — и вот ты стоишь, пораженный этим внезапным озарением, и чувствуешь себя так, словно прожил всю жизнь в темном колодце, так и не поняв, кто ты на самом деле, — и в один прекрасный день выяснится, что уже поздно.
Как ставить вентерь
Мы жили в отдельном доме из белого кирпича: мама, папа, старшая сестра, младшая сестра и я. У нас были гараж, газон, фруктовые деревья и теплица, где мама с папой выращивали помидоры. У нас были отдельные комнаты и ванная с ванной, довольно большая кухня и гостиная с картинами на стенах, в которой никого никогда не было. У нас была телевизионная комната с большим диваном. У нас был подвал с прачечной и котельной. Еще у нас был огород, где росли картошка, морковь и клубника; был и компост, где всегда можно накопать червяков. У нас были теннисный стол, ткацкий станок и запасная морозилка, самогонный аппарат, который примерно раз в два месяца стоял в душевой кабине и пыхтел, распространяя по дому резкий запах солода. Во дворе росли яблоня и сливовое дерево, стоявшие идеально в линию, так что их можно было использовать как футбольные ворота. Еще у нас была песочница и беседка с пластиковой крышей, где во время дождя грохотало не хуже пулеметной очереди. Мы жили на улице, где все дома были построены одновременно. Нашими соседями были мясники, крестьяне, разводившие свиней, завхозы и водители грузовиков, и у всех было полно детей. Мы были как все — самыми что ни на есть обычными. Это было нашей единственной характерной чертой.
Еще в довольно раннем возрасте я осознал, что та жизнь, которую папа с мамой организовали для себя и нас, вовсе не была дана изначально. Оба они приехали из других мест и оказались здесь потому, что такие, как они, попали в волну, за три десятилетия перевернувшую всё. Они не поднялись до уровня высших классов. Весь класс, к которому они принадлежали, приподнялся. Три десятилетия социальных реформ перенесли рабочий класс — во всяком случае, часть рабочего класса — из батрацких домиков без земли и тесных квартирок в собственные дома с гаражом, машиной, фруктовыми деревьями и теплицами. Это был удивительный процесс, напоминавший морское течение.
Мой папа родился летом 1947 года. Его маме, моей бабушке, тогда было двадцать, и она уже отработала более шести лет. Отходив семь лет в школу, она прошла конфирмацию и затем, в четырнадцать лет, пошла работать прислугой. Утром на следующий день после конфирмации она села на велосипед и поехала на свою первую работу. Велосипед она купила в рассрочку за десять крон в месяц. Зарабатывала она пятнадцать.
Жила она с родителями и пятью братьями и сестрами. Родители были статарями — сельскохозяйственными рабочими, которых нанимали по контракту и оплачивали их труд натурой. Это была чуть приукрашенная разновидность крепостного права. Они жили в статарском домике. Три комнаты: кухня, спальня, где спали ввосьмером — по двое в каждой кровати, — и праздничная комната, куда по обычным дням никто не допускался. Туалет на улице, дровяная печь и окна, из которых сквозило. Отец, который бил своих домочадцев. Это были люди, ничего не имевшие, и, хотя систему в 1945 году отменили, они еще немало лет жили и работали примерно в тех же условиях. Статари знали свое место. Их дети — тоже.
Бабушка была красива простой народной красотой, часто улыбалась, у нее были робкие глаза с легким налетом тоски. В подростковые годы она успела поработать прислугой в десятке разных домов. Мыла посуду, вытирала пыль — с семи утра до семи вечера. Выходной в воскресенье плюс один вечер в неделю. Она спала одна в комнатке для прислуги, и ей там ужасно не нравилось — не нравилось быть прислугой, не нравилось быть чужой в доме других людей, не нравилось, что ее ругают, презирают, не нравилось ее подчиненное положение. Она все время тосковала по дому — по сестрам, братьям и детству.
Когда должен был родиться мой папа, она снова вернулась домой, а осенью того же года устроилась на работу в городе на резиновую фабрику. Работа на фабрике нравилась ей больше, чем роль служанки, однако тяжело было одной растить малыша. Получив два месяца отпуска в связи с рождением ребенка, она вынуждена была вскоре пойти работать, оставив моего папу на попечение родителей и младших сестер.
Ему исполнилось семь лет, когда они — папа и бабушка — переехали в новый дом, на хутор у реки, который я называю дедушкиным хутором.
Это было пасторское имение, которое церковь сдавала в аренду, со свинарником и полями, с огромным цветущим садом, которым занималась бабушка. Папе с самого начала пришлось учиться помогать по хозяйству, но ему нравился бокс и стрельба из рогатки. Он бегал через поле к реке и научился плавать, переплывая бурное течение над порогом. В школе его интересовали история и естественные науки, однако школу он вскоре бросил. Начал работать, возя свиней на мясобойню. Прошел армию, познакомился с мамой, устроился на работу по укладке асфальта — да так и остался на ней до конца.
Пока мой папа рос, в Швеции ввели детские пособия, социальные пособия и пенсию за выслугу лет. Появилось индивидуальное налогообложение. Развивались здравоохранение и родовспоможение, появлялись детские сады и дома престарелых. Происходило перераспределение ресурсов. Две недели отпуска превратились в четыре. Большая часть ответственности за социальное обеспечение граждан теперь лежала не на семье или клане, а на государстве. Все это дало возможность дорожному рабочему и няне — моим папе и маме — зажить так, как рабочие в прежние времена и не мечтали.
Разумеется, перемены в жизни мамы и папы не произошли сами собой. Однако в них не было ничего случайного. Мощные силы пришли в движение. Мои родители были как прозрачные «ивовые листочки», влекомые морским течением. Они переплыли целый океан, не двигаясь с места.
Папе было двадцать, а маме семнадцать, когда они родили мою старшую сестру. Несколько лет спустя они взяли кредит в банке и построили собственный дом из белого кирпича.
Там, на газоне перед домом, папа выложил однажды вечером длинный и странный предмет из металлических колец и сетки.
— Это вентерь для ловли угря, — сказал папа. — Я его купил.
Не знаю, у кого он его купил, — во всяком случае, он точно был не новый, в сетке виднелось несколько дыр, которые мы починили с помощью суровой нити, однако выглядел он все равно очень мощно. Длиной в четыре-пять метров, он был широкий с одной стороны и сужался с другой, а у входа имелись два клапана из сетки, благодаря которым его можно было растянуть до трех метров. Я представил себе, как он лежит на дне реки, захватывая все, что несет течение. Он будет битком набит рыбой. Это вам не то что ставить удочки или делать клубок из червей. Тут менялась вся иерархия. С такой рыболовной снастью мы станем не просто случайными гостями у реки с ее непрекращающимся циклом жизни и событий — мы станем почти всемогущими. Казалось, теперь мы сможем вмешаться в сам природный порядок.
Мы поужинали, папа засунул за губу понюшку табаку, и мы сели в машину, чтобы отправиться к реке, пока не стемнело. Съехав со склона по широкой колее, мы остановились у ивы. До этого несколько дней подряд шел дождь, и река поднялась, став на пару метров шире, чем обычно. В некоторых местах она разлилась, образовав небольшие заливы со стоячей водой, из которой торчали одинокие травинки.
Возле ивы покачивалась на волнах привязанная лодка, натягивая цепь, как пойманное животное. Некоторое время папа стоял молча, разглядывая мутную воду, которая неслась мимо куда более бурно, чем обычно.
— Черт, как поднялась, — буркнул он и сплюнул в траву. — Ладно, все равно попробуем.
У нас были с собой два длинных шеста и один покороче, так что мы уложили их вместе с вентерем в лодку и отчалили.
— Я буду грести? — спросил я.
— Нет, грести буду я, — ответил он. — А тебе придется ставить.
Выплыв на середину реки, он повернул лодку и стал грести против течения, вверх от порога. Уключины скрипели — так он налегал на весла. С каждым гребком лодка натужно преодолевала сопротивление, высоко задирая нос. Папа ворчал, ругался, откидывался всем телом назад, когда тянул весла под водой. Метров через сто он всадил весла в воду почти вертикально и уперся в них руками, стараясь таким образом удержать лодку на месте. Та стала накреняться, словно желая вырваться. Папа пытался парировать это движение веслами.
— Возьми длинный и забей в дно, — сказал он мне, кивая в сторону.
Непослушными руками я взял шест, опустил острый конец в воду и изо всех сил воткнул его в илистое дно. Лодка завертелась на месте, словно пытаясь сбросить меня, но мне удалось вытащить молоток и несколько раз ударить по шесту. В лицо мне полетели брызги грязной коричневой воды.
Мы оба были насквозь промокшие и грязные, когда я наконец забил оба шеста в дно и смог закрепить клапаны у открытого конца вентеря. Лицо у папы блестело от пота, он тяжело дышал. Отпустив весла, он дал лодке скользнуть несколько метров по течению, где мне удалось вбить и короткий шест, чтобы закрепить узкий конец. Вентерь лежал перед нами, скрытый в мутной воде, но входное отверстие оказалось посреди ложа реки, а сам он раскинулся под водой во всю длину, словно тайная комната.
Папа со вздохом отпустил весла, и лодка поплыла по течению. Он сплюнул в воду и посмотрел на шесты, торчавшие из воды, как мачты затонувшего корабля.
— Черт меня побери, если мы не поймаем угря!
В ту ночь я заснул, видя перед глазами угрей. Множество угрей, блестящих желтым и коричневым, ползало у моих ног. Я видел, как они открывают пасти, зло таращатся, втягивают воздух, изо всех сил пытаясь вскарабкаться по моим ногам, как ползучее растение. Их глаза напоминали черные кнопки.
К утру вода немного спала. Папа смотрел на реку, сидя с веслами в руках. Течение стало спокойнее, вода — прозрачнее, и ему не пришлось так напрягаться, чтобы повернуть лодку и подплыть к вентерю.
Но уже на расстоянии мы увидели, что с ним что-то не так. Один длинный шест полулежал в воде, второй и вовсе исчез. Вентерь отнесло и развернуло, так что входное отверстие теперь было повернуто по течению, а не против него, и держалось только на коротком шесте.
— Проклятье! — прорычал папа.
Он подгреб к короткому шесту. Вентерь полоскало из стороны в сторону, я выдернул шест и стал вытаскивать мокрую сеть, холодную и покрытую темно-зеленой растительностью. Вода лилась мне на брюки, руки отваливались; папа молча отложил весла и стал помогать, выбрасывая за борт ветки и большие комья блестящих водорослей, а затем свалил весь вентерь в кучу между нами.
Только тогда я заметил его. В самом дальнем и узком конце воронки, частично скрытый водорослями, лежал извивающийся угорь. Он был мелкий, как медяница, — сантиметров двадцать, не более, тоненький, с черными точечками вместо глаз, и я подумал, что он легко мог бы выскользнуть через окошки сети.
Само собой, он был маловат, но мы все же положили его в ведро.
— Я хочу забрать его домой, — сказал я.
— На что он тебе? — удивился папа. — Он слишком мал, чтобы его есть. Пусть-ка нагуляет жирок.
— Я мог бы посадить его в аквариум, который стоит у нас в подвале, — сказал я.
Папа улыбнулся и покачал головой.
— Держать угря как питомца…
Дома я поставил аквариум в своей комнате. Он был маленький — длиной, наверное, в полметра. Я насыпал на дно песок, положил большой камень и наполнил его водой. Когда я запустил туда угря, он, почти не двигаясь, скользнул на дно и спрятался за камень.
Имени я ему так и не придумал. В последующие недели он только и делал, что лежал за камнем, а я сидел перед аквариумом и смотрел на него через стекло, ожидая, что он пошевелится, что-то начнет происходить, что-то промелькнет в неподвижных черных глазах. Я пытался его кормить, пуская в воду насекомых и червей, но он не реагировал. Просто лежал за камнем, как во сне, — словно время перестало для него существовать.
Глядя на него через стекло, я пытался представить себе, что он чувствует. Боится ли? Лежит неподвижно, чтобы спрятаться? Или думает, что все прекратилось, когда он сам перестал быть тем, кем привык быть? Мог ли он представлять себе иное существование, чем то, в которое сейчас погрузился?
Прошел месяц, а я так и не видел, чтобы угорь пошевелился. Он так и лежал за камнем. Только жабры осторожно пульсировали по обе стороны головы. Вода помутнела, начала пахнуть гнилью.
— Он не ест, — пожаловался я папе. — Так он умрет с голоду.
— Да ну, он ест, когда ему нужно.
— Но он совсем не шевелится. Мне кажется, он умирает.
Через несколько дней папа вошел ко мне в комнату. Увидев грязную воду и угря, притаившегося за камнем, он нахмурился и пожал плечами.
— Нет, это все бессмысленно.
Вечером мы поехали к реке, и я нес ведро от машины вниз по склону, а возле ивы я поставил его и взял угря в руку. Он казался холодным и безжизненным. Я опустил руку в воду и разжал пальцы. Сперва мы оба замерли. Потом угорь пошевелился. Тело стало медленно извиваться; мягкими движениями он уплыл в темноту и исчез.
Долгий путь домой
Мерцающий серебристыми боками жирный угорь скатывается в море и отправляется в финальное путешествие в Саргассово море. Откуда он знает, куда ему надо? Как он находит дорогу?
Когда речь идет об угре, можно позволить себе задавать банальные вопросы — хотя бы потому, что даже на самые банальные вопросы не всегда есть ответ. Можно позволить себе расслабиться и принять это. И радоваться тому, что знание не безгранично. Это не просто защитный механизм, это еще и способ выработать свое отношение к тому, что мир — труднообъяснимое место. Тайное всегда притягательно.
Ибо что стоит за нашими словами, когда мы говорим, что нам известно: угорь размножается в Саргассовом море? Это означает, что у нас есть основания так полагать, ибо Йоханнес Шмидт восемнадцать лет плавал туда-сюда через Атлантику, вылавливая маленькие прозрачные «ивовые листочки». И мы решили поверить в работу Йоханнеса Шмидта, его наблюдения и выводы. Мы полагаем, что взрослые серебристые угри плывут на нерест, проделывая весь долгий путь до Саргассова моря, что размножаются они только там и никто из них не возвращается оттуда живым. Мы верим в это, потому что многое на это указывает и потому что никто до сих пор не предложил обоснованной альтернативы. Мы даже позволяем себе заявлять: мы знаем, что это так. «Мы знаем, в каком направлении они движутся», — писал Йоханнес Шмидт. После стольких лет труда в открытом море он счел, что заслужил право говорить «знаем» вместо «полагаем».
Однако в данном случае знание есть понятие условное. Когда мы утверждаем, что знаем, где размножается угорь, мы опираемся не только на наблюдения, но и на целый ряд допущений. А для человека, желающего знать наверняка, это, конечно же, проблема. Если уж быть категоричным — а людям научного склада это свойственно, — то знание не подвергается градации, оно скорее бинарно. Мы либо знаем, либо нет. В этом отношении естественные науки строже, чем философия или психоанализ. Такие науки, как биология и зоология, не без весомых оснований держатся за постулат, что познание мира должно быть эмпирическим и в основе всего лежит наблюдение.
В каком-то смысле все мы наследники Аристотеля. Всякое знание должно исходить из личного опыта. Действительность надо описывать такой, какой она предстает нашим органам чувств. Только то, что мы действительно видели, мы можем считать истиной. Этот взгляд на то, как человек приобретает знания о мире, оказался живуч, потому что он логичен, а также потому, что он заключает в себе обещание. Пока мы не знаем, наш удел — догадки и домыслы, но терпение и настойчивость рано или поздно будут вознаграждены. Истина явит себя под объективом микроскопа.
Когда мы говорим, что угорь размножается в Саргассовом море, на это утверждение по-прежнему существует несколько очень весомых возражений: 1) ни один человек не видел, как размножаются два угря; 2) никто вообще не видел в Саргассовом море взрослого угря.
Это означает, что вопрос об угре в каком-то смысле остается открытым, истина не показалась под объективом микроскопа, — но эта зыбкость придает энергии и влечет тех, кто интересуется угрем. Мистерия существует, чтобы ее разгадали, вопросы ждут ответов, однако загадка сама по себе создает и поддерживает интерес. Человек, веками стремившийся разгадать загадку угря, одновременно с большой любовью держался за самое загадочное.
Когда Рейчел Карсон писала свою сказочную книгу «Под морским ветром», главное внимание она уделила именно загадочному и необъяснимому. Можно было ожидать, что она как ученый-естественник должна испытывать фрустрацию по поводу неизвестного, однако, похоже, дело обстоит как раз наоборот. Непознанное привлекает Рейчел Карсон. К угрю и природе в целом она относилась не только как ученый, но и как человек.
К примеру, о долгом пути серебристого угря в Саргассово море она писала: «Пока продолжался отлив, угри покинули болото и двинулись в сторону моря. Тысячами прошли они в ту ночь мимо маяка, преодолев первый этап своего долгого путешествия. А когда они миновали выжженные места и добрались до моря, то вышли из поля зрения человека — собственно говоря, и из сферы его познания».
Вполне вероятно, что Аристотель, Франческо Реди, Карл Линней, Карло Мондини, Джованни Баттиста Грасси, Зигмунд Фрейд или Йоханнес Шмидт стали бы протестовать, — скорее всего, они никогда не смирились бы с тем, что какое-то существо может выйти за границы человеческого познания, но для Рейчел Карсон существовало нечто простое и красивое в образе угря, исчезающего во мраке тайного и непознанного. Существо, которое активно стремится прочь — туда, где оно недосягаемо для человеческого знания. Словно бы так и должно быть. «Повесть о путешествии угря к своему нерестилищу сокрыта в лоне морском, — писала она. — Ни одному человеку не дано проследить путь угря в океане». Казалось, загадка угря — все еще не разгаданная — для нее определена самой природой и вечна. Словно эта мистерия неподвластна человеческому воображению. Как бесконечность или смерть.
Учитель истории и рассказчик Том Крик в романе Грэма Свифта «Земля воды» рассказывает своим ученикам об угре с тем же чувством вечной неразгаданной тайны:
«Страсть к познанию никогда не успокоится. Даже сегодня, когда нам столь многое известно, любознательность не смогла разгадать загадку по поводу рождения и половой жизни угря. Возможно, этот вопрос — из тех, кому самой судьбой предначертано оставаться нерешенным до конца света. Или, возможно, — но тут я предаюсь фантазиям, ибо моя собственная любознательность заставляет меня рваться вперед, — мир устроен так, что в тот момент, когда всё становится известно и любознательность исчерпана (то есть многая лета любознательности!), этот мир обречен на гибель.
Однако даже если мы знаем, как, что, где и когда, — узнаем ли мы когда-нибудь, зачем? Зачем „зачем“?»
Несмотря на все наблюдения и попытки понять, в истории об угре по-прежнему остались белые пятна. Мы знаем, что серебристый угорь отправляется в путь осенью, когда наступает «угрёвая тьма», обычно с октября по декабрь. А маленькие «ивовые листочки», лептоцефалы, возникают в Саргассовом море весной, самые мелкие экземпляры — с февраля по май. А это, в свою очередь, означает, что примерно в это время происходит нерест. И, таким образом, мы имеем временные рамки путешествия угря. У него в запасе полгода, чтобы добраться до места.
Однако по-прежнему остается загадкой, почему угорь отправляется именно в Саргассово море и только туда. Существует немало животных, мигрирующих в период размножения, но мало кто проделывает столь долгий и трудный путь, как угорь, упорно стремясь к одному и тому же месту за тысячи километров, да вдобавок один раз в жизни, чтобы потом умереть.
Существуют теории, что только в Саргассовом море температура и соленость воды подходят для размножения угря. Научный факт: угорь существует столь давно, что за это время континенты успели сдвинуться, так что первым угрям нужно было совершить путешествие куда более короткое и простое. Но по мере того, как огромные массы суши менялись и перемещались сантиметр за сантиметром миллионы лет, угорь отказывался менять свои привычки. Он упрямо стремился к своему истоку, в то самое место, откуда когда-то появился.
По-прежнему скрыто пологом тайны, как он туда добирается. Каким путем? Как он ориентируется и как успевает? Как умудряется угорь всего за несколько месяцев преодолеть расстояние в семь-восемь тысяч километров, добравшись из рек и озер Европы через океан на другую сторону Атлантики?
В 2016 году группа европейских ученых опубликовала отчет о самом масштабном на сегодняшний день исследовании перемещения европейского угря в Саргассово море. В течение пяти лет семьсот семь серебристых угрей были снабжены электронными передатчиками и затем выпущены на волю в разных уголках Швеции, Франции, Германии и Ирландии.
По мере того как угри передвигались на запад, а передатчики отваливались и всплывали на поверхность, переполненные информацией, ученые могли составить себе более полную картину того, как выглядит это путешествие.
Во всяком случае, таков был изначальный замысел, но, как часто бывает, когда в деле замешаны угри, дело пошло не совсем так, как предполагалось. Из семисот семи подопытных угрей в итоге остались лишь двести шесть, чьи передатчики дали исследователям какую-либо информацию. А из этих двухсот шести угрей только восемьдесят семь добрались до океана, так что эти сведения и позволяли сделать вывод о том, как происходит это путешествие.
Однако путь восьмидесяти семи серебристых угрей в сторону Саргассова моря — куда больше, чем кому бы то ни было удавалось ранее изучить, и результаты многое рассказали о том, каким сложным и трудным процессом является эта ежегодная миграция. Первое, что удалось выяснить, — что угри плыли день и ночь и, похоже, использовали продуманную стратегию по избеганию опасностей. В течение дня они двигались в холодных водах на глубине до тысячи метров. Под покровом ночи поднимались в более теплые слои ближе к поверхности. Несмотря на это, немалая часть угрей пропала еще в самом начале путешествия. Их поглотило море — вернее, акулы и другие хищные рыбы.
Другой факт, который удалось выяснить, — что не все угри спешили к своей цели. В теории путешествие в Саргассово море по крайней мере понятно. Эксперимент показал, что угорь, плывущий с обычной скоростью, преодолевает чуть больше половины своей длины в секунду, а серебристый угорь, который по пути в Саргассово море не охотится, не ест и не отвлекается на другие дела, может плыть безостановочно не менее полугода на одних своих жировых запасах. Если прочертить на карте линию от некой точки в Европе до Саргассова моря и рассчитать время и скорость, исходя из того, что угорь должен прибыть на место не позднее мая, то окажется, что путешествие угря возможно. Оно очень долгое и трудное, но осуществимое.
Однако среди угрей, участвовавших в эксперименте, нашлись и такие, кто, похоже, не понимал, какие усилия от них требовались и насколько необходимо было торопиться. Некоторые выдающиеся особи преодолевали за день до пятидесяти километров, зато другие передвигались не более чем на три километра в день.
Кроме того, угри выбрали разные маршруты. Судя по всему, путей, ведущих в Саргассово море, достаточно много. Угри, выпущенные у западного побережья Швеции, по большей части выбирали северный путь — через Норвежское море и далее на запад в северо-восточной части Атлантического океана. Все они следовали примерно по одному пути — кроме одного, который, выйдя в Атлантику, внезапно свернул на восток и бесследно пропал неподалеку от Тронхейма.
Угри, выпущенные в Кельтском море к югу от Ирландии и в Бискайском заливе Франции, наоборот, поначалу поплыли на юг, а потом свернули на запад. Один из них, впрочем, целых девять месяцев блуждал к западу от Марокко, прежде чем добрался до Азорских островов.
Угри, выпущенные с немецкого побережья в Балтийское море, выбрали немного разные пути. Некоторые последовали за шведскими и поплыли на север в Норвежское море. Другие направились на юг через Ла-Манш. Однако ни один из них не добрался до Атлантического океана.
Угри, выпущенные во Франции в Средиземное море, предсказуемо поплыли на запад в сторону Гибралтара, но только трое из них смогли добраться через пролив до Атлантики.
На первый взгляд, результаты оказались весьма разнородными. Движение угрей создавало на карте странные узоры, словно кто-то пытался нарисовать лабиринт с завязанными глазами или словно ничто не было заранее определено и каждое путешествие совершалось впервые. Между тем одно сразу стало очевидно: большая часть угрей не сможет добраться до места ко времени нереста. Долгий путь обратно к истокам для многих остался нереализованным стремлением.
Казалось, судьба сурово обошлась и с угрями, и с научным исследованием. Ни одного из семисот семи выпущенных угрей не удалось отследить до самого Саргассова моря. Невозможно установить, добрался ли кто-либо из них до цели. Все они рано или поздно ушли на глубину, за пределы сферы человеческого знания, а их передатчики всплыли на поверхность.
Однако ученым удалось сделать из своих наблюдений новые и весьма неожиданные выводы. Главное, они выяснили, что миграция угрей — еще более сложный процесс, чем это ранее считалось, однако его, по крайней мере частично, можно объяснить. Из всех этих наблюдений, поначалу казавшихся такими разрозненными и непредсказуемыми, постепенно сложился определенный паттерн. Во-первых, очевидно, что угорь редко выбирает самый короткий путь от начальной точки до конечной цели. Его путешествие не похоже на движение птицы или самолета. Кроме того, по-видимому, все европейские угри собираются вместе у Азорских островов, примерно на полпути, чтобы потом единым строем продолжить путь в Саргассово море. Если путешествие начинается в неопределенности и некой растерянности, то со временем оно становится все более целенаправленным.
Сверх того, выяснилось еще одно обстоятельство, дополнительно усложняющее картину миграции угрей. Когда ученые извлекли на свет божий найденных прежде лептоцефалов из Саргассова моря и сравнили их размер и скорость прироста, оказалось, что нерест угрей, вероятно, начинается еще раньше, чем принято считать, — возможно, уже в декабре. То есть примерно тогда, когда последние угри покидают европейское побережье, что делает вопрос о том, как они успевают, еще более непонятным.
Но объяснение, по мнению ученых, заключается в том, что они и не успевают: далеко не все угри прибывают на место к ближайшему нересту. Для некоторых путешествие в Саргассово море растягивается на более длительный срок. Возможно, дело обстоит так, что угри приспосабливают скорость и маршрут к своим возможностям. Если одни кидаются плыть во все лопатки в надежде достичь Саргассова моря уже в начале весны, другие перемещаются куда медленнее, дожидаясь нереста следующего года. Если угорь, стартовавший, например, из Ирландии, может поплыть прямиком на запад и успеть к весне, то другой, начавший свой путь в Балтийском море, может поставить своей целью приплыть на место лишь в декабре следующего года, совершив путь длиною в год. Это не только объясняет разницу в поведении, но и придает некую логику и релевантность тому, что на первый взгляд кажется необъяснимым. Возможно, угри — индивиды, имеющие не только разные способности, но и разные средства и методы для достижения цели. Цель для всех одна, но каждое путешествие к первоистокам уникально и не похоже на остальные.
Однако остается открытым вопрос, актуальный как для угрей, так и для людей: откуда им известно, какой путь ведет их назад, к истокам? Как они находят дорогу домой?
С давних пор известно, что угорь обладает особыми навыками, позволяющими ему ориентироваться при перемещении на большие расстояния. Например, известно, что у него феноменальный нюх. По словам немецкого эксперта Фридриха-Вильгельма Теша, написавшего в 1970-х фундаментальный труд Der Aal («Угорь»), он обладает обонянием не менее чувствительным, чем у собаки. «Капните каплю экстракта шиповника в огромное Боденское озеро, — говорит Теш, — и угорь почувствует запах». Вполне возможно, что во время своего долгого пути через Атлантику угри используют обоняние для того, чтобы определить местоположение Саргассова моря или хотя бы друг друга. Кроме того, можно предположить, что угорь чувствителен к изменениям температуры и содержания соли, так что они могут выступать его проводниками, указывая верное направление. Некоторые ученые считают, что главным средством навигации у угря является развитое чувство магнетизма. Примерно как пчелы и перелетные птицы, он может ощущать магнитные поля Земли и благодаря этому двигаться к определенной цели.
Мы знаем, что это за цель. И каким-то образом угри тоже об этом знают. Они знают, куда им надо, хотя путь туда может оказаться весьма извилистым и непредсказуемым. Но каким образом они это знают — одна из тех загадок, которые по-прежнему составляют вопрос об угре, одна из тех мистерий, за которую любовно держатся ученые.
Рейчел Карсон описала это унаследованное знание своего происхождения как нечто большее, чем просто инстинкт. В книге «Под морским ветром» она повествует, как взрослые половозрелые угри однажды осенью начинают ощущать «смутную тоску по теплому, темному месту» и как эти угри, прожившие всю жизнь, «не вспоминая о море», — в реках и пресноводных озерах, вдруг отправляются в неизвестное им открытое пространство, где находят нечто знакомое, узнаваемое, чувство принадлежности «к медленному и своеобразному ритму большой воды, который ощущали при рождении».
Помнят ли они, откуда они появились и куда теперь направляются? Помнят ли свое самое первое путешествие через Атлантику — еще крошечными и прозрачными «ивовыми листиками»? Нет, наверное, не помнят — в осмысленном человеческом значении, так, как мы понимаем память. Но когда группа европейских ученых, отслеживавшая более или менее успешный путь семисот семи угрей обратно в Саргассово море, попыталась объяснить, как угри находят дорогу к своим истокам, то они описали нечто похожее на память.
Они писали: «Предположительно угри либо идут на знакомый запах, исходящий из места нереста, или ориентируются в море при помощи примет, отложившихся у них еще на стадии лептоцефала».
Их исследование в первую очередь показало: чем дальше угри продвигались в своем путешествии, тем более склонны были следовать заранее определенному маршруту. Казалось, они просто следуют Гольфстриму и Северо-Атлантическому течению, только в обратном направлении. Словно воспоминание-карта отпечаталось в них, еще когда они маленькими прозрачными «ивовыми листочками» совершили путешествие из Саргассова моря в Европу, и словно это воспоминание пережило вместе с угрем все его метаморфозы, сохранившись на десять, двадцать, тридцать или пятьдесят лет, пока не пришло время совершить то же путешествие обратно, прямо против мощного океанского течения, по которому они однажды беспомощно неслись прочь.
Итак, серебристый угорь в конце концов возвращается к своим истокам, в свое Саргассово море, и исчезает из поля зрения человека и из сферы его знания. Ни один человек по-прежнему не видел угря в Саргассовом море.
Правда, многие пытались. После многолетних экспедиций Йоханнеса Шмидта в начале ХХ века прошло некоторое время, прежде чем кто-то снова решил отправиться в Саргассово море искать угря, — может быть, потому, что труд Шмидта выглядел так убедительно, или потому, что такой пример отпугивал. Однако в последние десятилетия в сторону Саргассова моря вновь потянулись научные экспедиции, возглавляемые ведущими мировыми специалистами по угрю. Они отправлялись туда, пытаясь углубить свои знания о перемещениях угря и его размножении, для того чтобы проверить уже существующие теории, подтвердить или опровергнуть их, но также и ради того, чего ни одному человеку пока не удавалось: обнаружить живого угря в Саргассовом море.
Немецкий морской биолог Фридрих-Вильгельм Теш совершил, в числе прочего, большую экспедицию на двух немецких судах в 1979 году, в результате чего появилась публикация The Sargasso Sea eel expedition 1979. Экспедиция продолжалась всю весну, ее маршрут охватывал большую часть предполагаемого нерестилища. На этом этапе ученые смогли с максимальной точностью опустить сети и тралы как раз в то время, когда должен был бы проходить нерест; им удалось, как в свое время Шмидту, выловить большое количество крошечных лептоцефалов, но в остальном — ничего такого, что хоть косвенно указывало бы на присутствие угря. Например, из воды извлекли более семи тысяч икринок, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что ни одной икринки угря среди них нет. Взрослого нерестящегося угря, разумеется, также никто не увидел.
Американский морской биолог Джеймс Мак-Клив, который в течение тридцати лет является одним из ведущих мировых экспертов по угрям, совершил свою самую первую океанскую экспедицию вместе с Фридрихом-Вильгельмом Тешем в 1974 году и первую экспедицию в Саргассово море в 1981-м. С тех пор он побывал там еще семь раз и вместе со своей научной командой применял весьма изощренные методы, чтобы поймать или хотя бы краем глаза увидеть угря в Саргассовом море. У Джеймса Мак-Клива есть теория, что угорь находит подходящее место для нереста в тех областях, где встречаются различные водные массы с разными температурами, — в так называемых фронтальных регионах. Именно там ему удалось выловить самые мелкие экземпляры лептоцефалов, и там же он особенно усердно искал взрослых угрей. Он ходил по этим областям взад и вперед на кораблях, оборудованных сверхсовременными акустическими приборами, способными уловить эхо нерестящихся угрей во тьме морских глубин. И он уловил эхо, которое с большой вероятностью происходило от живых нерестящихся угрей, но каждый раз, когда он опускал в воду свои снасти, пытаясь их поймать, сети вытягивали пустыми.
Во время одной экспедиции, совершенной вместе с морским биологом Гейл Виппельхаузер, Мак-Клив попробовал привлечь угрей из глубин весьма изощренным способом. Заранее поймали сто взрослых самок американского угря и ввели им гормоны, чтобы сделать их половозрелыми. Ученые планировали взять этих самок с собой в экспедицию, чтобы посадить их в клетки, прикрепленные к буйкам, и поместить эти клетки во фронтальном регионе в Саргассовом море. Предполагалось, что самки будут приманкой и привлекут самцов, которые самостоятельно приплыли туда на нерест, — и таким образом удастся заставить их показаться из темноты.
Однако угри сотрудничали весьма неохотно. Ученые держали половозрелых самок в лаборатории и собирались отвезти их в Майами перед отплытием, однако большинство угрей просто-напросто умерли еще до того, как корабль отошел от причала. Когда экспедиция прибыла в Саргассово море, в живых оставалось лишь пять самок из ста.
Как бы то ни было, пять самок были помещены в клетки, а клетки прикреплены к буйкам, и Мак-Клив с Виппельхаузер по очереди днем и ночью следили за движением буйков при помощи радара. Все же каким-то непостижимым образом они потеряли буйки из виду. Угри, клетки и буйки — все пропало, и больше их никто никогда не видел.
Во время другой экспедиции, которую Гейл Виппельхаузер предприняла без Мак-Клива, удалось при помощи акустических приборов уловить эхо от того, что предположительно представляло собой большое скопление нерестившихся на глубине угрей, и, поставив на карту все, ученые опустили в воду шесть различных сетей. Однако угря так никто из них и не увидел.
Еще одно странное обстоятельство — не только живых угрей так и не удалось поймать в Саргассовом море. Мертвых там тоже никто не видел — ни останков, ни тех, кто попал бы в пищу крупным хищникам. Случалось выловить меченосов и акул, у которых в желудке находили серебристых угрей, но все это происходило далеко от Саргассова моря. У Азорских островов однажды поймали кашалота, в чьем желудке нашли съеденного им серебристого угря, шедшего на нерест, но и Азорские острова расположены отнюдь не рядом с Саргассовым морем. На своем нерестилище угорь, как живой, так и мертвый, пока успешно скрывается от людских глаз.