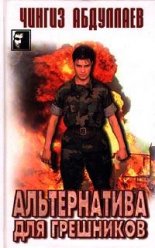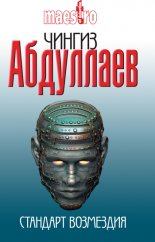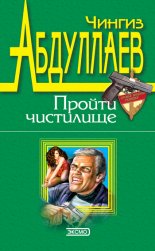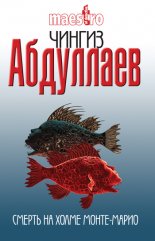Приключения Оливера Твиста Диккенс Чарльз
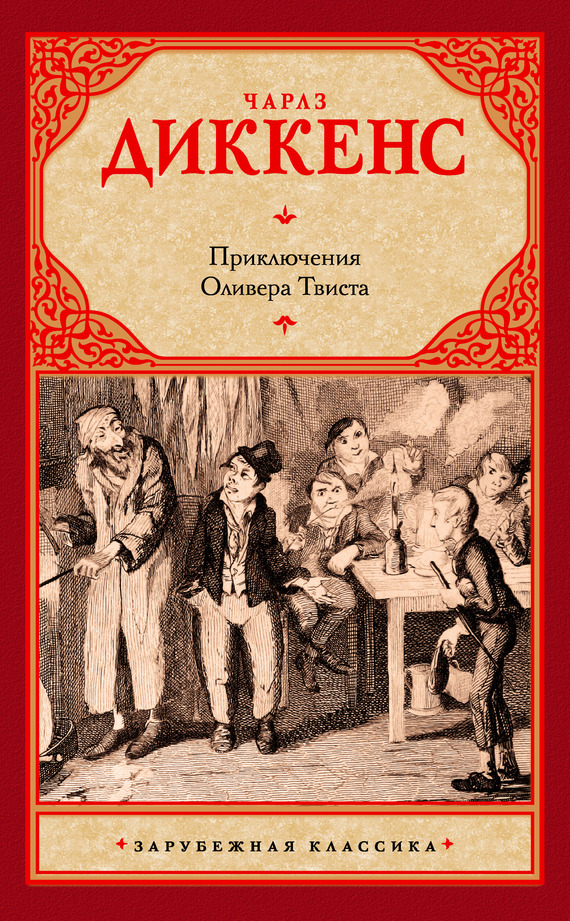
Предисловие
В свое время сочли грубым и непристойным, что я выбрал некоторых героев этого повествования из среды самых преступных и деградированных представителей лондонского населения.
Не видя никакой причины, в пору писания этой книги, почему подонки общества (поскольку их речь не оскорбляет слуха) не могут служить целям моральным в той же мере, как его пена и сливки, – я дерзнул верить, что это самое «свое время» может и не означать «во все времена» или даже «долгое время». У меня были веские причины избрать подобный путь. Я читал десятки книг о ворах: славные ребята (большей частью любезные), одеты безукоризненно, кошелек туго набит, знатоки лошадей, держат себя весьма самоуверенно, преуспевают в галантных интригах, мастера петь песни, распить бутылку, сыграть в карты или кости – прекрасное общество для самых достойных. Но я нигде не встречался (исключая – Хогарта) с жалкой действительностью. Мне казалось, что изобразить реальных членов преступной шайки, нарисовать их во всем их уродстве, со всей их гнусностью, показать убогую, нищую их жизнь, показать их такими, каковы они на самом деле, – вечно крадутся они, охваченные тревогой, по самым грязным тропам жизни, и куда бы ни взглянули, везде маячит перед ними большая черная страшная виселица, – мне казалось, что это необходимо и что сослужит службу обществу. И я это исполнил в меру моих сил.
Во всех известных мне книгах, где изображены подобные типы, они всегда чем-то прельщают и соблазняют. Даже в «Опере нищего» жизнь воров изображена так, что, пожалуй, ей можно позавидовать: капитан Макхит, окруженный соблазнительным ореолом власти и завоевавший преданную любовь красивейшей девушки, единственной безупречной героини в пьесе, вызывает у слабовольных зрителей такое же восхищение и желание ему подражать, как и любой обходительный джентльмен в красном мундире, который, по словам Вольтера, купил право командовать двумя-тремя тысячами человек и так храбр, что не боится за их жизнь. Вопрос Джонсона, станет ли кто-нибудь вором, потому что смертный приговор Макхиту был отменен, – кажется мне не относящимся к делу. Я же спрашиваю себя, помешает ли кому-нибудь стать вором то обстоятельство, что Макхит был приговорен к смерти и что существуют Пичум и Локит. И, вспоминая бурную жизнь капитана, его великолепную внешность, огромный успех и великие достоинства, я чувствую уверенность, что ни одному человеку с подобными же наклонностями не послужит капитан предостережением и ни один человек не увидит в этой пьесе ничего, кроме усыпанной цветами дороги, хоть она с течением времени и приводит почтенного честолюбца к виселице.
В самом деле, Гэй высмеивал в своей остроумной сатире общество в целом и, занятый более важными вопросами, не заботился о том, какое впечатление произведет его герой. То же самое можно сказать и о превосходном, сильном романе сэра Эдуарда Бульвера «Поль Клиффорд», который никак нельзя считать произведением, имеющим отношение к затронутой мною теме, автор и сам не ставил перед собой подобной задачи.
Какова же изображенная на этих страницах жизнь, повседневная жизнь вора? В чем ее очарование для людей молодых и с дурными наклонностями, каковы ее соблазны для самых тупоумных юнцов? Нет здесь ни скачек галопом по вересковой степи, залитой лунным светом, ни веселых пирушек в уютной пещере, нет ни соблазнительных нарядов, ни галунов, ни кружев, ни ботфортов, ни малиновых жилетов и рукавчиков, нет ничего от того бахвальства и той вольности, какими с незапамятных времен приукрашивали «большую дорогу». Холодные, серые, ночные лондонские улицы, в которых не найти пристанища; грязные и вонючие логовища – обитель всех пороков; притоны голода и болезни; жалкие лохмотья, которые вот-вот рассыплются, – что в этом соблазнительного?
Однако иные люди столь утонченны от природы и столь деликатны, что не в силах созерцать подобные ужасы. Они не отворачиваются инстинктивно от преступления, нет, но преступник, чтобы прийтись им по вкусу, должен быть, подобно кушаньям, подан с деликатной приправой. Какой-нибудь Макарони в зеленом бархате – восхитительное созданье, ну а Сайкс в бумазейной рубахе невыносим! Какая-нибудь миссис Макарони – особа в короткой юбочке и маскарадном костюме – заслуживает того, чтобы ее изображали в живых картинах и на литографиях, украшающих популярные песенки; ну а Нэнси – существо в бумажном платье и дешевой шали – недопустима! Удивительно, как отворачивается Добродетель от грязных чулок и как Порок, сочетаясь с лентами и ярким нарядом, меняет, подобно замужним женщинам, свое имя и становится Романтикой.
Но одна из задач этой книги – показать суровую правду, даже когда она выступает в обличье тех людей, которые столь превознесены в романах, а посему я не утаил от своих читателей ни одной дырки в сюртуке Плута, ни одной папильотки в растрепанных волосах Нэнси. Я совсем не верил в деликатность тех, которым не под силу их созерцать. У меня не было ни малейшего желания завоевать сторонников среди подобных людей. Я не питал уважения к их мнению, хорошему или плохому, не добивался их одобрения и не для их развлечения писал.
О Нэнси говорили, что ее преданная любовь к свирепому грабителю кажется неестественной. И в то же время возражали против Сайкса, – довольно непоследовательно, как смею я думать, – утверждая, будто краски сгущены, ибо в нем нет и следа тех искупающих качеств, против которых возражали, находя их неестественными в его любовнице. В ответ на последнее возражение замечу только, что, как я опасаюсь, на свете все же есть такие бесчувственные и бессердечные натуры, которые окончательно и безнадежно испорчены. Как бы там ни было, я уверен в одном: такие люди, как Сайкс, существуют, и если пристально следить за ними на протяжении того же периода времени и при тех же обстоятельствах, что изображены в романе, они не обнаружат ни в одном своем поступке ни малейшего признака добрых чувств. То ли всякое, более мягкое человеческое чувство в них умерло, то ли заржавела струна, которой следовало коснуться, и трудно ее найти – об этом я не берусь судить, но я уверен, что дело обстоит именно так.
Бесполезно спорить о том, естественны или неестественны поведение и характер девушки, возможны или немыслимы, правильны или нет. Они – сама правда. Всякий, кто наблюдал эти печальные тени жизни, должен это знать. Начиная с первого появления этой жалкой несчастной девушки и кончая тем, как она опускает свою окровавленную голову на грудь грабителя, здесь нет ни малейшего преувеличения или натяжки. Это святая правда, ибо эту правду Бог оставляет в душах развращенных и несчастных; надежда еще тлеет в них; последняя чистая капля воды на дне заросшего тиной колодца. В ней заключены и лучшие, и худшие стороны нашей природы – множество самых уродливых ее свойств, но есть и самые прекрасные; это – противоречие, аномалия, кажущиеся невозможными, но это – правда. Я рад, что в ней усомнились, ибо, если бы я нуждался в подтверждении того, что эту правду нужно сказать, последнее обстоятельство вдохнуло бы в меня эту уверенность.
В тысяча восемьсот пятидесятом году один чудак-олдермен во всеуслышание заявил в Лондоне, что острова Джекоба нет и никогда не было. Но и в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году остров Джекоба (по-прежнему место незавидное) продолжает существовать, хотя значительно изменился к лучшему.
Глава I
повествует о месте, где родился Оливер Твист, и обстоятельствах, сопутствовавших его рождению
Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся почти во всех городах, больших и малых, именно – работный дом. И в этом работном доме родился, – я могу себя не утруждать указанием дня и числа, так как это не имеет никакого значения для читателя, во всяком случае, на данной стадии повествования, – родился смертный, чье имя предшествует началу этой главы.
Когда приходский врач ввел его в сей мир печали и скорбей, долгое время казалось весьма сомнительным, выживет ли ребенок, чтобы получить какое бы то ни было имя; по всей вероятности, эти мемуары никогда не вышли бы в свет, а если бы вышли, то заняли бы не более двух-трех страниц и благодаря этому бесценному качеству являли бы собою самый краткий и правдивый образец биографии из всех сохранившихся в литературе любого века или любой страны.
Хотя я не склонен утверждать, что рождение в работном доме само по себе самая счастливая и завидная участь, какая может выпасть на долю человека, тем не менее я полагаю, что при данных условиях это было наилучшим для Оливера Твиста. Потому что весьма трудно было добиться, чтобы Оливер Твист взял на себя заботу о своем дыхании, а это занятие хлопотливое, хотя обычай сделал его необходимым для нашего безболезненного существования. В течение некоторого времени он лежал, задыхающийся, на шерстяном матрасике, находясь в неустойчивом равновесии между этим миром и грядущим и решительно склоняясь в пользу последнего. Если бы на протяжении этого короткого промежутка времени Оливер был окружен заботливыми бабушками, встревоженными тетками, опытными сиделками и премудрыми докторами, он неизбежно и несомненно был бы загублен. Но так как никого поблизости не было, кроме нищей старухи, у которой голова затуманилась от непривычной порции пива, и приходского врача, исполнявшего свои обязанности по договору, Оливер и Природа вдвоем выиграли битву. В результате Оливер после недолгой борьбы вздохнул, чихнул и возвестил обитателям работного дома о новом бремени, ложившемся на приход, испустив такой громкий вопль, какой только можно было ожидать от младенца мужского пола, который три с четвертью минуты назад получил сей весьма полезный дар – голос.
Как только Оливер обнаружил это первое доказательство надлежащей и свободной деятельности своих легких, лоскутное одеяло, небрежно брошенное на железную кровать, зашевелилось, бледное лицо молодой женщины приподнялось с подушки и слабый голос невнятно произнес:
– Дайте мне посмотреть на ребенка – и умереть.
Врач сидел у камина, согревая и потирая ладони. Когда заговорила молодая женщина, он встал и, подойдя к изголовью, сказал ласковее, чем можно было от него ждать:
– Ну, вам еще рано говорить о смерти!
– Конечно, Боже избавь! – вмешалась сиделка, торопливо засовывая в карман зеленую бутылку, содержимое которой она с явным удовольствием смаковала в углу комнаты. – Боже избавь! Вот когда она проживет столько, сколько прожила я, сэр, да произведет на свет тринадцать ребят, и из них останутся в живых двое, да и те будут с нею в работном доме, вот тогда она образумится и не будет принимать все близко к сердцу!.. Подумайте, милая, о том, что значит быть матерью! Какой у вас милый ребеночек!
По-видимому, эта утешительная перспектива материнства не произвела надлежащего впечатления. Больная покачала головой и протянула руку к ребенку.
Доктор передал его в ее объятия. Она страстно прижалась холодными, бледными губами к его лбу, провела рукой по лицу, дико осмотрелась вокруг, вздрогнула, откинулась назад… и умерла. Ей растирали грудь, руки и виски, но сердце остановилось навеки. Что-то говорили о надежде и успокоении. Но этого она давно уже не ведала.
– Все кончено, миссис Тингами! – сказал наконец врач.
– Да, все кончено. Ах, бедняжка! – подтвердила сиделка, подхватывая пробку от зеленой бутылки, упавшую на подушку, когда она наклонилась, чтобы взять ребенка. – Бедняжка!
– Вам незачем посылать за мной, если ребенок будет кричать, – сказал врач, медленно натягивая перчатки. – Очень возможно, что он окажется беспокойным. В таком случае дайте ему жидкой кашки. – Он надел шляпу, направился к двери и, приостановившись у кровати, добавил: – Миловидная женщина… Откуда она пришла?
– Ее принесли сюда вчера вечером, – ответила старуха, – по распоряжению надзирателя. Ее нашли лежащей на улице. Она пришла издалека, башмаки у нее совсем истоптаны, но откуда и куда она шла – никто не знает.
Врач наклонился к покойнице и поднял ее левую руку.
– Старая история, – сказал он, покачивая головой. – Нет обручального кольца… Ну, спокойной ночи!
Достойный медик отправился обедать, а сиделка, еще раз приложившись к зеленой бутылке, уселась на низкий стул у камина и принялась облачать младенца.
Каким превосходным доказательством могущества одеяния явился юный Оливер Твист! Закутанный в одеяло, которое было доселе единственным его покровом, он мог быть сыном дворянина и сыном нищего; самый родовитый человек едва ли смог бы определить подобающее ему место в обществе. Но теперь, когда его облачили в старую коленкоровую рубашонку, пожелтевшую от времени, он был отмечен и снабжен ярлыком и сразу занял свое место – приходского ребенка, сироты из работного дома, смиренного голодного бедняка, проходящего свой жизненный путь под градом ударов и пощечин, презираемого всеми и нигде не встречающего жалости.
Оливер громко кричал. Если бы мог он знать, что он сирота, оставленный на милосердное попечение церковных старост и надзирателей, быть может, он кричал бы еще громче.
Глава II
повествует о том, как рос, воспитывался и как был вскормлен Оливер Твист
В течение следующих восьми или десяти месяцев Оливер был жертвой системы вероломства и обманов. Его кормили из рожка. О голодном малютке-сироте, лишенном самого необходимого, власти работного дома доложили надлежащим образом приходским властям. Приходские власти с достоинством запросили властей работного дома о том, нет ли какой-нибудь особы женского пола, проживающей в доме, которая могла бы доставить Оливеру Твисту утешение и питание, столь для него необходимые. На это власти работного дома ответили, что такой особы нет. Тогда приходские власти великодушно и человечно порешили, что Оливера следует поместить «на ферму», или, иными словами, препроводить его в отделение работного дома, находившееся на расстоянии примерно трех миль, где от двадцати до тридцати других юных нарушителей закона о бедных копошились по целым дням на полу, не страдая от избытка пищи или одежды, под материнским надзором пожилой особы, которая принимала к себе этих преступников за семь с половиной пенсов с души. Семь с половиной пенсов в неделю – недурная сумма на содержание ребенка; немало можно приобрести на семь с половиной пенсов – вполне достаточно, чтобы переполнить желудок и вызвать неприятные последствия. Пожилая особа женского пола была человеком разумным и опытным – она знала, что идет на пользу детям. И она в совершенстве постигла, что идет на пользу ей самой. Поэтому большую часть еженедельной стипендии она оставляла себе, а подрастающему приходскому поколению уделяла значительно меньшую долю, чем та, которая была ему назначена. Иными словами, она открыла в бездонных глубинах еще большую глубину, проявив себя великим философом.
Всем известна история другого философа, который измыслил знаменитую теорию о том, что лошадь может существовать без пищи, и столь успешно доказал ее, что довел ежедневную порцию пищи, получаемую его собственной лошадью, до одной соломинки; несомненно, он сделал бы ее чрезвычайно горячим и резвым животным, если бы она не пала за сутки до того дня, как ей предстояло перейти на отменную порцию воздуха. К несчастью для экспериментальной философии той женщины, чьим заботам и покровительству был поручен Оливер Твист, к таким же результатам обычно приводило применение ее системы; потому что в ту самую минуту, когда дитя научалось поддерживать в себе жизнь ничтожной долей самой непитательной пищи, по превратности судьбы, в восьми с половиной случаях из десяти, оно или заболевало от голода и холода, или по недосмотру падало в огонь, или погибало от удушья. В любом из этих случаев несчастный малютка отправлялся в иной мир, чтоб там соединиться со своими родителями, коих он не ведал в этом.
Иной раз, когда производилось особо строгое следствие о приходском ребенке, за которым недосмотрели, а он опрокинул на себя кровать, или которого неумышленно обварили насмерть во время стирки белья – впрочем, последнее случалось не часто, ибо все хоть сколько-нибудь напоминающее стирку было редким событием на ферме, – присяжным иой раз приходило в голову задавать неприятные вопросы, а прихожане возмущались и подписывали протест. Но эти дерзкие выступления тотчас же пресекались в корне после показания врача и свидетельства бидла; первый всегда вскрывал труп и ничего в нем не находил – это было в высшей степени правдоподобно, а второй неизменно показывал под присягой все, что было угодно приходу, – это было в высшей степени благочестиво. Вдобавок члены совета регулярно посещали ферму и накануне всегда посылали бидла известить о своем прибытии. Когда они приезжали, дети были милы и опрятны, а можно ли требовать большего!
Нельзя ожидать, чтобы такая система воспитания на ферме давала какой-нибудь необычайный или богатый урожай. И в тот день, когда Оливеру Твисту исполнилось девять лет, он был бледным, чахлым ребенком, малорослым и несомненно тощим. Но природа заронила добрые семена в грудь Оливера, и они развивались себе на свободе, чему весьма способствовала скудная диета, принятая в учреждении. И быть может, этому обстоятельству Оливер был обязан тем, что увидел день, когда ему минуло девять лет.
Как бы там ни было, но это был день его рождения, и он проводил его в погребе для угля – в избранном обществе двух юных джентльменов, которые, разделив с ним основательную порку, были посажены под замок за то, что дерзко осмелились заявить, будто они голодны, – как вдруг миссис Манн, славная леди, возглавляющая это учреждение, была потрясена внезапным появлением мистера Бамбла, бидла, который старался открыть калитку в воротах сада.
– Господи помилуй! Это вы, мистер Бамбл? – воскликнула миссис Манн, высовывая голову из окна и искусно притворяясь чрезвычайно обрадованной. – (Сьюзен, приведите наверх Оливера и тех двух мальчишек и сейчас же их вымойте!) Ах, Боже мой! Мистер Бамбл, как я рада вас видеть!
Мистер Бамбл был человек дородный и раздражительный; вместо того чтобы должным образом ответить на это «чистосердечное» приветствие, он отчаянно тряхнул калитку, а затем угостил ее таким пинком, какого можно было ждать только от ноги бидла.
– Ах, Боже мой! – вскричала миссис Манн, выбежав из дому, ибо три мальчика были к тому времени доставлены наверх. – Подумать только! Как же это я могла позабыть о том, что из-за наших милых ребят калитка заперта изнутри! Войдите, сэр, прошу вас, войдите, мистер Бамбл, войдите, сэр!
Хотя это приглашение сопровождалось реверансом, который мог растрогать сердце церковного старосты, оно отнюдь не смягчило бидла.
– Неужели, миссис Манн, вы считаете почтительным или пристойным, – осведомился мистер Бамбл, сжимая свою трость, – заставлять приходских должностных лиц ждать у садовой калитки, когда они являются сюда по приходским делам, связанным с приходскими сиротами? Известно ли вам, миссис Манн, что вы, так сказать, выборное лицо прихода и получаете жалованье?
– Право же, мистер Бамбл, я только сообщила кое-кому из наших милых деток, которые вас так любят, что это вы пришли, – с большим смирением ответила миссис Манн.
Мистер Бамбл был высокого мнения о своем ораторском даровании и о своей значительности. Он выказал первое и утвердил второе. Он смягчился.
– Ладно, миссис Манн, – ответил он более спокойным тоном, – быть может, и так. Войдемте в дом, миссис Манн. Я пришел по делу и должен вам кое-что сообщить.
Миссис Манн ввела бидла в маленькую гостиную с кирпичным полом, подала ему стул и услужливо положила перед ним на стол его треуголку и трость. Мистер Бамбл вытер со лба пот, выступивший после прогулки, бросил самодовольный взгляд на треуголку и улыбнулся. Да, он улыбнулся. Бидлы, в конце концов, тоже люди, и мистер Бамбл улыбнулся.
– А теперь не обижайтесь на то, что я вам скажу, – заметила миссис Манн с чарующей любезностью. – Вы совершили, знаете ли, большую прогулку, иначе я бы не стала об этом упоминать. Мистер Бамбл, не выпьете ли вы капельку?..
– Ни капли! Ни капли! – сказал мистер Бамбл, махнув правой рукой с достоинством, но благодушно.
– Я думаю, все-таки можно выпить, – сказала миссис Манн, отметив про себя тон отказа и жест, его сопровождавший. – Одну капельку, и немножко холодной воды и кусочек сахару.
Мистер Бамбл кашлянул.
– Только одну капельку, – убеждала миссис Манн.
– Капельку чего именно? – осведомился бидл.
– Того самого, что я обязана держать в доме для милых малюток, чтобы подбавлять в эликсир Даффи, когда они нездоровы, мистер Бамбл, – ответила миссис Манн, открывая буфет и доставая бутылку и стакан. – Это джин. Я не хочу вас обманывать, мистер Бамбл. Это джин.
– Вы даете детям Даффи, миссис Манн? – спросил Бамбл, следя глазами за интересной процедурой приготовления смеси.
– Да благословит их Бог, даю, хотя это и дорого стоит, – ответила воспитательница. – Знаете ли, сэр, я не могу видеть, как они страдают у меня на глазах.
– Вот именно, – одобрительно сказал мистер Бамбл, – не можете. Вы добрая женщина, миссис Манн. – Она поставила стакан на стол. – Я воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы доложить об этом совету, миссис Манн. – Он придвинул к себе стакан. – У вас материнские чувства, миссис Манн. – Он размешал джин с водой. – Я… я с удовольствием выпью за ваше здоровье, миссис Манн.
И он залпом выпил полстакана.
– А теперь к делу, – продолжал бидл, доставая кожаный бумажник. – Ребенку Твисту, которого окрестили Оливером, исполнилось сегодня девять лет.
– Да благословит его Бог! – вставила миссис Манн, докрасна растирая себе левый глаз кончиком передника.
– И несмотря на предложенную награду в десять фунтов, которая затем была увеличена до двадцати фунтов, несмотря на чрезвычайные и, я бы сказал, сверхъестественные усилия со стороны прихода, – продолжал Бамбл, – нам так и не удалось узнать, кто его отец, а также местожительство, имя и звание его матери.
Миссис Манн с изумлением воздела руки, но после недолгого раздумья спросила:
– Как же тогда он вообще получил какую-то фамилию?
Бидл горделиво выпрямился и сказал:
– Это я придумал.
– Вы, мистер Бамбл?
– Я, миссис Манн. Мы даем фамилии нашим питомцам в алфавитном порядке. Последний был на букву С – я его назвал Суобл. Этот был на букву Т – его я назвал Твист. Следующий будет Унуин, затем Филиппс. Я придумал фамилии до конца алфавита и, когда мы дойдем до буквы Z, снова начну сначала.
– Да ведь вы настоящий писатель, сэр! – воскликнула миссис Манн.
– Ну-ну! – сказал бидл, явно польщенный комплиментом. – Может быть, и так… Может быть, и так, миссис Манн. – Он допил джин с водой и прибавил: – Так как Оливер теперь подрос и не может оставаться здесь, совет решил отправить его обратно в работный дом. Я пришел сам, чтобы отвести его туда. Покажите-ка мне его поскорее.
– Я сейчас же его приведу, – сказала миссис Манн, выходя из комнаты.
Оливер, освободившись к тому времени от того верхнего слоя грязи, покрывавшей его лицо и руки, какой можно было соскрести за одно умывание, был введен в комнату своей милостивой покровительницей.
– Поклонись джентльмену, Оливер, – сказала миссис Манн.
Оливер отвесил поклон, предназначавшийся как бидлу на стуле, так и треуголке на столе.
– Хочешь пойти со мной, Оливер? – величественно спросил мистер Бамбл.
Оливер готов был сказать, что очень охотно уйдет отсюда с кем угодно, но, подняв глаза, встретил взгляд миссис Манн, которая поместилась за стулом бидла и с разъяренной физиономией грозила ему кулаком. Он сразу понял намек – кулак слишком часто оставлял отпечатки на его теле, чтобы не запечатлеться глубоко в памяти.
– А она пойдет со мной? – спросил бедный Оливер.
– Нет, она не может пойти, – ответил мистер Бамбл. – Но иногда она будет тебя навещать.
Это было не очень большим утешением для мальчика. Однако как ни был он мал, у него хватило ума притвориться, будто он с большим сожалением покидает эти места. Ему совсем нетрудно было прослезиться, голод и дурное обращение – великие помощники в тех случаях, когда вам нужно заплакать. И Оливер плакал и в самом деле очень натурально. Миссис Манн подарила ему тысячу поцелуев и – в этом Оливер нуждался гораздо больше – кусок хлеба с маслом, чтобы он не показался чересчур голодным, когда придет в работный дом.
С ломтем хлеба в руке и в коричневой приходской шапочке Оливер был уведен мистером Бамблом из гнусного дома, где ни одно ласковое слово, ни один ласковый взгляд ни разу не озарили его унылых младенческих лет. И все же детское его горе было глубоко, когда за ним закрылись ворота коттеджа. Как ни были жалки его маленькие товарищи по несчастью, которых он покидал, – это были единственные его друзья. И сознание своего одиночества в великом, необъятном мире впервые проникло в сердце ребенка.
Мистер Бамбл шел большими шагами; маленький Оливер, крепко ухватившись за его обшитый золотым галуном обшлаг, рысцой бежал рядом с ним и через каждую четверть мили спрашивал: «Далеко ли еще?» На эти вопросы мистер Бамбл давал очень короткие и резкие ответы, так как недолговечная приветливость, какую пробуждает в иных сердцах джин с водой, к тому времени испарилась, и он снова стал бидлом.
Оливер пробыл в стенах работного дома не более четверти часа и едва успел покончить со вторым ломтем хлеба, как мистер Бамбл, оставивший его на попечение какой-то старухи, вернулся и, рассказав о происходившем в тот вечер заседании совета, объявил ему, что, по желанию совета, он должен немедленно предстать перед ним.
Не имея достаточно ясного представления о том, что такое совет, Оливер был ошеломлен этим сообщением и не знал, смеяться ему или плакать. Впрочем, ему некогда было об этом раздумывать, так как мистер Бамбл ударил его тростью по голове, чтобы расшевелить, и еще раз по спине, чтобы подбодрить, и, приказав следовать за собой, повел его в большую, выбеленную известкой комнату, где сидели вокруг стола восемь или десять толстых джентльменов.
Во главе стола восседал в кресле, более высоком, чем остальные, чрезвычайно толстый джентльмен с круглой красной физиономией.
– Поклонись совету, – сказал Бамбл.
Оливер смахнул две-три еще не высохшие слезинки и, видя перед собой стол, по счастью, поклонился ему.
– Как тебя зовут, мальчик? – спросил джентльмен, восседавший в высоком кресле.
Оливер испугался стольких джентльменов, приводивших его в трепет, а бидл угостил его сзади еще одним пинком, который заставил его расплакаться. По этим двум причинам он ответил очень тихо и нерешительно, после чего джентльмен в белом жилете обозвал его дураком, сразу развеселился и пришел в прекрасное расположение духа.
– Мальчик, – сказал джентльмен в высоком кресле, – слушай меня. Полагаю, тебе известно, что ты сирота?
– Что это такое, сэр? – спросил бедный Оливер.
– Мальчик – дурак! Я так и думал, – сказал джентльмен в белом жилете.
– Тише! – сказал джентльмен, который говорил первым. – Тебе известно, что у тебя нет ни отца, ни матери и что тебя воспитал приход, не так ли?
– Да, сэр, – ответил Оливер, горько плача.
– О чем ты плачешь? – спросил джентльмен в белом жилете.
И в самом деле – очень странно! О чем мог плакать этот мальчик?
– Надеюсь, ты каждый вечер читаешь молитву, – суровым голосом сказал другой джентльмен, – и молишься – как надлежит христианину – за тех, кто тебя кормит и о тебе заботится?
– Да, сэр, – заикаясь ответил мальчик.
Джентльмен, говоривший последним, сам того не сознавая, был прав. Оливер и в самом деле был бы христианином и на редкость хорошим христианином, если бы молился за тех, кто его кормит и о нем заботится. Но он не молился, потому что никто его этому не учил.
– Прекрасно! Тебя привели сюда, чтобы воспитать и обучить полезному ремеслу, – сказал краснолицый джентльмен, сидевший в высоком кресле.
– И завтра же, с шести часов утра, ты начнешь трепать пеньку, – добавил угрюмый джентльмен в белом жилете.
В благодарность за соединение этих двух благодеяний в несложной операции трепанья пеньки Оливер, по указанию бидла, низко поклонился и был поспешно уведен в большую комнату, где на грубой, жесткой кровати он рыдал, пока не заснул. Какая превосходная иллюстрация к милосердным законам Англии! Они разрешают беднякам спать!
Бедный Оливер! Он спал в счастливом неведении, не помышляя о том, что в этот самый день совет вынес решение, которое должно было повлиять на всю его дальнейшую судьбу. Но совет вынес решение. Оно заключалось в следующем.
Члены этого совета были очень мудрыми, проницательными философами, и когда они наконец обратили внимание на работный дом, они тотчас подметили то, чего никогда бы не обнаружили простые смертные, а именно: бедняки любили работный дом! Это было поистине место общественного увеселения для бедных классов; харчевня, где не нужно платить; даровой завтрак, обед, чай и ужин круглый год; рай из кирпича и известки, где всё игра и никакой работы! «Ого! – с глубокомысленным видом изрек совет. – Нам-то и надлежит навести порядок. Мы немедленно положим этому конец». И члены совета постановили, чтобы всем бедным людям был предоставлен выбор (так как, разумеется, они никого не хотели принуждать) либо медленно умирать голодной смертью в работном доме, либо быстро умереть вне его стен. С этою целью они заключили договор с водопроводной компанией на снабжение водой в неограниченном количестве и с агентом по торговле зерном на регулярное снабжение овсянкой в умеренном количестве и постановили давать три раза в день жидкую кашу, луковицу дважды в неделю и полбулки по воскресеньям. Они сделали еще очень много мудрых и гуманных распоряжений, касающихся женщин, но их нет необходимости перечислять. Они милостиво согласились давать развод женатым беднякам ввиду больших издержек, сопряженных с бракоразводным процессом в Докторс-Коммонс. И вместо того чтобы заставлять человека содержать семью, как они делали раньше, они отнимали у него семью и превращали его в холостяка! Трудно сказать, сколько просителей из всех слоев общества обратилось бы к ним за пособием, имея в виду эти два последних пункта, если бы оно не было связано с работным домом, но члены совета были люди предусмотрительные и приняли меры против такого осложнения. Пособие было неразрывно связано с работным домом и кашей, и это отпугивало людей.
В течение первого полугодия после появления Оливера Твиста систему применяли вовсю. Сначала она потребовала немалых расходов, ибо счет гробовщика увеличился и приходилось непрерывно ушивать одежду бедняков, которая после одной-двух недель каши висела мешком на их исхудавших телах. Но число обитателей работного дома стало таким же тощим, как и сами бедняки, и совет был в восторге.
Мальчиков кормили в большом зале с кирпичными стенами; в одном конце его находился котел, и из этого котла в часы, назначенные для принятия пищи, надзиратель, надев передник, с помощью одной или двух женщин раздавал кашу. Каждый мальчик получал одну мисочку этого превосходного месива – не больше, за исключением больших праздников, когда он, кроме того, получал две с четвертью унции хлеба. Миски никогда не приходилось мыть. Мальчики скоблили их ложками, пока они не начинали снова блестеть; покончив с этой операцией (которая никогда не отнимала много времени, так как ложки были почти такой же величины, как миски), они сидели, впиваясь в котел такими жадными глазами, словно собирались пожрать кирпичи, которыми он был обложен, и занимались тем, что жадно обсасывали себе пальцы в надежде найти крупицы каши, случайно на них оставшейся. Мальчики обычно отличаются прекрасным аппетитом. Оливер Твист и его товарищи на протяжении трех месяцев терпели муки, медленно умирая от недоедания; наконец они стали такими жадными и так обезумели от голода, что один мальчик, который был рослым для своих лет и не привык к такому положению вещей (его отец содержал когда-то маленькую харчевню), мрачно намекнул товарищам, что, если ему не прибавят миски каши per diem, он боится, как бы случайно не съесть ночью спящего с ним рядом тщедушного мальчика. Глаза у него были дикие, голодные, и дети слепо ему поверили. Посоветовались; был брошен жребий, кому подойти в тот вечер после ужина к надзирателю и попросить еще каши. И жребий выпал Оливеру Твисту.
Настал вечер; мальчики заняли свои места. Надзиратель в поварском наряде поместился у котла; его нищие помощницы расположились за его спиной. Каша была разлита по мискам. И длинная молитва была прочитана перед скудной едой. Каша исчезла; мальчики перешептывались друг с другом и подмигивали Оливеру, а ближайшие соседи подталкивали его. Он был совсем ребенок, впал в отчаяние от голода и стал безрассудным от горя. Он встал из-за стола и, подойдя с миской и ложкой в руке к надзирателю, сказал, немножко испуганный своей дерзостью:
– Простите, сэр, я хочу еще.
Надзиратель был дюжий, здоровый человек, однако он сильно побледнел. Остолбенев от изумления, он смотрел несколько секунд на маленького мятежника, а затем, ища поддержки, прислонился к котлу. Помощницы онемели от удивления, мальчики – от страха.
– Что такое?.. – слабым голосом произнес наконец надзиратель.
– Простите, сэр, – повторил Оливер, – я хочу еще.
Надзиратель ударил Оливера черпаком по голове, крепко схватил его за руки и завопил, призывая бидла.
Совет собрался на торжественное заседание, когда мистер Бамбл в великом волнении ворвался в комнату и, обращаясь к джентльмену, восседавшему в высоком кресле, сказал:
– Мистер Лимкинс, прошу прощенья, сэр! Оливер Твист попросил еще каши!
Произошло всеобщее смятение. Лица у всех исказились от ужаса.
– Еще каши?! – переспросил мистер Лимкинс. – Успокойтесь, Бамбл, и отвечайте мне вразумительно. Так ли я вас понял: он попросил еще, после того как съел полагающийся ужин?
– Так оно и было, сэр, – ответил Бамбл.
– Этот мальчик кончит жизнь на виселице, – сказал джентльмен в белом жилете. – Я знаю: этот мальчик кончит жизнь на виселице.
Никто не опровергал пророчества джентльмена. Началось оживленное обсуждение. Было предписано немедленно отправить Оливера в заточение; а на следующее утро к воротам было приклеено объявление, что любому, кто пожелает освободить приход от Оливера Твиста, предлагается вознаграждение в пять фунтов. Иными словами, вознаграждение в пять фунтов и Оливер Твист были предложены любому мужчине или женщине, которые, занимаясь ремеслом, торговлей или чем-либо иным, нуждались в ученике.
– Никогда и ни в чем, – сказал джентльмен в белом жилете, постучав на следующее утро в ворота и прочитав объявление, – я не был так уверен, как в том, что этот мальчик кончит жизнь на виселице.
Намереваясь показать в дальнейшем, прав или не прав был джентльмен в белом жилете, я не стану лишать занимательности это повествование (полагая, что оно обладает этим качеством) и не осмелюсь намекнуть, ждет ли Оливера Твиста такая страшная смерть или нет.
Глава III
рассказывает о том, как Оливер Твист едва не поступил на место, которое оказалось бы отнюдь не синекурой
В течение недели после совершения кощунственного и позорного преступления – просьбы о добавочной порции – Оливер сидел взаперти в темной и пустой комнате, куда его заключили по мудрому и милосердному распоряжению совета. На первый взгляд как будто разумно предположить, что если бы он отнесся с должным почтением к предсказанию джентльмена в белом жилете, то раз и навсегда подтвердил бы пророческий дар этого джентльмена, прикрепив один конец носового платка к крюку в стене и повесившись на другом его конце. Однако для совершения этого подвига существовало одно препятствие, а именно: носовые платки, отнесенные к предметам роскоши, были на все грядущие века отторгнуты от носов бедных людей по специальному приказу совета, собравшегося в полном составе, – по приказу, который был скреплен подписями и печатью и торжественно оглашен.
Еще более серьезным препятствием являлись юный возраст и ребяческий нрав Оливера. Он горько проплакал весь день, а когда настала длинная, унылая ночь, он заслонил руками глаза, чтобы не видеть тьмы, и, забившись в угол, постарался уснуть. То и дело он просыпался, приподнимаясь и вздрагивая, и все теснее и теснее прижимался к стене, чувствуя, что холодная, твердая ее поверхность как бы служит ему защитой от одиночества во мраке, его окружающем.
Да не подумают враги «системы», что во время своего одиночного заключения Оливер был лишен упражнений, необходимых для здоровья, лишен приличного общества и духовного утешения. Что касается упражнений, то стояла чудесная холодная погода, и ему разрешалось каждое утро совершать обливание под насосом в обнесенном кирпичной стеной дворе, в присутствии мистера Бамбла, который заботился о том, чтобы он не простудился, и с помощью трости вызывал ощущение теплоты во всем его теле. Что касается общества, то каждые два дня его водили в зал, где обедали мальчики, и там секли при всех для примера и предостережения остальным. А для того чтобы не лишить его духовного утешения, его выгоняли пинками каждый вечер в час молитвы в тот же зал и там разрешали утешать свой дух, слушая общую молитву мальчиков, содержавшую специальное дополнение, внесенное по распоряжению совета; в этом дополнении они просили сделать их хорошими, добродетельными, довольными и послушными и избавить от грехов и пороков Оливера Твиста: о последнем в молитве было отчетливо сказано, что он находится под особым покровительством и защитой злых сил и является изделием, выпущенным прямо с фабрики самого дьявола.
Однажды утром, когда Оливер находился в столь же утешительном положении, мистер Гэмфилд, трубочист, шел по Хай-стрит, глубокомысленно обдумывая пути и способы уплатить недоимки по арендной плате, которую его квартирохозяин требовал довольно настойчиво. При самом оптимистическом подсчете своих финансов мистер Гэмфилд никак не мог насчитать пяти фунтов, каковая сумма была ему нужна; придя в некое арифметическое отчаяние, он то ломал себе голову, то старался проломить ее своему ослу, как вдруг, поравнявшись с работным домом, заметил на воротах объявление.
– Тпру-у, – сказал мистер Гэмфилд ослу.
Осел пребывал в глубокой задумчивости, размышляя, должно быть, о том, суждено ли ему получить одну-две кочерыжки, когда он избавится от двух мешков сажи, которыми была нагружена тележка; поэтому, не расслышав приказания, он продолжал рысцой продвигаться вперед.
Мистер Гэмфилд разразился неистовыми проклятиями, относившимися к ослу и в особенности к его глазам, и, бросившись за ним, нанес ему удар по голове, от которого неизбежно раскололся бы любой череп, кроме ослиного. Затем, схватив осла за узду, он сильно ее дернул, с целью любезно напомнить ему, кто его хозяин, и таким манером повернул его обратно. После этого он еще раз треснул его по голове, чтобы тот не очухался до самого его возвращения. Покончив с этими приготовлениями, он подошел к воротам прочитать объявление.
Заложив руки за спину, у ворот стоял джентльмен в белом жилете, высказавший только что несколько глубоких мыслей в комнате, где заседал совет. Наблюдая маленькую размолвку между мистером Гэмфилдом и ослом, он радостно улыбнулся, когда этот человек подошел прочесть объявление, ибо он сразу угадал, что мистер Гэмфилд – именно такой хозяин, какой нужен Оливеру Твисту. Прочитав бумагу, мистер Гэмфилд тоже улыбнулся, так как ему необходима была именно сумма в пять фунтов; что же касается мальчика, являвшегося придатком к этой сумме, то мистер Гэмфилд, зная, какова пища в работном доме, был уверен, что мальчик окажется очень миниатюрным экземпляром, весьма подходящим для дымоходов. Поэтому он снова прочел по складам объявление от начала до конца и затем, притронувшись в знак почтения к своей меховой шапке, обратился к джентльмену в белом жилете.
– Этот мальчик, сэр, которого приход хочет отдать в ученье… – начал мистер Гэмфилд.
– Да, любезный, – со снисходительной улыбкой отозвался джентльмен в белом жилете. – Что вы о нем скажете?
– Если приход желает, чтобы он обучился приятному ремеслу, доброму почтенному ремеслу трубочиста, – продолжал мистер Гэмфилд, – то могу сказать, что мне нужен ученик и я готов его взять.
– Войдите, – сказал джентльмен в белом жилете.
Мистер Гэмфилд, замешкавшись позади, угостил осла еще одним ударом по голове и еще раз дернул его за узду, предостерегая, чтобы он не убежал во время его отсутствия, а затем последовал за джентльменом в белом жилете в ту комнату, где Оливер впервые увидел этого джентльмена.
– Это скверное ремесло, – сказал мистер Лимкинс, когда Гэмфилд снова заявил о своем желании.
– Случалось, что мальчики задыхались в дымоходах, – произнес другой джентльмен.
– Это потому, что смачивали солому, прежде чем зажечь ее в камине, чтобы заставить мальчика выбраться наружу, – сказал Гэмфилд. – От этого только дым валит, а огня нет! Ну а от дыму нет никакого толку, он не заставит мальчика вылезти, он его усыпляет, а мальчишке этого только и нужно. Мальчишки – народ очень упрямый и очень ленивый, джентльмены, и ничего нет лучше славного горячего огонька, чтобы заставить их быстрехонько спуститься. К тому же это доброе дело, джентльмены, потому как, если они застрянут в дымоходе, а им начнешь поджаривать пятки, они изо всех сил стараются высвободиться.
Такое объяснение как будто очень позабавило джентльмена в белом жилете, но веселость эта быстро угасла от взгляда, брошенного на него мистером Лимкинсом. Затем члены совета беседовали между собой в течение нескольких минут, но так тихо, что можно было расслышать только слова: «сокращение расходов», «прекрасно отразится на балансе», «выпустим печатный отчет». Да и эти слова удалось расслышать только потому, что их повторяли очень часто и выразительно.
Наконец перешептывание прекратилось, и, когда члены совета вернулись на свои места и снова обрели торжественный вид, мистер Лимкинс сказал:
– Мы обсудили ваше предложение и не одобряем его.
– Отнюдь не одобряем, – сказал джентльмен в белом жилете.
– Решительно не одобряем, – добавили остальные члены совета.
Так как мистеру Гэмфилду случилось пострадать от пустячного обвинения в том, что он забил до смерти трех или четырех мальчиков, то у него мелькнула мысль, что члены совета, по какому-то непонятному капризу, вообразили, будто это обстоятельство, не имеющее отношения к делу, должно повлиять на их решение. Правда, это отнюдь не походило на их обычный образ действий, однако, не имея особого желания воскрешать старые слухи, он повертел в руках шапку и медленно отошел от стола.
– Стало быть, вы не хотите отдать его мне, джентльмены? – спросил мистер Гэмфилд, приостановившись у двери.
– Не хотим, – ответил мистер Лимкинс, – ремесло у вас скверное, и мы считаем, что надо снизить предложенную нами премию.
Физиономия мистера Гэмфилда прояснилась; он быстрым шагом подошел к столу и сказал:
– Сколько дадите, джентльмены? Ну-ка! Не обижайте бедного человека. Сколько дадите?
– Я бы сказал, что трех фунтов десяти шиллингов хватит за глаза, – ответил мистер Лимкинс.
– Десять шиллингов сбросить, – вмешался джентльмен в белом жилете.
– Послушайте! – сказал Гэмфилд. – Порешим на четырех фунтах, джентльмены. Порешим на четырех фунтах, и вы избавитесь от него раз и навсегда. Идет?
– Три фунта десять, – твердо повторил мистер Лимкинс.
– Послушайте, джентльмены, разделим разницу пополам, – предложил Гэмфилд. – Три фунта пятнадцать.
– Ни одного фартинга не прибавлю, – был твердый ответ мистера Лимкинса.
– Уж очень вы меня прижимаете, джентльмены, – нерешительно сказал Гэмфилд.
– Ну-ну! Вздор! – сказал джентльмен в белом жилете. – Он стоит того, чтобы его взяли без всякой премии. Забирайте его, глупый вы человек! Это самый подходящий для вас мальчик. Время от времени его нужно угощать палкой – это пойдет ему на пользу. А его содержание не обойдется дорого, потому что его не закармливали с самого рождения. Ха-ха-ха!
Мистер Гэмфилд хитрым взглядом окинул лица сидевших за столом и, заметив, что они улыбаются, сам начал ухмыляться. Сделка была заключена. Мистеру Бамблу немедленно объявили, что Оливер и его документы должны быть в тот же день препровождены к судье для подписи и утверждения.
Во исполнение этого решения маленького Оливера, крайне удивленного, выпустили из заточения и приказали надеть чистую рубашку. Едва он успел покончить с этим совершенно непривычным гимнастическим упражнением, как мистер Бамбл собственноручно принес ему миску с кашей и праздничную порцию хлеба – две с четвертью унции.
При этом потрясающем зрелище Оливер жалобно заплакал: он подумал – и это было вполне естественно, – что совет решил убить его для каких-нибудь полезных целей, в противном случае его ни за что не стали бы так откармливать.
– Не плачь, Оливер, а то глаза покраснеют. Ешь свою кашу и будь благодарен! – сказал мистер Бамбл внушительным и торжественным тоном. – Тебя собираются отдать в ученье, Оливер.
– В ученье, сэр? – дрожа, переспросил мальчик.
– Да, Оливер, – сказал мистер Бамбл. – Добрые и милосердные джентльмены, которые заменяют тебе родителей, Оливер, потому что своих у тебя нет, хотят отдать тебя в ученье, поставить на ноги и сделать из тебя человека, хотя это обойдется приходу в три фунта десять шиллингов! Три фунта десять, Оливер! Семьдесят шиллингов… сто сорок шестипенсовиков! И все это для дрянного сироты, которого никто не может полюбить!
Когда мистер Бамбл, устрашающим голосом произнеся эту речь, остановился, чтобы перевести дух, слезы заструились по лицу бедного мальчика, и он горько зарыдал.
– Полно, – сказал мистер Бамбл уже не таким торжественным тоном, ибо ему лестно было видеть, какое впечатление производит его красноречие. – Полно, Оливер! Вытри глаза обшлагом куртки и не роняй слез в кашу. Это очень неразумно, Оливер.
И в самом деле это было неразумно, так как в каше и без того было достаточно воды.
По пути к судье мистер Бамбл сообщил Оливеру, что он сейчас должен казаться счастливым и, когда старый джентльмен спросит его, хочет ли он поступить в ученье, ответить, что ему этого очень хочется. Оба предписания Оливер обещал исполнить, тем более что трудно себе представить, как деликатно намекнул мистер Бамбл, какая его постигнет судьба, если он не выполнит того или другого. Когда они явились в камеру судьи, мистер Бамбл запер его одного в маленькой комнатке и приказал ждать здесь, пока он за ним зайдет.
С сильно бьющимся сердцем мальчик ждал около получаса. По прошествии этого времени мистер Бамбл просунул в дверь голову, не украшенную на этот раз треуголкой, и громко сказал:
– Оливер, милый мой, пойдем к джентльменам. – Произнеся эти слова, мистер Бамбл принял мрачный и угрожающий вид и шепотом добавил: – Помни, что я тебе сказал, негодный мальчишка!
Его манера обращения сбивала с толку, и Оливер простодушно заглянул в лицо мистеру Бамблу, но сей джентльмен помешал ему сделать какое бы то ни было замечание и немедленно повел его в смежную комнату, дверь которой была открыта.
Это была просторная комната с большим окном. За конторкой сидели два старых джентльмена с напудренными волосами; один читал газету, другой, вооружившись очками в черепаховой оправе, изучал лежавший перед ним кусок пергамента. Мистер Лимкинс стоял перед конторкой с одной стороны, а мистер Гэмфилд – его лицо было кое-как умыто – с другой; два-три грубоватых на вид человека в высоких сапогах слонялись вокруг.
Старый джентльмен в очках в конце концов задремал над куском пергамента, и, когда мистер Бамбл поставил Оливера перед конторкой, в течение нескольких минут длилось молчание.
– Вот он, этот мальчик, ваша честь, – сказал мистер Бамбл.
Старый джентльмен, который читал газету, приподнял на минуту голову и дернул другого старого джентльмена за рукав, после чего тот проснулся.
– О, это тот самый мальчик? – промолвил старый джентльмен.
– Он самый, сэр, – отвечал мистер Бамбл. – Милый мой, поклонись судье.
Оливер встрепенулся и отвесил почтительнейший поклон. Рассматривая напудренные волосы судей, он с недоумением размышлял о том, неужели все члены совета так и рождаются с этой белой пылью на голове и потому-то становятся сразу членами совета.
– Ну-с, – сказал старый джентльмен, – полагаю, ему нравится ремесло трубочиста?
– Он без ума от него, ваша честь, – ответил Бамбл и украдкой ущипнул Оливера, давая понять, что лучше ему с этим не спорить.
– И он хочет быть трубочистом, не так ли? – спросил старый джентльмен.
– Если бы мы вздумали завтра обучать его какому-нибудь другому ремеслу, он тотчас же сбежал бы, ваша честь, – отвечал Бамбл.
– А этот человек, будущий его хозяин… вы, сэр… вы будете хорошо обращаться с ним… кормить его… и тому подобное, не правда ли, сэр? – сказал старый джентльмен.
– Раз я говорю, что буду, значит, буду, – угрюмо ответил мистер Гэмфилд.
– Речь у вас грубоватая, друг мой, но вы производите впечатление честного, прямодушного человека, – сказал старый джентльмен, обратив свои очки в сторону кандидата на премию за Оливера.
Мерзкая физиономия этого кандидата была поистине отмечена клеймом, удостоверявшим его жестокость. Но судья был подслеповат, впал в детство, и потому вряд ли можно было ожидать, чтобы он подметил то, что подмечали другие.
– Надеюсь, что так, сэр, – сказал мистер Гэмфилд с отвратительной усмешкой.
– Я в этом не сомневаюсь, друг мой, – отозвался старый джентльмен, прочнее водрузив очки на нос и озираясь в поисках чернильницы.
Это был решающий момент в жизни Оливера. Если бы чернильница находилась там, где предполагал ее найти старый джентльмен, он обмакнул бы в нее перо, подписал бумагу – и Оливер был бы немедленно уведен. Но так как она стояла под самым его носом, он, разумеется, осмотрев всю конторку, не нашел ее, и, когда, продолжая поиски, случайно посмотрел прямо перед собой, взгляд его упал на бледное, испуганное лицо Оливера Твиста, который, не обращая внимания на предостерегающие взоры и щипки Бамбла, глядел на отвратительную физиономию своего будущего хозяина со страхом и ужасом, столь нескрываемым, что этого не мог не заметить даже подслеповатый судья. Старый джентльмен помедлил, положил перо и перевел взгляд с Оливера на мистера Лимкинса, который взял понюшку табаку, стараясь принять беззаботный и независимый вид.
– Мальчик! – сказал старый джентльмен, перегнувшись через конторку.
Оливер вздрогнул при этих словах. Ему можно простить это, потому что голос звучал ласково, а незнакомые звуки пугают людей. Он задрожал всем телом и залился слезами.
– Мальчик, – повторил старый джентльмен, – ты бледен и взволнован. В чем дело?
– Отойдите от него, бидл… – сказал другой судья, отложив газету и с любопытством наклонившись вперед. – А теперь, мальчик, объясни нам, в чем дело. Не бойся.
Оливер упал на колени и, сжав руки, стал умолять, чтобы его отослали обратно в темную комнату… морили голодом… избивали… убили, если это им угодно, но только не отправляли с этим страшным человеком.
– Вот как! – сказал мистер Бамбл, весьма торжественно воздев руки и возведя очи горе. – Вот как! Из всех лукавых и коварных сирот, каких я когда-либо видел, ты, Оливер, самый наглый из наглых.
– Придержите язык, бидл, – сказал второй старый джентльмен, когда мистер Бамбл произнес этот сложный эпитет.
– Прошу прощения, ваша честь, – сказал мистер Бамбл, не веря своим ушам. – Ваша честь изволили обращаться ко мне?
– Да. Придержите язык.
Мистер Бамбл остолбенел от изумления. Бидлу приказано придержать язык! Светопреставление!
Старый джентльмен в очках в черепаховой оправе посмотрел на своего коллегу. Тот многозначительно кивнул головой.
– Мы отказываемся утвердить этот договор, – сказал старый джентльмен, отбрасывая в сторону пергамент.
– Н…надеюсь… – заикаясь начал мистер Лимкинс, – я надеюсь, что, основываясь на показаниях ребенка, ничем не подкрепленных, судьи не придут к тому заключению, будто приходские власти виновны в каком-нибудь недостойном поступке.