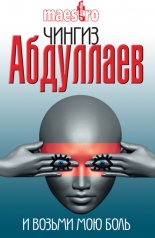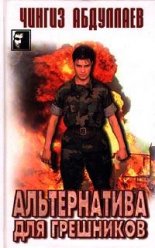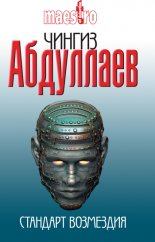Домби и сын Диккенс Чарльз
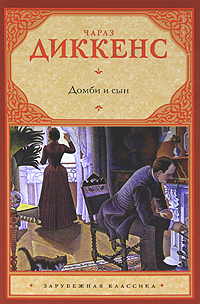
– И, пожалуй, пикулей, – подсказала мисс Токс.
– За этими исключениями, моя дорогая, – сказала Луиза, – она может руководствоваться своими вкусами и ни в чем себе не отказывать.
– А затем вам, конечно, известно, – сказала мисс Токс, – как она любит своего собственного дорогого малютку, и я уверена, Луиза, вы не осуждаете ее за то, что она его любит?
– О нет! – воскликнула миссис Чик, полная великодушия.
– Однако, – продолжала мисс Токс, – она, естественно, должна интересоваться своим юным питомцем и почитать за честь, что на ее глазах маленький херувим, тесно связанный с высшим обществом, ежедневно черпает силы из единого для всех источника. Не правда ли, Луиза?
– Совершенно верно! – подтвердила миссис Чик. – Вы видите, моя дорогая, она уже совершенно спокойна и довольна и собирается весело и с улыбкой попрощаться со своей сестрой Джемаймой, своими малютками и со своим добрым честным мужем. Не правда ли, дорогая моя?
– О да! – воскликнула мисс Токс. – Разумеется!
Несмотря на это, бедная Полли перецеловала их всех с великой скорбью и наконец убежала, чтобы ускользнуть от более нежного прощанья с детьми. Но эта хитрость не увенчалась заслуженным успехом, ибо один из младших мальчиков, угадав ее намерение, тотчас начал карабкаться – если можно применить это слово с сомнительной этимологией – вслед за нею на четвереньках по лестнице, а старший (известный в семье под кличкой Байлера[4] – в честь паровоза) отбивал дьявольскую чечетку сапогами в знак своего огорчения; к нему присоединились и все прочие члены семейства.
Множество апельсинов и полупенсов, посыпавшихся на всех без исключения юных Тудлей, успокоили первые приступы горя, и семейство было поспешно отправлено домой в наемной карете, которую задержали специально для этой цели. Дети под охраной Джемаймы теснились у окна и всю дорогу роняли апельсины и полупенсы. Сам мистер Тудль предпочел ехать на запятках среди торчавших гвоздей – способ передвижения для него самый привычный.
Глава III,
в которой мистер Домби показан во главе своего домашнего департамента как человек и отец
Похороны скончавшейся леди «состоялись», к полному удовольствию владельца похоронного бюро, а также и всего окрестного населения, которое обычно расположено в таких случаях к придиркам и склонно возмущаться каждым промахом и упущением в церемонии, после чего многочисленные домочадцы мистера Домби вновь заняли соответствующие им места в домашней системе. Этот маленький мирок, подобно великому внешнему миру, отличался способностью быстро забывать своих умерших; и когда кухарка сказала: «У леди был кроткий нрав», а экономка сказала: «Таков наш удел», а дворецкий сказал: «Кто бы мог это подумать?», а горничная сказала, что «она едва может этому поверить», а лакей сказал: «Это похоже на сон», – событие окончательно покрылось ржавчиной, и они начали подумывать о том, что и траур их порыжел от носки.
Ричардс, которую держали наверху в почетном плену, заря новой жизни казалась холодной и серой. У мистера Домби был большой дом на теневой стороне темной, но элегантной улицы с высокими домами, между Портленд-Плейс и Брайанстонсквер. Это был угловой дом с просторными «двориками»[5], куда выходили погреба, которые хмуро взирали на свет своими зарешеченными окнами и презрительно щурились косоглазыми дверьми, ведущими к мусорным ящикам. Это был величественный и мрачный дом с полукруглым задним фасадом, с анфиладой зал, выходивших окнами на усыпанный гравием двор, где два чахлых дерева с почерневшими стволами скорее стучали, чем шелестели, – так были прокопчены их листья. Летом солнце заглядывало в эту улицу только по утрам, примерно в час первого завтрака, появляясь вместе с водовозами, старьевщиками, торговцами геранью, починщиком зонтов и человеком, который на ходу позвякивал колокольчиком от голландских часов. Вскоре оно вновь скрывалось, чтобы больше уже не показываться в тот день, а музыканты и бродячий Панч, скрываясь вслед за ним, уступали улицу самым заунывным шарманкам и белым мышам или иной раз дикобразу – чтобы разнообразить увеселительные номера; а в сумерках дворецкие, когда их хозяева обедали в гостях, появлялись у дверей своих домов, и фонарщик каждый вечер терпел неудачу, пытаясь с помощью газа придать улице более веселый вид.
И внутри этот дом был так же мрачен, как снаружи. После похорон мистер Домби распорядился накрыть мебель чехлами, – быть может, желая сохранить ее для сына, с которым были связаны все его планы, – и не производить уборки в комнатах, за исключением тех, какие он предназначал для себя в нижнем этаже. Тогда таинственные сооружения образовались из столов и стульев, составленных посреди комнат и накрытых огромными саванами. Ручки колокольчиков, жалюзи и зеркала, завешенные газетами и журналами, ежедневными и еженедельными, навязывали отрывочные сообщения о смертях и страшных убийствах. Каждый канделябр, каждая люстра, закутанные в полотно, напоминали чудовищную слезу, падающую из глаза на потолке. Из каминов неслись запахи, как из склепа или сырого подвала. Портрет умершей и похороненной леди, в рамке, повитой трауром, наводил страх. Каждый порыв ветра, налетая из-за угла соседних конюшен, приносил клочья соломы, которая была постлана перед домом во время ее болезни и гниющие остатки которой еще сохранились по соседству; притягиваемые какой-то неведомой силой к порогу грязного, сдающегося внаем дома напротив, они с мрачным красноречием взывали к окнам мистера Домби.
Апартаменты, которые оставил для себя мистер Домби, сообщались с холлом и состояли из гостиной, библиотеки (которая была, в сущности, туалетной комнатой, так что запах атласной и веленевой бумаги, сафьяна и юфти состязался здесь с запахом многочисленных пар башмаков) и оранжереи, или маленького застекленного будуара, откуда видны были упоминавшиеся выше деревья и – иной раз – крадущаяся кошка. Эти три комнаты были расположены одна за другой. По утрам, когда мистер Домби завтракал в одной из первых двух комнат, а также под вечер, когда он возвращался домой к обеду, раздавался звонок, призывавший Ричардс, которая являлась в застекленное помещение и там прогуливалась со своим юным питомцем. Бросая по временам взгляды на мистера Домби, сидевшего в темноте и посматривавшего на младенца из-за темной тяжелой мебели – в этом доме много лет прожил его отец и в обстановке оставалось немало старомодного и мрачного, – она стала размышлять о мистере Домби и его уединении, словно он был узником, заключенным в одиночную камеру, или странным привидением, которого нельзя ни окликнуть, ни понять.
Уже несколько недель кормилица маленького Поля Домби сама вела такую жизнь и проносила сквозь нее маленького Поля; и вот однажды, когда она вернулась наверх после меланхолической прогулки в угрюмых комнатах (она никогда не выходила из дому без миссис Чик, которая являлась по утрам в хорошую погоду, обычно в сопровождении мисс Токс, чтобы вывести на свежий воздух ее с младенцем, или, иными словами, торжественно водить их по улице, словно в похоронной процессии) и сидела у себя, – дверь медленно и тихо отворилась, и в комнату заглянула маленькая темноглазая девочка.
«Должно быть, это мисс Флоренс вернулась домой от своей тетки», – подумала Ричардс, еще ни разу не видевшая девочки.
– Надеюсь, вы здоровы, мисс?
– Это мой брат? – спросила девочка, указывая на младенца.
– Да, милочка, – ответила Ричардс. – Подойдите, поцелуйте его.
Но девочка, вместо того чтобы приблизиться, серьезно посмотрела ей в лицо и сказала:
– Что вы сделали с моей мамой?
– Господи помилуй, малютка! – воскликнула Ричардс. – Какой ужасный вопрос! Что я сделала? Ничего, мисс.
– Что они сделали с моей мамой? – спросила девочка.
– В жизни не видала такого чувствительного ребенка! – сказала Ричардс, которая, естественно, представила на ее месте одного из своих детей, осведомляющегося о ней при таких же обстоятельствах. – Подойдите поближе, милая моя мисс. Не бойтесь меня.
– Я вас не боюсь, – сказала девочка, подойдя к ней. – Но я хочу знать, что они сделали с моей мамой.
– Милочка, – сказала Ричардс, – вы носите это хорошенькое черное платьице в память своей мамы.
– Я помню маму во всяком платье, – возразила девочка со слезами на глазах.
– Но люди надевают черное, чтобы вспоминать о тех, кого уже нет.
– Где же они? – спросила девочка.
– Подойдите и сядьте возле меня, – сказала Ричардс, – а я вам что-то расскажу.
Тотчас догадавшись, что рассказ должен иметь какое-то отношение к ее вопросам, маленькая Флоренс положила шляпу, которую держала в руках, и присела на скамеечку у ног кормилицы, глядя ей в лицо.
– Жила когда-то на свете леди, – начала Ричардс, – очень добрая леди, и маленькая дочка горячо любила ее.
– Очень добрая леди, и маленькая дочка горячо любила ее, – повторила девочка.
– И вот, когда Бог пожелал, чтобы так случилось, она заболела и умерла.
Девочка вздрогнула.
– Умерла, и никто уже не увидит ее больше на этом свете, и ее зарыли в землю, где растут деревья.
– В холодную землю? – сказала девочка, снова вздрогнув.
– Нет! В теплую землю, – возразила Полли, воспользовавшись удобным случаем, – где некрасивые маленькие семена превращаются в прекрасные цветы, в траву и колосья и мало ли во что еще. Где добрые люди превращаются в светлых ангелов и улетают на небо.
Девочка, опустившая было голову, снова подняла глаза и сидела, пристально глядя на Полли.
– Так вот, послушайте-ка, – продолжала Полли, не на шутку взволнованная этим пытливым взглядом, своим желанием утешить ребенка, неожиданным своим успехом и недоверием к собственным силам. – Так вот, когда эта леди умерла, куда бы ее ни отнесли и где бы ни положили – все равно она пошла к Богу, и стала эта леди молиться ему, да, молиться, – повторила Полли, очень растроганная, ибо говорила от всей души, – о том, чтобы он научил ее маленькую дочку верить этому всем сердцем и знать, что там она счастлива и любит ее по-прежнему, и надеяться, и всю жизнь думать о том, чтобы когда-нибудь встретиться там с нею и больше никогда, никогда не расставаться.
– Это моя мама! – воскликнула девочка, вскакивая и обнимая Полли за шею.
– А девочка, – продолжала Полли, прижимая ее к груди, – маленькая дочка верила всем сердцем, и когда услыхала о том от незнакомой кормилицы, которая и рассказать-то хорошенько не умела, но сама была бедной матерью, только и всего, – дочка утешилась… уже не чувствовала себя такой одинокой… плакала и рыдала у нее на груди… пожалела малютку, лежавшего у нее на коленях и… ну, полно, полно! – говорила Полли, приглаживая кудри девочки и роняя на них слезы. – Полно, бедняжечка!
– Вот как, мисс Флой! Ну и рассердится же ваш папенька! – раздался резкий голос, принадлежавший невысокой смуглой девушке, казавшейся старше своих четырнадцати лет, с вздернутым носиком и черными глазами, похожими на бусинки из агата. – Да ведь вам строго-настрого было приказано, чтобы вы не ходили сюда и не надоедали кормилице.
– Она мне не надоедает, – последовал удивленный ответ Полли. – Я очень люблю детей.
– Ах, прошу прощенья, миссис Ричардс, но это, видите ли, ничего не значит, – возразила черноглазая девушка, которая была так резка и язвительна, что, казалось, могла довести человека до слез. – Быть может, я очень люблю съедобных улиток, миссис Ричардс, но отсюда еще не следует, что мне должны подавать их к чаю.
– Ну, это пустяки, – сказала Полли.
– Ах вот как, благодарю вас, миссис Ричардс! – воскликнула резкая девушка. – Однако будьте так любезны припомнить, что мисс Флой на моем попечении, а мистер Поль – на вашем.
– Но все же нам незачем ссориться, – сказала Полли.
– О да, миссис Ричардс, – подхватила задира. – Вовсе незачем, я этого не хочу, не для чего нам становиться в такие отношения, раз при мисс Флой место постоянное, а при мистере Поле – временное.
Задира не делала никаких пауз, выпаливая все, что хотела сказать, в одной фразе и по возможности одним духом.
– Мисс Флоренс только что вернулась домой? – спросила Полли.
– Да, миссис Ричардс, только что вернулась, и вот, мисс Флой, не успели вы и четверти часа провести дома, как уже третесь мокрым лицом о дорогое траурное платье, которое миссис Ричардс носит по вашей маменьке!
После такого выговора молодая задира, чье настоящее имя было Сьюзен Нипер, насильно оторвала девочку от ее нового друга – словно зуб вырвала. Но, казалось, она это сделала без всякого злого умысла, а скорее от чрезмерного служебного рвения.
– Теперь она опять дома и будет счастлива, – сказала Полли, кивая ей головой, и ободряющая улыбка появилась на добродушном ее лице. – А как же она обрадуется, когда увидит вечером своего дорогого папу!
– Эх, миссис Ричардс! – воскликнула мисс Нипер, тотчас подхватывая ее слова. – Полноте! Увидит своего дорогого папу, как бы не так! Хотела б я на это посмотреть!
– А разве она его не увидит? – спросила Полли.
– Э нет, миссис Ричардс, ее папенька чересчур уж много занят кем-то другим, да и покуда еще не было кого-то другого, она никогда не была любимицей; в этом доме девочек ни во что не ставят, миссис Ричардс, могу вас уверить!
Флоренс быстро переводила взгляд с одной няньки на другую, словно понимала и чувствовала, о чем идет речь.
– Вот тебе на! – воскликнула Полли. – Неужто мистер Домби не видал ее с той поры…
– Ну да, – перебила Сьюзен Нипер. – Не видал с той поры ни разу, да и раньше по месяцам почти не глядел на нее, и вряд ли признает в ней свою дочь, если завтра встретит на улице, а что до меня, миссис Ричардс, – хихикнув, добавила задира, – то я подозреваю, что он не знает о моем существовании.
– Милая крошка! – сказала Ричардс, имея в виду не мисс Нипер, а маленькую Флоренс.
– О да, здесь сущий ад на сто миль кругом, смею вас заверить, миссис Ричардс, не говоря, разумеется, о присутствующих, – сказала Сьюзен Нипер. – Желаю вам доброго утра, миссис Ричардс, ну-с, мисс Флой, извольте идти со мной и не упирайтесь, как непослушный, капризный ребенок, который не умеет вести себя примерно.
Несмотря на такое увещание и несмотря также на подталкивания Сьюзен Нипер, грозившие вывихом правого плеча, маленькая Флоренс вырвалась и нежно поцеловала своего нового друга.
– Прощайте! – сказала девочка. – Благослови вас Бог. Скоро я опять к вам приду, и вы ко мне придете. Сьюзен нам позволит. Позволите, Сьюзен?
В общем, задира была, по-видимому, добродушной маленькой особой, хотя и принадлежала к той школе воспитателей юных умов, которая считает, что детей, как и деньги, следует хорошенько встряхивать, тереть и перетирать, чтобы придать им блеск. Ибо, услышав эту просьбу, сопровождавшуюся умоляющими жестами и ласками, она скрестила ручки, покачала головой, и взгляд ее широко раскрытых черных глаз стал мягче.
– Нехорошо, что вы меня об этом просите, мисс Флой, вы ведь знаете, что я не могу вам отказать, но мы с миссис Ричардс подумаем, что тут можно сделать, если миссис Ричардс пожелает… мне, видите ли, миссис Ричардс, может быть, хочется прокатиться в Китай, но, быть может, я не знаю, как выбраться из лондонских доков.
Ричардс согласилась с этим заявлением.
– Не такое уж веселье царит в этом доме, – сказала мисс Нипер, – чтобы человеку захотелось большего одиночества, чем то, какое поневоле выносишь. Ваши Токсы и ваши Чики могут вырвать у меня по два передних зуба, миссис Ричардс, но это еще не причина, почему я должна предложить им всю челюсть.
Это заявление было также принято Ричардс как не вызывающее сомнений.
– Так будьте уверены, – сказала Сьюзен Нипер, – что я готова жить в дружбе, миссис Ричардс, покуда вы остаетесь при мистере Поле, если удастся что-нибудь выдумать, не нарушая открыто приказаний, но, Господи помилуй, мисс Флой, вы до сих пор еще не разделись, непослушная вы девочка, ступайте!
С этими словами Сьюзен Нипер, прибегнув к насилию, налетела на свою юную питомицу и вымела ее из комнаты.
Девочка, тоскующая и заброшенная, была такой кроткой, такой тихой и безответной, столько было в ней нежности, которая, казалось, никому не была нужна, и столько болезненной чуткости, которую, казалось, никто не замечал и не боялся ранить, что у Полли сжалось сердце, когда она снова осталась одна. Простой разговор между нею и осиротевшей девочкой растрогал ее материнское сердце не меньше, чем сердце ребенка; и так же, как ребенок, она почувствовала, что с этой минуты между ними возникли доверие и близость.
Несмотря на то, что мистер Тудль во всем полагался на Полли, она вряд ли превосходила его в области приобретенных познаний. Но она была наглядным образцом женской натуры, которая в целом может лучше, честнее, выше, благороднее, быстрее почувствовать и проявить большее постоянство в нежности и сострадании, самопожертвовании и преданности, чем натура мужская. Хотя она ничему не училась, она могла бы с самого начала дать мистеру Домби крупицу знания, которое, в этом случае, не поразило бы его впоследствии как молния.
Но мы уклонились в сторону. В настоящее время Полли помышляла только о том, как бы укрепить завоеванную благосклонность мисс Нипер и придумать способ, чтобы маленькая Флоренс могла быть с нею, не нарушая запретов и не проявляя непокорности. В тот же вечер представился удобный случай.
Как обыкновенно, она по звонку сошла вниз в застекленную комнату и долго прогуливалась с ребенком на руках, как вдруг, к великому ее изумлению и испугу, появился мистер Домби и остановился перед ней.
– Добрый вечер, Ричардс.
Все тот же строгий, чопорный джентльмен, каким она увидела его в тот первый день. Джентльмен с таким суровым взглядом, что она невольно потупилась и сделала реверанс.
– Как поживает мистер Поль, Ричардс?
– Растет, сэр, здоров.
– Вид у него здоровый, – сказал мистер Домби, всматриваясь с величайшим вниманием в крохотное личико, которое она приоткрыла, и, однако, притворяясь в какой-то мере равнодушным. – Надеюсь, вы получаете все, что хотите?
– Да, сэр, благодарю вас.
Однако она с таким замешательством дала этот ответ, что мистер Домби, который уже отошел от нее, остановился и снова повернулся к ней с вопросительным видом.
– Мне кажется, сэр, чтобы развлечь и развеселить ребенка, ничего не может быть лучше, как позволить другим детям играть около него, – набравшись храбрости, заметила Полли.
– Когда вы поступили сюда, Ричардс, – нахмурившись, сказал мистер Домби, – я, кажется, высказал желание, чтобы вы как можно реже виделись со своей семьей. Будьте добры, продолжайте свою прогулку.
С этими словами он удалился во внутренние комнаты, а Полли догадалась, что он совсем не понял ее намерения и что она впала в немилость, отнюдь не приблизившись к цели.
На следующий вечер, сойдя вниз, она увидела, что мистер Домби прогуливается по оранжерее. Она остановилась в дверях, смущенная этим необычным зрелищем, не зная, идти ли ей дальше, или отступить; он подозвал ее.
– Если вы действительно считаете, что такое общество полезно ребенку, – сказал он отрывисто, словно только что услышал предложение кормилицы, – то где же мисс Флоренс?
– Никого лучше не найти, чем мисс Флоренс, сэр, – с жаром подхватила Полли, – но со слов ее маленькой служанки я поняла, что им не…
Мистер Домби позвонил и зашагал по комнате, пока не явился слуга.
– Распорядитесь, чтобы мисс Флоренс приводили к Ричардс, когда она пожелает, отпускали с ней на прогулку и так далее. Распорядитесь, чтобы детям разрешали быть вместе, когда этого захочет Ричардс.
Железо было горячо, и Ричардс, смело принявшись его ковать, – это было доброе дело, и она не теряла мужества, хотя инстинктивно боялась мистера Домби, – пожелала, чтобы мисс Флоренс немедленно спустилась сюда и познакомилась со своим маленьким братом.
Она сделала вид, будто баюкает ребенка, когда слуга ушел исполнять поручение, но ей почудилось, что мистер Домби побледнел, что выражение его лица резко изменилось, что он быстро повернулся, словно хотел взять назад свои слова, ее слова или и те и другие, а удержал его только стыд.
И она была права. В последний раз он видел свою заброшенную дочь в объятиях умирающей матери, что было для него и откровением и укоризной. Как ни был он поглощен Сыном, на которого возлагал такие большие надежды, он не мог забыть эту заключительную сцену. Он не мог забыть о том, что не принимал в ней никакого участия, что в прозрачных глубинах нежности и правды эти два существа сжимали друг друга в объятиях, тогда как он сам стоял на берегу, глядя на них сверху вниз как простой зритель – не соучастник, отвергнутый.
Так как он не в силах был отогнать эти воспоминания и не задумываться над теми неясными образами, исполненными смысла, какие он мог различить сквозь туман своей гордыни, прежнее его равнодушие к маленькой Флоренс сменилось какою-то странной неловкостью. У него появилось такое ощущение, как будто она следит за ним и не доверяет ему. Как будто у нее есть ключ от какой-то тайны, спрятанной в его сердце, природа которой вряд ли была известна ему самому. Как будто ей дано знать об одной дребезжащей и ненастроенной струне в нем, и от одного ее дыхания эта струна может зазвучать.
Его отношение к девочке было отрицательным с самого ее рождения. Он никогда не питал к ней отвращения – не стоило труда, да это и не было ему свойственно. Явной неприязни он к ней не чувствовал. Но теперь она приводила его в смущение. Она нарушала его покой. Он предпочел бы совершенно прогнать мысли о ней, если бы знал, как это сделать. Быть может – кто разгадает такие тайны? – он боялся, что возненавидит ее.
Когда маленькая Флоренс боязливо вошла, мистер Домби прервал свое хождение и посмотрел на нее. Посмотри он на нее с большим интересом, глазами отца, он прочел бы в ее зорком взгляде волнения и страхи, приводившие ее в замешательство; страстное желание прильнуть к нему, спрятать лицо на его груди и воскликнуть: «О, папа, постарайтесь полюбить меня! У меня никого больше нет!»; опасение, что ее оттолкнут; боязнь оказаться слишком дерзкой и оскорбить его; мучительную потребность в поддержке и ободрении. И, наконец, он увидел бы, как ее детское сердце, обремененное непосильной ношей, ищет какого-нибудь естественного прибежища и для скорби своей и для любви.
Но ничего этого он не видел. Он видел только, как она нерешительно остановилась в дверях и посмотрела в его сторону; и больше ничего он не видел.
– Войди, – сказал он, – войди. Чего боится эта девочка?
Она вошла и, неуверенно посмотрев вокруг, остановилась у самой двери, крепко сжимая маленькие ручки.
– Подойди, Флоренс, – холодно сказал отец. – Ты знаешь, кто я?
– Да, папа.
– Не хочешь ли ты что-нибудь сказать мне?
Слезы, выступившие у нее на глазах, когда она посмотрела на него, застыли под его взглядом. Она снова потупилась и протянула дрожащую руку.
Мистер Домби небрежно взял ее за руку и с минуту стоял, глядя на нее, словно не знал, как не знал и ребенок, что нужно сказать или сделать.
– Ну, вот! Будь хорошей девочкой, – сказал он, гладя ее по голове и украдкой бросая на нее смущенный и недоверчивый взгляд. – Ступай к Ричардс! Ступай!
Его маленькая дочь помедлила секунду, как будто все еще хотела прильнуть к нему или питала слабую надежду, что он возьмет ее на руки и поцелует. Она еще раз подняла на него глаза. Он вспомнил, что такое же выражение лица было у нее, когда она оглянулась и посмотрела на доктора – в тот вечер, – и инстинктивно выпустил ее руку и отвернулся.
Нетрудно было заметить, что Флоренс много проигрывала в присутствии отца. Связаны были не только мысли девочки, но и природная ее грация и свобода движений. Все же Полли, видя это, не утратила бодрости духа и, судя о мистере Домби по себе, возлагала надежды на безмолвный призыв – траурное платье бедной маленькой Флоренс. «Право же, это жестоко, – думала Полли, – если он любит только одного осиротевшего ребенка, когда у него перед глазами еще один, и к тому же девочка».
Поэтому Полли старалась удержать ее подольше перед его глазами и ловко нянчила маленького Поля, чтобы показать, как он оживился в обществе сестры. Когда пришло время идти наверх, она послала было Флоренс в соседнюю комнату пожелать отцу спокойной ночи, но девочка смутилась и попятилась, а когда Полли начала настаивать, она прикрыла глаза рукой, словно прячась от своего собственного ничтожества, и воскликнула:
– О нет, нет! Я ему не нужна! Я ему не нужна!
Этот маленький спор привлек внимание мистера Домби; не вставая из-за стола, за которым он пил вино, мистер Домби осведомился, в чем дело.
– Мисс Флоренс боится, что помешает, сэр, если войдет пожелать вам спокойной ночи, – сказала Ричардс.
– Ничего, ничего! – отозвался мистер Домби. – Пусть приходит и уходит, когда ей вздумается.
Девочка съежилась, услышав это, и ушла, прежде чем ее скромная приятельница успела оглянуться.
Впрочем, Полли очень радовалась успеху своего благого замысла и той ловкости, с какою она его осуществила, о чем и сообщила со всеми подробностями задире, как только снова водворилась благополучно наверху. Мисс Нипер приняла это доказательство ее доверия, а также надежду на свободное общение их в будущем довольно холодно и не проявила никакого восторга.
– Я думала, что вы останетесь довольны, – сказала Полли.
– О, еще бы, миссис Ричардс, я чрезвычайно довольна, благодарю вас! – отвечала Сьюзен, которая внезапно выпрямилась так, как будто вставила себе добавочную кость в корсет.
– По вас это не видно, – сказала Полли.
– О, ведь я всего-навсего постоянная, а не временная, так нечего и ждать, чтобы по мне было видно! – сказала Сьюзен Нипер. – Я вижу, что временные одерживают здесь верх, но хотя между этим домом и соседним прекрасная стенка, однако, несмотря ни на что, мне, может быть, все-таки не хочется очутиться припертой к ней, миссис Ричардс!
Глава IV,
в которой на сцене, где развертываются события, впервые выступают новые лица
Хотя контора Домби и Сына находилась в пределах вольностей лондонского Сити и звона колоколов Сент-Мэри-леБоу, когда гулкие голоса их еще не тонули в уличном шуме, однако кое-где по соседству можно было подметить следы отважной и романтической жизни. Гог и Магог[6] во всем своем великолепии пребывали в десяти минутах ходьбы; Королевская биржа находилась поблизости; Английский банк с его подземельями, наполненными золотом и серебром, «там внизу, среди мертвецов», был величественным их соседом. За углом высился дом богатой Ост-Индской компании, наводя на мысль о драгоценных тканях и камнях, о тиграх, слонах, широких седлах с балдахином, кальянах, зонтах, пальмах, паланкинах и великолепных смуглых принцах, сидящих на ковре, в туфлях с сильно загнутыми вверх носками. Всюду по соседству можно было увидеть изображения кораблей, устремляющихся на всех парусах во все части света; товарные склады, готовые отправить в путь кого угодно и куда угодно, в полном снаряжении, через полчаса; и маленьких деревянных мичманов в устаревшей морской форме, находившихся над входом в лавки морских инструментов и вечно наблюдавших за наемными каретами.
Единственный хозяин и владелец одной из таких фигурок – той, которую можно было бы назвать фамильярно самой деревянной, – той, которая возвышалась над тротуаром, выставив вперед правую ногу с учтивостью поистине невыносимой, обладала пряжками на башмаках и жилетом с лацканами, поистине неприемлемыми для человеческого разума, и подносила к правому глазу некий возмутительно несоразмерный инструмент, – единственный хозяин и владелец этого Мичмана, – вдобавок гордившийся им, – пожилой джентльмен в валлийском парике[7], вносил арендную плату, налоги и пошлины в течение большего числа лет, чем насчитывали многие великовозрастные мичманы во плоти и крови, а в мичманах, которые достигли бодрой старости, не было недостатка в английском флоте.
Запас товаров этого старого джентльмена состоял из хронометров, барометров, подзорных труб, компасов, карт морских и географических, секстантов, квадрантов и образцов всевозможных инструментов, какими пользуются, прокладывая курс судна, ведя судовые вычисления и определяя местонахождение корабля. В ящиках и на полках хранились у него предметы из меди и стекла, и никто, кроме посвященных, не мог бы определить, где у них верх, или угадать способ их применения, или же, осмотрев их, снова уложить без посторонней помощи в их гнезда из красного дерева. Каждая вещь была втиснута в самый узкий футляр, вложена в самое тесное отделение, защищена самыми нелепыми подушечками и привинчена туго-натуго, дабы философическое ее спокойствие не пострадало от морской качки. Такие необычайные меры предосторожности были приняты решительно во всем, с целью сэкономить место и уложить вещи потеснее, и столько практической навигации было прилажено, защищено подушками и втиснуто в каждый ящик (был ли то обыкновенный четырехугольный ящик, как иные из них, или нечто среднее между треуголкой и морской звездой, или же ящики простенькие и скромные), что и сама лавка поддалась заразительному влиянию и как будто превратилась в уютное мореходное, корабельного типа сооружение, которое в случае неожиданного спуска на воду нуждалось только в морских просторах, чтобы благополучно приплыть к любому необитаемому острову на земном шаре.
Многие более мелкие детали в хозяйстве мастера корабельных инструментов, гордившегося своим Маленьким Мичманом, поддерживали и упрочивали эту иллюзию. Так как его знакомыми были преимущественно судовые поставщики и тому подобные люди, то на столе у него всегда находились в большом количестве настоящие морские сухари. Этот стол был в дружеских отношениях с сушеным мясом и языками, отличавшимися своеобразным запахом пеньки. Соленья появлялись на нем в огромных оптовых банках с ярлыками: «Поставщик всех видов провианта для судов»; спиртные напитки подавались в плетеных фляжках без горлышка. Старые гравюры, изображающие корабль, с алфавитными указателями, относящимися к многочисленным его тайнам, висели в рамах на стене; восточный фрегат под парусами красовался на полке; заморские раковины, водоросли и мхи украшали камин; в маленькую, отделанную панелью гостиную свет проникал, как в каюту, через светлый люк.
Здесь жил он, на положении шкипера, один со своим племянником Уолтером, четырнадцатилетним мальчиком, который в достаточной мере походил на мичмана, чтобы не нарушать общего впечатления. Но этим и кончалось дело, ибо сам Соломон Джилс (чаще именуемый старым Солем) отнюдь не имел сходства с моряками. Не говоря уже о его валлийском парике, который был самым безобразным и упрямым из всех валлийских париков и в котором он был похож на что угодно, но только не на пирата, это был медлительный, задумчивый старик с тихим голосом, с глазами красными, как маленькие солнца, глядящие на вас сквозь туман, и с видом человека, только что проснувшегося, каковой он мог приобрести, если бы смотрел дня три-четыре подряд во все оптические инструменты своей лавки, а затем внезапно вернулся к окружающему его миру и нашел его помолодевшим. Единственная перемена, которую можно было наблюдать во внешнем его виде, сводилась к тому, что костюм кофейного цвета и широкого покроя, украшенный блестящими пуговицами, уступал место костюму того же кофейного цвета, но с панталонами из светлой нанки. Он носил аккуратнейшее жабо, превосходные очки на лбу и огромный хронометр в кармане и скорее поверил бы в заговор, составленный всеми стенными и карманными часами Сити и даже самим солнцем, чем усомнился в таком драгоценном инструменте. Таким, каков был он теперь, – таким пребывал он в лавке и в гостиной позади Маленького Мичмана многие и многие годы; каждый вечер он в одно и то же время шел спать в унылую мансарду, находившуюся в стороне от остальных жильцов; там частенько бушевал ураган, в то время как английские джентльмены, спокойно проживавшие внизу, почти или вовсе не имели понятия о погоде. В половине шестого в осенний вечер читатель и Соломон Джилс завязывают знакомство. Соломон Джилс занят тем, что смотрит, который час показывает его безупречный хронометр. Обычная каждодневная очистка Сити от людей уже длилась больше часу, а человеческий поток все еще катится к западу. «Толпа на улице сильно поредела», как говорит мистер Джилс. Вечер обещает быть дождливым. Все барометры в лавке упали духом, и дождевые капли уже блестят на треуголке Деревянного Мичмана.
– Хотел бы я знать, где Уолтер? – сказал Джилс, заботливо спрятав хронометр. – Вот уже полчаса, как обед готов, а Уолтера нет!
Повернувшись на своем табурете за конторкой, Джилс выглянул из-за инструментов в окно, не переходит ли его племянник улицу. Нет. Его не было среди раскачивающихся зонтов, и уж, конечно, за него нельзя было принять мальчишку-газетчика в клеенчатой кепке, который медленно проходил мимо медной доски снаружи, указательным пальцем выписывая свое имя над именем мистера Джилса.
– Если бы я не знал, что он слишком меня любит, чтобы удрать и против моего желания поступить на судно, я бы начал беспокоиться, – сказал мистер Джилс, постукивая согнутыми пальцами по двум-трем барометрам. – Право же, начал бы. «Весь в Даунсе»[8], а? Большая влажность! Ну что ж! Дождь нужен.
– Мне кажется, – сказал мистер Джилс, сдувая пыль со стеклянной крышки компаса, – мне кажется, что в конце концов ты склоняешься к задней гостиной не более точно и прямо, чем мальчик. А гостиная обращена как нельзя правильнее. Прямо на север. Нет уклонения хотя бы на одну двадцатую ни в ту ни в другую сторону.
– Здравствуйте, дядя Соль!
– Здравствуй, мой мальчик! – воскликнул мастер судовых инструментов, живо оборачиваясь. – А, так ты уже здесь?
Бодрый, веселый мальчик, оживившийся от быстрой ходьбы под дождем, миловидный, с блестящими глазами и вьющимися волосами.
– Ну, что, дядя, как вы здесь поживали без меня весь день? Готов обед? Как я голоден!
– Что касается того, как я поживал, – добродушно сказал Соломон, – то странно было бы, если бы без такого повесы, как ты, мне не жилось гораздо лучше. Что касается обеда, то вот уже полчаса, как он готов и ждет тебя. А что касается голода, то и я голоден.
– Ну, так идемте, дядя! – воскликнул мальчик. – Ура адмиралу!
– К черту адмирала! – возразил Соломон Джилс. – Ты хочешь сказать – лорд-мэру.
– Нет, не хочу! – закричал мальчик. – Адмиралу – ура! Адмиралу – ура! Вперед!
После такой команды валлийский парик и его обладатель были доставлены без сопротивления в заднюю гостиную, словно во главе абордажного отряда в пятьсот человек, и дядя Соль со своим племянником живо принялись за жареную камбалу, имея в перспективе бифштекс.
– Лорд-мэр, Уоли, – сказал Соломон, – на веки вечные! Больше никаких адмиралов. Лорд-мэр – вот твой адмирал.
– Да неужели? – сказал мальчик, покачивая головой. – Даже меченосец[9] все-таки лучше, чем он. Тот хоть иногда обнажает свой меч.
– И при этом имеет глупейший вид, несмотря на все свои старанья, – возразил дядя. – Послушай меня, Уоли, послушай меня. Взгляни на каминную полку.
– Кто же это повесил мою серебряную кружку на гвоздь? – воскликнул мальчик.
– Я, – ответил дядя. – Никаких больше кружек. С сегодняшнего дня мы должны приучаться пить из стаканов, Уолтер. Мы люди торговые. Мы связаны с Сити. Сегодня утром мы начали новую жизнь.
– Ладно, дядя, – сказал мальчик, – я буду пить из чего вам угодно, пока могу пить за ваше здоровье. За ваше здоровье, дядя Соль, и ура…
– Лорд-мэру, – перебил старик.
– Лорд-мэру, шерифам, городскому совету и всем городским властям, – сказал мальчик. – Многая лета!
Дядя, вполне удовлетворенный, кивнул головой.
– А теперь, – сказал он, – послушаем о фирме.
– Ну что касается фирмы, много не расскажешь, дядя, – сказал мальчик, орудуя ножом и вилкой. – Это ужасно темный ряд конторских помещений, а в той комнате, где я сижу, есть высокая каминная решетка, железный несгораемый шкаф, объявления о судах, которые должны отплыть, календарь, несколько конторок и табуреток, бутылка чернил, книги и ящики и много паутины, а в паутине, как раз над моей головой, высохшая синяя муха; у нее такой вид, как будто она давным-давно там висит.
– И это все? – спросил дядя.
– Да, все, если не считать старой клетки для птиц (не понимаю, как она туда попала!) и ведерка для угля.
– Неужели нет банковских книг, или чековых книг, счетов, или каких-нибудь других признаков богатства, притекающего изо дня в день? – осведомился старый Соль, пытливо глядя на племянника из тумана, который как будто всегда окутывал его, и мягко подчеркивая слова.
– О да, этого, должно быть, очень много, – небрежно отвечал племянник, – но все это в кабинете мистера Каркера, мистера Морфина или мистера Домби.
– А мистер Домби был там сегодня? – осведомился дядя.
– О да. Весь день то приходил, то уходил.
– Вероятно, он никакого внимания на тебя не обращал?
– Нет, обратил. Подошел к моему месту, – хотел бы я, дядя, чтобы он не был таким важным и чопорным, – и сказал: «А, вы – сын мистера Джилса, мастера судовых инструментов?» – «Племянник, сэр», – отвечал я. «Молодой человек, я и сказал: племянник», – возразил он. Но я бы мог поклясться, дядя, что он сказал: «сын».
– Полагаю, что ты ошибся. Это не важно.
– Да, не важно, но я подумал, что ему незачем быть таким резким. Никакой беды в этом не было, хотя он и сказал: «сын». Затем он сообщил, что вы говорили с ним обо мне, и что он подыскал для меня занятие в конторе, и что я должен быть внимательным и аккуратным, а потом он ушел. Мне показалось, что я как будто не очень ему понравился.
– Вероятно, ты хочешь сказать, – заметил старый мастер, – что он как будто не очень тебе понравился.
– Ну, что ж, дядя, – смеясь, отозвался мальчик, – быть может, и так! Я об этом не подумал.
К концу обеда Соломон призадумался и время от времени всматривался в веселое лицо мальчика. Когда они пообедали и убрали со стола (обед был доставлен из соседнего ресторана), он зажег свечу и спустился в маленький погреб, а его племянник, стоя на заросшей плесенью лестнице, заботливо светил ему. Пошарив в разных местах, он вскоре вернулся с очень старой на вид бутылкой, покрытой пылью и паутиной.
– Как, дядя Соль! – воскликнул мальчик. – Что это вы задумали? Ведь это чудесная мадера! Там остается только одна бутылка.
Дядя Соль кивнул головой, давая понять, что он прекрасно знает, что делает; и, в торжественном молчании вытащив пробку, наполнил две рюмки и поставил бутылку и третью, чистую рюмку на стол.
– Последнюю бутылку ты разопьешь, Уоли, – сказал он, – когда добьешься удачи, когда будешь преуспевающим, уважаемым, счастливым человеком; когда жизнь, в которую ты вступил сегодня, выведет тебя – молю Бога об этом! – на ровную дорогу, тебе предназначенную, дитя мое. Будь счастлив!
Туман, окутывавший дядю Соля, словно проник ему в горло, ибо говорил он хрипло. И рука его дрожала, когда он чокался с племянником. Но, поднеся рюмку к губам, он осушил ее, как подобает мужчине, и причмокнул.
– Дорогой дядя! – сказал мальчик, притворяясь, будто относится к этому несерьезно, хотя слезы выступили у него на глазах. – В благодарность за честь, какую вы мне оказали и так далее, я предлагаю провозгласить сейчас трижды три раза и еще раз «ура» в честь мистера Соломона Джилса. Урра! А вы ответите на этот тост, дядя, когда мы вместе разопьем последнюю бутылку, хорошо?
Они снова чокнулись, и Уолтер, у которого еще оставалось вино в рюмке, пригубив его, поднес рюмку к глазам с самым критическим видом, какой только мог на себя напустить.
Дядя сидел и смотрел на него молча. Встретившись наконец с ним взглядом, он сейчас же начал развивать вслух занимавшие его мысли, как будто и не переставал говорить.
– Как видишь, Уолтер, – произнес он, – это торговое предприятие, по правде сказать, стало для меня только привычкой. Я так втянулся в эту привычку, что вряд ли мог бы жить, если бы от нее отказался; но дело не идет, не идет. Когда носили такую форму, – он указал в ту сторону, где стоял Маленький Мичман, – вот тогда действительно можно было нажить состояние, и его наживали. Но конкуренция, конкуренция… новые изобретения, новые изобретения… перемены, перемены… жизнь прошла мимо меня. Я едва ли знаю, где нахожусь я сам, и еще меньше того знаю, где мои покупатели.
– Незачем думать о них, дядя!
– Так, например, с той поры, как ты вернулся домой из пансиона в Пекеме, – а прошло уже десять дней, – сказал Соломон, – я помню только одного человека, который заглянул к нам в лавку.
– Двое, дядя, неужели вы забыли? Заходил мужчина, который просил разменять соверен…
– Это и есть тот один, – сказал Соломон.
– Как, дядя! Неужели вы не считаете за человека ту женщину, которая зашла спросить, как пройти к заставе Майл-Энд?
– Верно, – сказал Соломон. – Я забыл о ней. Двое.
– Правда, они ничего не купили! – воскликнул мальчик.
– Да. Они ничего не купили, – спокойно сказал Соломон.
– И ничего им не требовалось! – воскликнул мальчик.
– Да. Иначе они пошли бы в другую лавку, – тем же тоном сказал Соломон.
– Но их было двое, дядя! – крикнул мальчик, словно торжествуя победу. – А вы сказали – только один.
– Видишь ли, Уоли, – помолчав, продолжал старик, – так как мы не похожи на дикарей, высадившихся на остров Робинзона Крузо, то и не можем прожить на то, что мужчина просит разменять соверен, а женщина спрашивает, как добраться до заставы Майл-Энд. Как я только что сказал, жизнь прошла мимо меня. Я ее не осуждаю; но я ее больше не понимаю. Торговцы уже не те, какими были прежде, приказчики не те, торговля не та, товары не те. Семь восьмых моего запаса товаров устарели. Я – старомодный человек в старомодной лавке, на улице, которая уже не та, какой я ее помню. Я отстал от века и слишком стар, чтобы догнать его. Даже шум его, где-то далеко впереди, приводит меня в смущение.
Уолтер хотел заговорить, но дядя поднял руку.
– Потому-то, Уоли, потому-то я и хочу, чтобы ты пораньше вступил в деловой мир и вышел на широкую дорогу. Я только призрак этого торгового предприятия, самая сущность его исчезла давно, а когда я умру, то и призрак будет похоронен. Ясно, что для тебя это не наследство, и потому-то я счел наилучшим воспользоваться в твоих интересах едва ли не единственной из прежних связей, сохранившейся в силу долгой привычки. Иные думают, что я богат. Хотел бы я в твоих интересах, чтобы они были правы. Но что бы после меня ни осталось и что бы я ни дал тебе, ты в такой фирме, как Домби, имеешь возможность пустить это в оборот и приумножить. Будь прилежен, старайся полюбить это дело, милый мой мальчик, работай, чтобы стать независимым, и будь счастлив!
– Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать вашу любовь. Да, сделаю, – серьезно сказал мальчик.
– Я знаю, – сказал Соломон. – Я в этом уверен. – И он с сугубым удовольствием принялся за вторую рюмку старой мадеры. – Что же касается моря, – продолжал он, – то оно хорошо в мечтах, Уоли, и не годится на деле, совсем не годится. Вполне понятно, что ты о нем думал, связывая его со всеми этими знакомыми вещами; но оно не годится на деле, не годится.
Однако Соломон Джилс, рассуждая о море, с тайным удовольствием потирал руки и посматривал вокруг на вещи, имеющие отношение к мореплаванию, с невыразимой благосклонностью.
– Вот, например, подумай об этом вине, – сказал старый Соль, – которое, не знаю сколько раз, совершало путешествие в Ост-Индию и обратно и один раз объехало вокруг света. Подумай о непроглядных ночах, ревущем ветре, набегающих волнах…
– О громе, молнии, дожде, граде, штормах, – вставил мальчик.
– Несомненно, – сказал Соломон, – вино перенесло все это. Подумай о том, как гнулись и скрипели доски и мачты, как свистел и завывал ветер в снастях.
– Как взбирались наверх матросы, обгоняя друг друга, чтобы поскорее убрать обледеневшие паруса, в то время как корабль кренился и зарывался носом, словно одержимый! – вскричал племянник.
– Да, все это, – сказал Соломон, – испытал на себе старый бочонок, в котором было это вино. Когда «Красотка Салли» пошла ко дну в…
– В Балтийском море, глубокой ночью; было двадцать пять минут первого, когда часы капитана остановились у него в кармане; он лежал мертвый, у грот-мачты, четырнадцатого февраля тысяча семьсот сорок девятого года! – вскричал Уолтер с большим воодушевлением.
– Да, правильно! – воскликнул старый Соль. – Совершенно верно! Тогда на борту было пятьсот бочонков такого вина; и весь экипаж (кроме штурмана, первого лейтенанта, двух матросов и одной леди в протекавшей шлюпке) принялся разбивать бочонки, перепился и погиб, распевая «Правь, Британия»; судно пошло ко дну, и их пенье закончилось отчаянным воплем.
– А когда «Георга Второго» прибило к корнуэльскому берегу, дядя, в страшную бурю, за два часа до рассвета, четвертого марта семьдесят первого года, на борту было около двухсот лошадей; в самом начале бури лошади, сорвавшись с привязи внизу, в трюме, стали метаться во все стороны, топча друг друга, подняли такой шум и испускали такие человеческие вопли, что экипаж подумал, будто корабль кишит чертями, даже самые храбрые испугались, потеряли голову и в отчаянии бросились за борт, и в живых остались только двое, которые поведали о случившемся.
– А когда, – сказал старый Соль, – когда «Полифем»…
– Частное торговое вест-индское судно, тоннаж триста пятьдесят, капитан Джон Браун из Детфорда. Владельцы Уигс и К°! – воскликнул Уолтер.
– Оно самое, – сказал Соль. – Когда оно загорелось среди ночи, после четырехдневного плавания при попутном ветре, по выходе из Ямайского порта…
– На борту было два брата, – перебил племянник очень быстро и громко, – а так как для обоих места в единственной целой шлюпке не было, ни тот, ни другой не соглашался сесть в нее, пока старший не взял младшего за пояс и не швырнул в лодку. Тогда младший поднялся в шлюпке и крикнул: «Дорогой Эдуард, подумай о своей невесте, оставшейся дома. Я еще молод. Дома никто меня не ждет. Прыгай на мое место!» – и бросился в море.