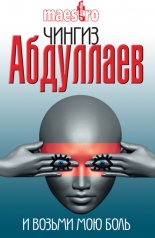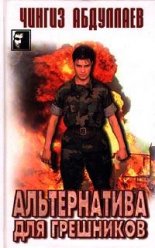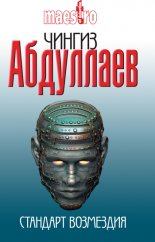Домби и сын Диккенс Чарльз
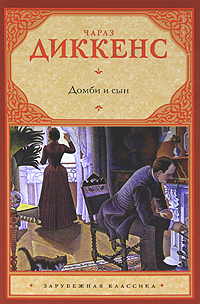
Глава I
Домби и сын
Домби сидел в углу затемненной комнаты в большом кресле у кровати, а Сын лежал тепло укутанный в плетеной колыбельке, заботливо поставленной на низкую кушетку перед самым камином и вплотную к нему, словно по природе своей он был сходен со сдобной булочкой и надлежало хорошенько его подрумянить, покуда он только что испечен.
Домби было около сорока восьми лет. Сыну около сорока восьми минут. Домби был лысоват, красноват и хотя был красивым, хорошо сложенным мужчиной, но имел слишком суровый и напыщенный вид, чтобы располагать к себе. Сын был очень лыс и очень красен и, хотя был (разумеется) прелестным младенцем, казался слегка измятым и пятнистым. Время и его сестра Забота оставили на челе Домби кое-какие следы, как на дереве, которое должно быть своевременно срублено, – безжалостны эти близнецы, разгуливающие по своим лесам среди смертных, делая мимоходом зарубки, – тогда как лицо Сына было иссечено вдоль и поперек тысячью морщинок, которые то же предательское Время будет с наслаждением стирать и разглаживать тупым краем своей косы, приготовляя поверхность для более глубоких своих операций.
Домби, радуясь долгожданному событию, позвякивал массивной золотой цепочкой от часов, видневшейся из-под его безукоризненного синего сюртука, на котором фосфорически поблескивали пуговицы в тусклых лучах, падавших издали от камина. Сын сжал кулачки, как будто грозил по мере своих слабых сил жизни за то, что она настигла его столь неожиданно.
– Миссис Домби, – сказал мистер Домби, – фирма снова будет не только по названию, но и фактически Домби и Сын. Домби и Сын!
Эти слова подействовали столь умиротворяюще, что он присовокупил ласкательный эпитет к имени миссис Домби (впрочем, не без колебаний, ибо не имел привычки к такой форме обращения) и сказал: «Миссис Домби, моя… моя милая».
Вспыхнувший на миг румянец, вызванный легким удивлением, залил лицо больной леди, когда она подняла на него глаза.
– При крещении, конечно, ему будет дано имя Поль, моя… миссис Домби.
Она слабо отозвалась: «Конечно», или, вернее, прошептала это слово, едва шевеля губами, и снова закрыла глаза.
– Имя его отца, миссис Домби, и его деда! Хотел бы я, чтобы его дед дожил до этого дня!
И снова он повторил «Домби и Сын» точь-в-точь таким же тоном, как и раньше.
В этих трех словах заключался смысл всей жизни мистера Домби. Земля была создана для Домби и Сына, дабы они могли вести на ней торговые дела, а солнце и луна были созданы, чтобы озарять их своим светом… Реки и моря были сотворены для плавания их судов; радуга сулила им хорошую погоду; ветер благоприятствовал или противился их предприятиям; звезды и планеты двигались по своим орбитам, дабы сохранить нерушимой систему, в центре коей были они. Обычные сокращения обрели новый смысл и относились только к ним: A. D. отнюдь не означало anno Domini[1], но символизировало anno Dombei[2] и Сына.
Он поднялся, как до него поднялся его отец, по закону жизни и смерти, от Сына до Домби, и почти двадцать лет был единственным представителем фирмы. Из этих двадцати лет он был женат десять – женат, как утверждал кое-кто, на леди, не отдавшей ему своего сердца, на леди, чье счастье осталось в прошлом и которая удовольствовалась тем, что заставила свой сломленный дух примириться, почтительно и покорно, с настоящим. Такие пустые слухи вряд ли могли дойти до мистера Домби, которого они близко касались, и, пожалуй, никто на свете не отнесся бы к ним с большим недоверием, чем он, буде они дошли бы до него. Домби и Сын часто имели дело с кожей, но никогда – с сердцем. Этот модный товар они предоставляли мальчишкам и девчонкам, пансионам и книгам. Мистер Домби рассудил бы, что брачный союз с ним должен, по природе вещей, быть приятным и почетным для любой женщины, наделенной здравым смыслом; что надежда дать жизнь новому компаньону такой фирмы не может не пробуждать сладостного и волнующего честолюбия в груди наименее честолюбивой представительницы слабого пола; что миссис Домби подписывала брачный договор – акт почти неизбежный в семьях благородных и богатых, не говоря уже о необходимости сохранить название фирмы, – отнюдь не закрывая глаз на эти преимущества; что миссис Домби ежедневно узнавала на опыте, какое положение он занимает в обществе; что миссис Домби всегда сидела во главе его стола и исполняла в его доме обязанности хозяйки весьма прилично и благопристойно; что миссис Домби должна быть счастлива; что иначе быть не может.
Впрочем, с одной оговоркой. Да. Ее он готов был принять. С одной-единственной; но она несомненно заключала в себе многое. Они были женаты десять лет, и вплоть до сегодняшнего дня, когда мистер Домби, позвякивая массивной золотой цепочкой от часов, сидел в большом кресле у кровати, у них не было потомства… о котором стоило бы говорить, никого, кто был бы достоин упоминания. Лет шесть назад у них родилась дочь, и вот сейчас девочка, незаметно пробравшаяся в спальню, робко жалась в углу, откуда ей видно было лицо матери. Но что такое девочка для Домби и Сына? В капитале, коим являлись название и честь фирмы, этот ребенок был фальшивой монетой, которую нельзя вложить в дело, – мальчиком ни на что не годным, – и только.
Но в этот момент чаша радости мистера Домби была так полна, что он почувствовал желание уделить одну-две капли ее содержимого даже для того, чтобы окропить пыль на заброшенной тропе своей маленькой дочери.
Поэтому он сказал:
– Пожалуй, Флоренс, ты можешь, если хочешь, подойти и посмотреть на своего славного братца. Не дотрагивайся до него.
Девочка пристально взглянула на синий фрак и жесткий белый галстук, которые, вместе с парой скрипящих башмаков и очень громко тикающими часами, воплощали ее представление об отце; но глаза ее тотчас же обратились снова к лицу матери, и она не шевельнулась и не ответила.
Через секунду леди открыла глаза и увидела девочку, и девочка бросилась к ней и, поднявшись на цыпочки, чтобы спрятать лицо у нее на груди, прильнула к матери с каким-то страстным отчаянием, отнюдь не свойственным ее возрасту.
– Ах, Боже мой! – с раздражением сказал мистер Домби, вставая. – Право же, ты очень неблагоразумна и опрометчива. Пожалуй, следует обратиться к доктору Пепсу, не будет ли он так любезен еще раз подняться сюда. Я пойду. Мне незачем просить вас, – добавил он, задерживаясь на секунду возле кушетки перед камином, – проявить сугубую заботу об этом юном джентльмене, миссис…
– Блокит, сэр? – подсказала сиделка, приторная увядшая особа с аристократическими замашками, которая не решилась объявить свое имя как непреложный факт и только назвала его в виде смиренной догадки.
– Об этом юном джентльмене, миссис Блокит.
– Да, конечно. Помню, когда родилась мисс Флоренс…
– Да, да, да, – сказал мистер Домби, наклоняясь над плетеной колыбелькой и в то же время слегка сдвигая брови. – Что касается мисс Флоренс, то все это прекрасно, но сейчас другое дело. Этому юному джентльмену предстоит выполнить свое назначение. Назначение, мальчуган! – После такого неожиданного обращения к младенцу он поднес его ручку к своим губам и поцеловал ее; затем, опасаясь, по-видимому, что этот жест может умалить его достоинство, удалился в некотором замешательстве.
Доктор Паркер Пепс, один из придворных врачей и человек, пользовавшийся великой славой за помощь, оказываемую им при увеличении аристократических семейств, шагал, заложив руки за спину, по гостиной, к невыразимому восхищению домашнего врача, который последние полтора месяца разглагольствовал среди своих пациентов, друзей и знакомых о предстоящем событии, по случаю коего ожидал с часа на час, днем и ночью, что его призовут вместе с доктором Паркером Пепсом.
– Ну, сэр, – сказал доктор Паркер Пепс низким, глубоким, звучным голосом, приглушенным по случаю события, как закутанный дверной молоток, – находите ли вы, что ваше посещение подбодрило вашу милую супругу?
– Так сказать, стимулировало, – тихо добавил домашний врач, кланяясь в то же время доктору и как бы говоря: «Простите, что я вставил словечко, но это ценное добавление».
Мистер Домби был совершенно сбит с толку вопросом. Он так мало думал о больной, что не в состоянии был на него ответить. Он сказал, что ему доставило бы удовольствие, если бы доктор Паркер Пепс согласился еще раз подняться наверх.
– Прекрасно. Мы не должны скрывать от вас, сэр, – произнес доктор Паркер Пепс, – что заметен некоторый упадок сил у ее светлости герцогини… прошу прощения: я путаю имена… я хотел сказать – у вашей любезной супруги. Заметна некоторая слабость и вообще отсутствие жизнерадостности, которые нам желательно было бы… не…
– Наблюдать, – подсказал домашний врач, снова наклоняя голову.
– Вот именно! – произнес доктор Паркер Пепс. – Которые нам желательно было бы не наблюдать. Обнаруживается, что организм леди Кенкеби… простите: я хотел сказать – миссис Домби, я путаю имена больных…
– Столь многочисленных, – прошептал домашний врач, – право же, нельзя ожидать… в противном случае это было бы чудом… практика доктора Паркера Пепса в Вест-Энде…
– Благодарю вас, – сказал доктор, – вот именно. Обнаруживается, говорю я, что организм нашей пациентки перенес потрясение, от которого он может оправиться только с помощью напряженного и упорного…
– И энергического, – прошептал домашний врач.
– Вот именно, – согласился доктор, – и энергического усилия. Мистер Пилкинс, здесь присутствующий, который, занимая положение медика-консультанта в этом семействе – не сомневаюсь, что нет человека, более достойного занимать это положение…
– О! – прошептал домашний врач. – Похвала сэра Хьюберта Стэнли![3]
– Очень любезно с вашей стороны, – отозвался доктор Паркер Пепс. – Мистер Пилкинс, который благодаря своему положению превосходно знает организм пациентки в нормальном его состоянии (знание весьма ценное для наших заключений при данных обстоятельствах), разделяет мое мнение, что в настоящем случае природе надлежит сделать энергическое усилие и что если наш очаровательный друг, графиня Домби – прошу прощения! – миссис Домби будет не…
– В состоянии, – подсказал домашний врач.
– Сделать надлежащее усилие, – продолжал доктор Паркер Пепс, – то может наступить кризис, о чем мы оба будем искренне сожалеть.
После этого они стояли несколько секунд с опущенными глазами. Затем по знаку, молча поданному доктором Паркером Пепсом, они отправились наверх, домашний врач открыл дверь перед знаменитым специалистом и последовал за ним с раболепнейшей учтивостью.
Утверждать, что мистер Домби не был по-своему опечален этим сообщением, значило бы отнестись к нему несправедливо. Он был не из тех, о ком можно с правом сказать, что этот человек бывал когда-нибудь испуган или потрясен; но несомненно он чувствовал, что, если жена заболеет и зачахнет, он будет очень огорчен и обнаружит среди своего столового серебра, мебели и прочих домашних вещей отсутствие некоего предмета, которым весьма стоило обладать и потеря коего не может не вызвать искреннего сожаления. Однако это было бы, разумеется, холодное, деловое, приличествующее джентльмену, сдержанное сожаление.
Его размышления на эту тему были прерваны сначала шорохом платья на лестнице, а затем внезапно ворвавшейся в комнату леди, скорее пожилой, чем юной, но одетой как молоденькая, в особенности если судить по туго затянутому корсету, которая, подбежав к нему, – что-то напряженное в ее лице и манерах свидетельствовало о сдержанном возбуждении, – обвила руками его шею и сказала, задыхаясь:
– Дорогой мой Поль! Он – вылитый Домби!
– Ну-ну! – отвечал брат, ибо мистер Домби был ее братом. – Я нахожу, что в нем действительно есть фамильные черты. Не волнуйтесь, Луиза.
– Это очень глупо с моей стороны, – сказала Луиза, садясь и вынимая носовой платок, – но он… он такой настоящий Домби! Я никогда в жизни не видела подобного сходства!
– Но как сама Фанни? – спросил мистер Домби. – Что с Фанни?
– Дорогой мой Поль, – отозвалась Луиза, – решительно ничего. Поверь мне – решительно ничего. Осталось, конечно, утомление, но ничего похожего на то, что испытала я с Джорджем или с Фредериком. Необходимо сделать усилие. Вот и все. Ах, если бы милая Фанни была Домби… Но, полагаю, она сделает это усилие; не сомневаюсь, она его сделает. Зная, что это требуется от нее во исполнение долга, она, конечно, сделает. Дорогой мой Поль, знаю, что с моей стороны очень слабохарактерно и глупо так дрожать и трепетать с головы до ног, но я чувствую такое головокружение, что принуждена попросить у вас рюмку вина и кусок вон того торта. Я думала, что вывалюсь из окна на лестнице, когда спускалась вниз, навестив милую Фанни и этого чудного ангелочка. – Последние слова были вызваны внезапным и ярким воспоминанием о младенце.
Вслед за ними раздался тихий стук в дверь.
– Миссис Чик, – произнес за дверью медоточивый женский голос, – милый друг, как вы себя чувствуете сейчас?
– Дорогой мой Поль, – тихо сказала Луиза, вставая, – это мисс Токс. Добрейшее создание! Не будь ее, я бы никогда не могла добраться сюда! Мисс Токс – мой брат, мистер Домби. Поль, дорогой мой, – это мой лучший друг, мисс Токс.
Леди, столь выразительно представленная, была долговязая, тощая и до крайности поблекшая особа; казалось, на нее не было отпущено первоначально то, что торговцы мануфактурой называют «стойкими красками», и она мало-помалу вылиняла. Не будь этого, ее можно было бы назвать ярчайшим образцом любезности и учтивости. От долгой привычки восторженно прислушиваться ко всему, что говорится при ней, и смотреть на говоривших так, словно она мысленно запечатлевает их образы в своей душе, дабы не расставаться с ними до конца жизни, голова у нее совсем склонилась к плечу. Руки обрели судорожную привычку подниматься сами собою в безотчетном восторге. Восторженным был и взгляд. Голос у нее был сладчайший, а на носу, чудовищно орлином, красовалась шишка в самом центре переносицы, откуда нос устремлялся вниз, как бы приняв нерушимое решение никогда и ни при каких обстоятельствах не задираться.
Платье мисс Токс, вполне элегантное и благопристойное, было, впрочем, несколько мешковато и убого. Она имела обыкновение украшать странными чахлыми цветочками шляпки и чепцы. Неведомые травы появлялись иной раз в ее волосах; и было отмечено любопытными, что у всех ее воротничков, оборочек, косынок, рукавчиков и прочих воздушных принадлежностей туалета – в сущности у всех вещей, какие она носила и какие имели два конца, коим надлежало соединиться, – эти два конца никогда не бывали в добром согласии и не желали сойтись без борьбы. Зимой она носила меха – пелерины, боа и муфты, – на которых волос неудержимо топорщился и никогда не бывал приглажен. У нее было пристрастье к небольшим ридикюлям с замочками, которые при защелкивании стреляли, словно маленькие пистолеты; и, нарядившись в парадное платье, она надевала на шею жалкий медальон, изображающий старый рыбий глаз, лишенный какого бы то ни было выражения. Эти и другие подобные же черточки способствовали распространению слухов, что мисс Токс, как говорится, леди с ограниченными средствами, при которых она изворачивается на все лады. Быть может, ее манера семенить ногами поддерживала это мнение и наводила на мысль, что рассечение обычного шага на два или на три объясняется ее привычкой из всего извлекать наибольшую выгоду.
– Уверяю вас, – сказала мисс Токс, делая изумительный реверанс, – что честь быть представленной мистеру Домби является наградой, которой я давно добивалась, но в данный момент никак не ожидала. Дорогая миссис Чик… смею ли назвать вас – Луиза?
Миссис Чик взяла мисс Токс за руку, прислонила ее руку к своей рюмке, проглотила слезу и тихим голосом сказала:
– Благослови вас Бог!
– Дорогая моя Луиза, – промолвила мисс Токс, – мой милый друг, как вы себя чувствуете теперь?
– Лучше, – ответила миссис Чик. – Выпейте вина. Вы волновались почти так же, как и я, и несомненно нуждаетесь в подкреплении.
Конечно, мистер Домби исполнил обязанность хозяина дома.
– Мисс Токс, Поль, – продолжала миссис Чик, все еще держа ее за руку, – зная, с каким нетерпением я ждала сегодняшнего события, приготовила для Фанни маленький подарок, который я обещала преподнести ей. Поль, это всего-навсего подушечка для булавок на туалетный столик, но я намерена сказать, должна сказать и скажу, что мисс Токс очень мило подыскала изречение, приличествующее событию. Я нахожу, что «Добро пожаловать, малютка Домби» – это сама поэзия!
– Это такое приветствие? – осведомился ее брат.
– О да, приветствие! – ответила Луиза.
– Но будьте справедливы ко мне, милая моя Луиза, – сказала мисс Токс голосом тихим и страстно умоляющим, – припомните, что только… я несколько затрудняюсь высказать свою мысль… только неуверенность в исходе побудила меня позволить себе такую вольность. «Добро пожаловать, маленький Домби» более соответствовало бы моим чувствам, в чем, конечно, вы не сомневаетесь. Но неизвестность, сопутствующая этим небесным пришельцам, надеюсь, послужит оправданием тому, что в противном случае показалось бы недопустимой фамильярностью.
Мисс Токс отвесила при этом изящный поклон, предназначавшийся мистеру Домби, на который сей джентльмен снисходительно ответил. Преклонение перед Домби и Сыном, даже в том виде, как оно выразилось в предшествовавшем разговоре, было столь ему приятно, что сестра его, миссис Чик, хотя он склонен был считать ее особой слабохарактерной и добродушной, могла возыметь на него большее влияние, чем кто бы то ни было.
– Да, – сказала миссис Чик с кроткой улыбкой, – после этого я прощаю Фанни все!
Это было заявление в христианском духе, и миссис Чик почувствовала, что оно облегчило ей душу. Впрочем, ничего особенного не нужно было ей прощать невестке, или, вернее, ровно ничего, кроме того что та вышла замуж за ее брата – это уже само по себе являлось некоей дерзостью, – а затем родила девочку вместо мальчика, – поступок, который, как частенько говорила миссис Чик, не вполне отвечал ее ожиданиям и отнюдь не был достойной наградой за все внимание и честь, какие были оказаны этой женщине.
Так как мистер Домби был срочно вызван из комнаты, обе леди остались одни. Мисс Токс тотчас обнаружила склонность к судорожным подергиваниям.
– Я знала, что вы будете восхищены моим братом. Я вас заранее предупреждала, моя милая, – сказала Луиза.
Руки и глаза мисс Токс выразили, насколько она восхищена.
– А что касается его состояния, моя милая!
– Ах! – с глубоким чувством промолвила мисс Токс.
– Колос-сальное!
– А его умение держать себя, дорогая моя Луиза! – сказала мисс Токс. – Его осанка! Его благородство! В жизни своей я не видела ни единого портрета, который хотя бы наполовину отражал эти качества. Нечто, знаете ли, такое величавое, такое непреклонное; такие широкие плечи, такой прямой стан! Герцог Йоркский коммерческого мира, моя милочка, да и только, – сказала мисс Токс. – Вот как бы я его назвала!
– Что с вами, дорогой мой Поль? – воскликнула его сестра, когда он вернулся. – Как вы бледны! Что-нибудь случилось?
– К сожалению, Луиза, они мне сказали, что Фанни…
– О! Дорогой мой Поль, – перебила его сестра, вставая, – не верьте им! Если вы в какой-то мере полагаетесь на мой опыт, Поль, вы можете не сомневаться, что все благополучно, и ничего кроме усилия со стороны Фанни не требуется. А к этому усилию, – продолжала она, озабоченно снимая шляпу и деловито поправляя чепчик и перчатки, – следует ее побудить и даже в случае необходимости принудить. Теперь, дорогой мой Поль, пойдемте вместе наверх.
Мистер Домби, который, находясь под влиянием своей сестры по причине, уже упомянутой, действительно доверял ей как опытной и расторопной матроне, согласился и немедленно последовал за нею в комнату больной.
Его жена все так же лежала на кровати, прижимая к груди маленькую дочь. Девочка прильнула к ней так же страстно, как и раньше, и не поднимала головы, не отрывала своей нежной щечки от лица матери, не смотрела на окружающих, не говорила, не шевелилась, не плакала.
– Тревожится без девочки, – шепнул доктор мистеру Домби. – Мы сочли нужным снова впустить ее.
Так торжественно тихо было у постели, и оба медика, казалось, смотрели на неподвижную фигуру с таким состраданием и такою безнадежностью, что миссис Чик на секунду отвлеклась от своих намерений. Но тотчас, призвав на помощь мужество и то, что она называла присутствием духа, она села у кровати и сказала тихим внятным голосом, как говорит человек, старающийся разбудить спящего:
– Фанни! Фанни!
Ни звука в ответ, только громкое тиканье часов мистера Домби и часов доктора Паркера Пепса, словно состязавшихся в беге среди мертвой тишины.
– Фанни, милая моя, – притворно веселым тоном сказала миссис Чик, – мистер Домби пришел вас навестить. Не хотите ли с ним поговорить? К вам в постель собираются положить вашего мальчика – вашего малютку, Фанни, вы, кажется, почти не видели его; но этого нельзя сделать, пока вы не будете чуточку бодрее. Не думаете ли вы, что пора бы уже чуточку приободриться? Что?
Она приблизила ухо к постели и прислушалась, в то же время окинув взглядом окружающих и подняв палец.
– Что? – повторила она. – Что вы сказали, Фанни? Я не расслышала.
Ни слова, ни звука в ответ. Часы мистера Домби и часы доктора Паркера Пепса словно ускорили бег.
– Право же, Фанни, милая моя, – сказала золовка, меняя позу и помимо своей воли заговорив менее уверенно и более серьезно, – мне придется на вас рассердиться, если вы не подбодритесь. Необходимо, чтобы вы сделали усилие – быть может, очень напряженное и мучительное усилие, которое вы не расположены делать, но ведь вы знаете, Фанни, в этом мире все требует усилий, и мы не должны уступать, когда столь многое от нас зависит. Ну-ка! Попытайтесь! Право же, придется мне вас пожурить, если вы этого не сделаете!
В спустившейся тишине состязание в беге стало неистовым и ожесточенным. Часы словно налетали друг на друга и подставляли друг другу ножку.
– Фанни! – продолжала Луиза, озираясь с нарастающей тревогой. – Вы хоть взгляните на меня. Откройте только глаза, чтобы показать, что вы меня слышите и понимаете; хорошо? Боже мой, что же нам делать, джентльмены?
Оба медика, стоявшие по обеим сторонам кровати, обменялись взглядами, и домашний врач, нагнувшись, шепнул что-то на ухо девочке. Не понимая смысла его слов, малютка повернула к нему мертвенно-бледное лицо с глубокими темными глазами, но не разжала объятий.
Снова шепот.
– Мама! – сказала девочка.
Детский голос, знакомый и горячо любимый, вызвал проблеск сознания, уже угасавшего. На мгновение опущенные веки дрогнули, ноздри затрепетали, и мелькнула слабая тень улыбки.
– Мама! – рыдая, воскликнула девочка. – О мамочка, мамочка!
Доктор мягко отвел рассыпавшиеся кудри ребенка от лица и губ матери. Увы, они лежали недвижно – слишком слабо было дыхание, чтобы их пошевелить.
Так, держась крепко за эту хрупкую тростинку, прильнувшую к ней, мать уплыла в темный и неведомый океан, который омывает весь мир.
Глава II,
в которой своевременно принимаются меры по случаю неожиданного стечения обстоятельств, возникающих иногда в самых благополучных семействах
– Я никогда не перестану радоваться тому, – заявила миссис Чик, – что сказала, когда меньше всего могла предвидеть случившееся, – право же, меня словно что-то осенило, – сказала тогда, что все прощаю бедной дорогой Фанни. Что бы ни случилось, это навсегда останется для меня утешением!
Это внушительное замечание миссис Чик сделала в гостиной, куда спустилась сверху (она надзирала за портнихами, занятыми шитьем семейного траура). Она изрекла его в назидание мистеру Чику, дородному лысому джентльмену, с очень широким лицом, который постоянно держал руки в карманах и обладал прирожденной склонностью насвистывать и мурлыкать песенки – склонностью, каковую он, сознавая неприличие подобных звуков в доме скорби, не без труда подавлял в настоящее время.
– Не переутомляйся, Лу, – сказал мистер Чик, – а не то у тебя будет припадок. Ля-ля-ля пам-пам-пим! Ах, Боже мой, забыл! Сегодня мы живы, а завтра умрем!
Миссис Чик удовольствовалась укоризненным взглядом, а затем продолжала свою речь.
– Да, – сказала она, – надеюсь, это потрясающее событие послужит для всех нас предостережением и научит нас бодриться и своевременно делать усилия, когда они от нас требуются. Из всего можно извлечь мораль, если бы мы только умели ею пользоваться. Наша будет вина, если мы и сейчас упустим эту возможность.
Мистер Чик нарушил торжественную тишину, наступившую вслед за этим замечанием, в высшей степени неуместным напевом «Сапожник он был» и, оборвав его с некоторым смущением, произнес, что несомненно это наша вина, если мы не извлекаем пользы из таких печальных событий.
– Я полагаю, мистер Чик, что из них можно извлечь больше пользы, – возразила его супруга после недолгого молчания, – если не напевать «Школьной волынки» или не менее бессмысленного и бесчувственного мотива «рам-пам-пам-ляля-ля-лям» (которым мистер Чик действительно услаждал себя потихоньку и который миссис Чик воспроизвела с безграничным презрением).
– Это просто привычка, дорогая моя, – принес извинение мистер Чик.
– Вздор! Привычка! – отозвалась жена. – Если вы существо разумное, не приводите таких нелепых объяснений. Привычка! Если бы у меня развилась привычка (как вы это называете) разгуливать по потолку наподобие мух, думаю, что мне бы прожужжали все уши.
Казалось весьма правдоподобным, что такая привычка привлекла бы всеобщее внимание, а посему мистер Чик не посмел оспаривать это предположение.
– Как поживает младенец, Лу? – осведомился мистер Чик, желая переменить тему разговора.
– О каком младенце ты говоришь? – спросила миссис Чик. – Право же, ни один здравомыслящий человек не может себе представить, какое утро я провела там внизу, в столовой, с этой массой младенцев.
– Масса младенцев? – повторил мистер Чик, с тревогой озираясь.
– Большинство сообразило бы, – продолжала миссис Чик, – что теперь, когда больше нет с нами бедной милой Фанни, возникает необходимость подыскать кормилицу.
– О! А! – произнес мистер Чик. – Трам-там… – такова жизнь, хотел я сказать. Надеюсь, ты нашла себе по вкусу, дорогая моя.
– Конечно, не нашла, – ответила миссис Чик, – и вряд ли найду, насколько я могу предвидеть. А тем временем ребенок, конечно…
– Отправится ко всем чертям, – глубокомысленно заметил мистер Чик. – Несомненно.
Однако уведомленный о своем промахе тем негодованием, которое отразилось на лице миссис Чик при мысли о каком бы то ни было Домби, отправляющемся в подобные места, и надеясь загладить свою ошибку блестящей идеей, он добавил:
– А нельзя ли временно воспользоваться чайником?
Если у него было намерение привести разговор к быстрому окончанию, он не мог бы сделать это с большим успехом. Бросив на него взгляд, выражавший безмолвную покорность судьбе, миссис Чик величественно прошествовала к окну и посмотрела сквозь жалюзи, привлеченная стуком колес. Мистер Чик, убедившись, что в настоящее время судьба против него, не сказал больше ни слова и удалился. Но не всегда бывало так с мистером Чиком. Он часто одерживал верх и в таких случаях сурово расправлялся с Луизой. В общем, в своих супружеских стычках они были хорошо подобранной, прекрасно уравновешенной парой, не дававшей друг другу спуску. Собственно говоря, было бы очень трудно биться об заклад, кто из них выиграет сражение. Часто, когда мистер Чик как будто уже был разбит, он внезапно переходил в наступление, пускал в ход оружие своей противницы, бряцал им под ухом миссис Чик и одерживал полную победу. Так как ему самому грозили такие же неожиданные удары со стороны миссис Чик, то их легкие столкновения проходили с переменным успехом, что действовало весьма воодушевляюще.
Мисс Токс прибыла на только что упомянутых колесах и ворвалась в комнату, едва переводя дух.
– Дорогая моя Луиза, – сказала мисс Токс, – место еще не занято?
– Нет, добрая вы душа, – отвечала миссис Чик.
– В таком случае, дорогая моя Луиза, – продолжала мисс Токс, – я верю и уповаю… Но подождите минутку, дорогая моя, я представлю вам заинтересованную сторону…
Сбежав вниз с такою же быстротой, с какой взбежала наверх, мисс Токс высадила заинтересованную сторону из наемной кареты и вскоре вернулась, ведя ее под конвоем.
Тогда только обнаружилось, что она применила это слово не как юридический или деловой термин, означающий одного индивида, а как имя существительное собирательное или объединяющее многих лиц, – ибо мисс Токс эскортировала пухлую и румяную, цветущую молодую женщину с лицом, похожим на яблоко, державшую на руках младенца; женщину помоложе, не такую пухлую, но также с лицом, похожим на яблоко, которая вела за руки двух пухлых ребятишек с лицами, похожими на яблоко; еще одного пухлого мальчика, также с лицом, похожим на яблоко, который шел самостоятельно; и, наконец, пухлого мужчину с лицом, похожим на яблоко, который нес на руках еще одного пухлого мальчика с лицом, похожим на яблоко, коего он спустил на пол и хриплым шепотом приказал ему «ухватиться за брата Джонни».
– Милая Луиза, – сказала мисс Токс, – зная о вашем великом беспокойстве и желая вас выручить, я отправилась в Королевское убежище для замужних женщин королевы Шарлотты, о котором вы забыли, и спросила, нет ли там кого-нибудь, кто, по их мнению, мог бы подойти. Нет, – сказали они, – таких не имеется. Уверяю вас, дорогая моя, когда они мне дали этот ответ, я готова была впасть в отчаяние. Но случилось так, что одна из королевских замужних женщин, услышав мой вопрос, напомнила надзирательнице об одной особе, которая вернулась к себе домой и которая, по ее мнению, несомненно окажется весьма подходящей. Как только я это услышала и получила подтверждение от надзирательницы – превосходная рекомендация, безупречный характер, – тотчас, дорогая моя, взяла адрес и снова в путь.
– Как это на вас похоже, милая, добрая Токс! – сказала Луиза.
– Ничуть не бывало, – отвечала мисс Токс. – Не говорите этого. Войдя в дом (безукоризненная чистота, дорогая моя! обедать можно прямо на полу), я застала все семейство за столом, и, чувствуя, что никакой рассказ не доставит вам и мистеру Домби такого успокоения, как вид их, всех вместе взятых, я привезла их сюда. Этот джентльмен, – продолжала мисс Токс, указывая на мужчину с лицом, похожим на яблоко, – отец. Не угодно ли вам, сэр, выйти немного вперед?
Мужчина с лицом, похожим на яблоко, смущенно подчинившись этому требованию, занял место в первом ряду, посмеиваясь и ухмыляясь.
– Это, разумеется, его жена, – сказала мисс Токс, указывая на женщину с младенцем. – Как поживаете, Полли?
– Очень хорошо, благодарю вас, сударыня, – ответила Полли.
Желая поискусней представить ее, мисс Токс задала этот вопрос с таким видом, как будто обращалась к старой знакомой, которую не видела недели две.
– Очень рада, – сказала мисс Токс. – Другая молодая женщина – ее незамужняя сестра, которая живет с ними и будет присматривать за ее детьми. Ее зовут Джемайма. Как поживаете, Джемайма?
– Очень хорошо, благодарю вас, сударыня, – отвечала Джемайма.
– Чрезвычайно этому рада, – сказала мисс Токс. – Надеюсь, так будет и впредь. Пятеро детей. Младшему шесть недель. Этот славный мальчуган с волдырем на носу – старший. Надеюсь, – добавила мисс Токс, окинув взглядом семейство, – волдырь у него не от рождения, а вскочил случайно?
Можно было разобрать, что мужчина с лицом, похожим на яблоко, прохрипел:
– Утюг.
– Прошу прощения, сэр, – сказала мисс Токс, – вы говорите…
– Утюг, – повторил он.
– Ах да! – сказала мисс Токс. – Совершенно верно. Я забыла. Мальчуган в отсутствие матери понюхал горячий утюг. Вы совершенно правы. Когда мы подъезжали к дому, вы собирались любезно сообщить мне, что по профессии вы…
– Кочегар, – сказал мужчина.
– Кожедрал? – в ужасе воскликнула мисс Токс.
– Кочегар, – повторил мужчина. – На паровозе.
– О! Вот как! – отозвалась мисс Токс, глядя на него глубокомысленно и как будто все еще не совсем понимая, что это значит. – А как вам это нравится, сэр?
– Что, сударыня? – спросил мужчина.
– Вот это, – сказала мисс Токс. – Ваша профессия.
– Пожалуй, нравится, сударыня. Иной раз зола забивается сюда, – он указал на грудь, – и голос делается хриплым, вот как сейчас. Но это от золы, сударыня, а не от сварливости.
Казалось, мисс Токс столь мало почерпнула из этого ответа, что затруднялась продолжать разговор. Но миссис Чик тотчас же пришла ей на помощь, приступив к внимательнейшему рассмотрению Полли, детей, брачного свидетельства, рекомендаций и так далее. Полли вышла невредимой из этого трудного испытания, после чего миссис Чик отправилась с докладом к своему брату и в качестве яркой иллюстрации к докладу и в подтверждение его захватила с собой двух самых румяных маленьких Тудлей – фамилия яблоколицего семейства была Тудль.
Со смерти жены мистер Домби не выходил из своей комнаты, погруженный в размышления о юности, воспитании и предназначении своего младенца-сына. Что-то угнетало его жесткое сердце, что-то более холодное и тяжелое, чем обычное его бремя; но это было сознание потери, понесенной скорее ребенком, чем им самим, пробудившее в нем вместе с грустью чуть ли не досаду. Было унизительно и тяжело думать, что из-за пустяка жизни и развитию, на которые он возлагал такие надежды, с самого же начала грозит опасность, что Домби и Сын может пошатнуться из-за какой-то кормилицы. И, однако, в своей гордыне и ревности он с такою горечью размышлял о зависимости – на первых же шагах к осуществлению заветного желания – от наемной служанки, которая временно будет для его ребенка всем тем, чем была бы его собственная жена благодаря союзу с ним, что при каждом новом отводе кандидатки он испытывал тайную радость. Но настал момент, когда он не мог долее колебаться между этими двумя чувствами. Тем более что не было, казалось, никаких сомнений в пригодности Полли Тудль, о которой доложила его сестра, не поскупившись на похвалы неутомимой дружбе мисс Токс.
– Дети на вид здоровые, – сказал мистер Домби. – Но подумать только, что когда-нибудь они вздумают притязать на некое родство с Полем! Уведите их, Луиза! Покажите мне эту женщину и ее мужа.
Миссис Чик унесла нежную пару Тудлей и вскоре вернулась с более грубой парой, которую пожелал увидеть брат.
– Любезная, – сказал мистер Домби, поворачиваясь в своем кресле всем туловищем, словно у него не было конечностей и суставов, – мне сообщили, что вы бедны и хотите зарабатывать деньги, поступив кормилицей к маленькому мальчику, моему сыну, который преждевременно лишился той, кого никогда не удастся заменить. Я не возражаю против того, чтобы вы таким путем способствовали благосостоянию вашей семьи. Насколько я могу судить, вы производите впечатление порядочной особы. Но я должен вам поставить два-три условия, прежде чем вы займете это место в моем доме. Пока вы будете здесь жить, я настаиваю, чтобы вас всегда называли… ну, скажем, Ричардс… фамилия простая и приличная. Вы не возражаете против того, чтобы вас звали Ричардс? Можете посоветоваться с мужем.
Так как муж только посмеивался да ухмылялся и проводил правой рукой по губам, слюнявя ладонь, миссис Тудль, безуспешно подтолкнув его раз-другой локтем, присела и ответила, что, «быть может, если она должна отказаться от своего имени, об этом не забудут при назначении ей жалованья».
– О, разумеется, – сказал мистер Домби. – Я желаю, чтобы это было принято во внимание при оплате. Затем, Ричардс, если вы будете ходить за моим осиротевшим ребенком, я хочу, чтобы вы запомнили следующее: вы будете получать щедрое вознаграждение за исполнение некоторых обязанностей, причем я желаю, чтобы в течение этого времени вы как можно реже видели свою семью. Когда минует надобность в ваших услугах, когда вы перестанете их оказывать и не будете больше получать жалованье, всякие отношения между нами прекращаются. Вы меня понимаете?
Миссис Тудль как будто сомневалась в этом; что же касается до самого Тудля, то, очевидно, он нисколько не сомневался в том, что ничего не понимает.
– У вас у самой есть дети, – сказал мистер Домби. – В наш договор отнюдь не входит, что вы должны привязаться к моему ребенку или что мой ребенок должен привязаться к вам. Я не жду и не требую чего-либо в этом роде. Как раз наоборот. Когда вы отсюда уйдете, вы расторгнете отношения, которые являются всего-навсего договором о купле-продаже, о найме, и устранитесь. Ребенок перестанет вспоминать о вас; и вы будьте так добры – не вспоминайте о ребенке.
Миссис Тудль, разрумянившись чуть-чуть сильнее, чем раньше, выразила надежду, «что она свое место знает».
– Надеюсь, что знаете, Ричардс, – сказал мистер Домби. – Нисколько не сомневаюсь, что вы его прекрасно знаете. В самом деле, это так ясно и очевидно, что иначе и быть не может. Луиза, дорогая моя, условьтесь с Ричардс о жалованье, и пусть она его получает, когда и как ей будет угодно. Мистер, как вас там зовут, я хочу вам кое-что сказать.
Задержанный таким образом на пороге в тот момент, когда он собирался выйти вслед за женой из комнаты, Тудль вернулся и остался наедине с мистером Домби. Это был сильный, неуклюжий, сутулый, неповоротливый, лохматый человек в мешковатом костюме, с густыми волосами и бакенбардами, ставшими темнее, чем были от природы, быть может, благодаря дыму и угольной пыли, с мозолистыми, узловатыми руками и квадратным лбом, шершавым, как дубовая кора. Полная противоположность во всех отношениях мистеру Домби, который был одним из тех чисто выбритых, холеных, богатых джентльменов, которые блестят и хрустят, как новенькие кредитные билеты, и кажется, будто их искусственно взбадривает возбуждающее действие золотого душа.
– У вас, кажется, есть сын? – спросил мистер Домби.
– Четверо их. Четверо и одна девочка. Все здравствуют.
– Да ведь у вас едва хватает средств их содержать? – сказал мистер Домби.
– Есть еще одна штука, сэр, которая мне никак не по средствам.
– Что именно?
– Потерять их, сэр.
– Читать умеете? – спросил мистер Домби.
– Кое-как, сэр.
– Писать?
– Мелом, сэр?
– Чем угодно.
– Пожалуй, мог бы как-нибудь управиться с мелом, если бы понадобилось, – подумав, сказал Тудль.
– А ведь вам, полагаю, – сказал мистер Домби, – года тридцать два – тридцать три.
– Полагаю, что примерно столько, – отвечал Тудль, снова подумав.
– В таком случае почему же вы не учитесь? – спросил мистер Домби.
– Да вот я и собираюсь. Один из моих мальчуганов будет меня обучать, когда подрастет и сам пойдет в школу.
– Так! – сказал мистер Домби, посмотрев на него внимательно и не очень благосклонно, в то время как тот стоял, обозревая комнату (преимущественно потолок) и по-прежнему проводя рукою по губам. – Вы слышали, что я сказал только что вашей жене?
– Полли слышала, – отвечал Тудль, махнув через плечо шляпой в сторону двери с видом полного доверия к своей лучшей половине. – Все в порядке.
– Так как вы, по-видимому, все предоставляете ей, – сказал Домби, обескураженный в своем намерении еще внушительнее изложить свою точку зрения мужу как сильнейшему, – то, полагаю, не имеет смысла говорить о чем бы то ни было с вами.
– Ровно никакого, – отвечал Тудль. – Полли слышала. Уж она-то не зевает, сэр.
– В таком случае я вас не задерживаю дольше, – сказал разочарованный мистер Домби. – Где вы работали раньше и где теперь работаете?
– Все больше под землей, сэр, покуда не женился. Потом я выбрался на поверхность. Разъезжаю по одной из этих железных дорог, с той поры как их построили.
Подобно тому, как последняя соломинка может сломать спину нагруженного верблюда, так это сообщение о шахте сокрушило слабеющий дух мистера Домби. Он указал на дверь мужу кормилицы своего сына; когда тот охотно удалился, мистер Домби повернул ключ и стал ходить по комнате, одинокий и несчастный. Несмотря на все свое накрахмаленное, непроницаемое величие и хладнокровие, он смахивал при этом слезы и часто повторял с волнением, которого ни за что на свете не согласился бы проявить на людях: «Бедный мальчик!»
Быть может, характерно для гордыни мистера Домби, что о самом себе он сожалел через ребенка. Не «бедный я!», не бедный вдовец, принужденный довериться жене невежественного простака, который всю жизнь работал «все больше под землей», но в чью дверь ни разу не постучалась Смерть и за чей стол ежедневно садилось четверо сыновей, но – «бедный мальчик!»
Эти слова были у него на устах, когда ему пришло в голову – и это свидетельствует о сильном тяготении его надежд, страхов и всех его мыслей к единому центру, – что великое искушение встает на пути этой женщины. Ее новорожденный тоже мальчик. Не может ли она подменить ребенка?
Хотя он вскоре облегченно отогнал это предположение как романтическое и неправдоподобное, – но все же возможное, чего нельзя было отрицать, – он невольно развил его, представив мысленно, каково будет его положение, если он, состарившись, обнаружит такой обман. В состоянии ли будет человек при таких условиях отнять у самозванца то, что создано многолетней привычкой, уверенностью и доверием, и отдать все чужому?
Когда несвойственное ему волнение улеглось, эти опасения постепенно рассеялись, хотя тень их осталась, и он принял решение наблюдать внимательно за Ричардс, скрывая это от окружающих. Находясь теперь в более спокойном расположении духа, он пришел к выводу, что общественное положение этой женщины является скорее благоприятным обстоятельством, ибо оно уже само по себе отдаляет ее от ребенка и сделает их разлуку легкой и естественной.
Тем временем между миссис Чик и Ричардс было заключено и скреплено соглашение с помощью мисс Токс, а Ричардс, которой с большими церемониями вручили, словно некий орден, младенца Домби, передала своего собственного ребенка со слезами и поцелуями Джемайме. Затем было подано вино, чтобы поднять дух семейства.
– Не хотите ли выпить стаканчик, сэр? – предложила мисс Токс, когда явился Тудль.
– Благодарю вас, сударыня, – сказал Тудль, – уж коли вы угощаете…
– И вы с радостью оставляете свою славную жену в таком прекрасном доме, не так ли, сэр? – продолжала мисс Токс, украдкой кивая ему и подмигивая.
– Нет, сударыня, – сказал Тудль. – Пью за то, чтобы она опять была дома.
При этом Полли еще сильнее заплакала. Посему миссис Чик, которая, как и подобает матроне, обеспокоилась, как бы чрезмерная скорбь не причинила ущерба маленькому Домби («молоко пропадет, пожалуй», – шепнула она мисс Токс), поспешила на выручку.
– Ваш малютка, Ричардс, будет превосходно себя чувствовать с вашей сестрой Джемаймой, – сказала миссис Чик, – а вам нужно только сделать усилие, – в этом мире, знаете ли, все требует усилий, Ричардс, – чтобы быть совершенно счастливой. С вас уже сняли мерку для траурного платья, не так ли, Ричардс?
– Да-а, сударыня, – всхлипывала Полли.
– И оно будет прекрасно сидеть на вас, я уверена, – сказала миссис Чик, – потому что эта же молодая особа сшила мне много платьев. И из лучшей материи!
– Ах, вы будете такой франтихой, – сказала мисс Токс, – что муж вас не узнает. Не правда ли, сэр?
– Я бы ее узнал в чем угодно и где угодно, – проворчал Тудль.
Было ясно, что Тудля не подкупишь.
– А что касается стола, Ричардс, – продолжала миссис Чик, – то к вашим услугам будет все самое лучшее. Ежедневно вы будете сами заказывать себе обед; и все, чего бы вы ни пожелали, тотчас вам приготовят, словно вы какая-нибудь леди.
– Да, разумеется! – с большою готовностью подхватила мисс Токс. – И портер – в неограниченном количестве, правда, Луиза?
– О, несомненно! – отвечала в том же тоне миссис Чик. – Придется только, милая моя, слегка воздерживаться от овощей.